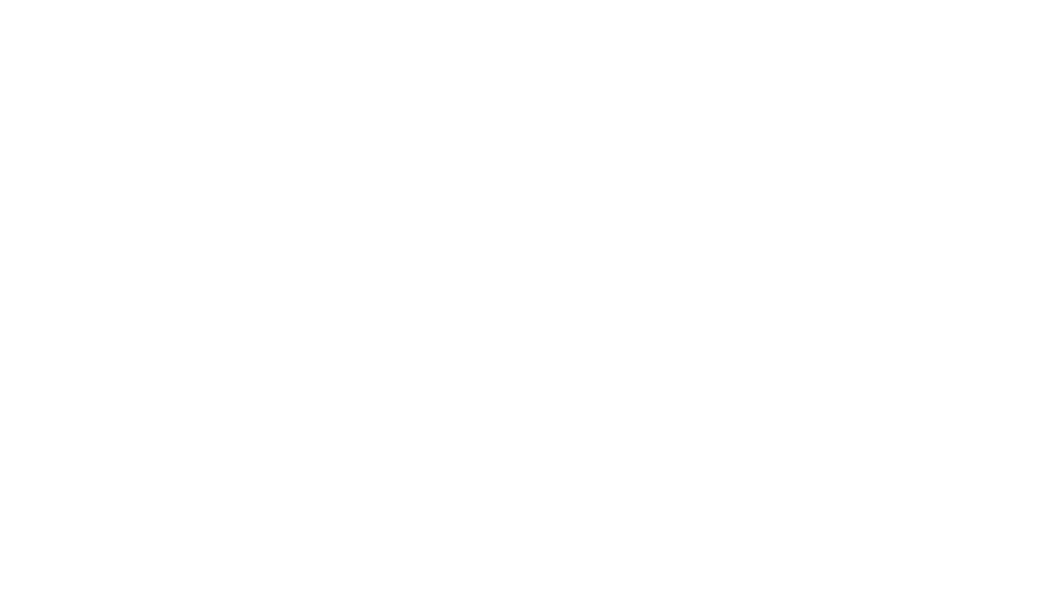
Мария Александрова — Имя живущее
(О стихотворении Григория Медведева «Дом»)
Мария Александрова – поэт, прозаик, критик. Участница Студии критики журнала «Пролиткульт» (2024), Форума молодых писателей «Липки» (2024). Финалистка премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2023), финалистка конкурса критики «Пристальное прочтение поэзии» в номинации «Поэтическая книга десятилетия: лучшая рецензия» (2024). Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Пролиткульт», Prosodia.
Григорий Медведев (род. в 1983 г.) — поэт, который говорит негромко о главном, глядя на это главное через призму повседневного.
Отличительными чертами его поэзии Елена Севрюгина называет эмоциональную сдержанность, словесный аскетизм, отсутствие избыточных художественных деталей, повествовательность[1].
Артём Скворцов отмечает, что поэтика Медведева родственна Борису Слуцкому и в особенности Олегу Чухонцеву, а также подчеркивает элегичность его стихов и полное отсутствие какой-либо рисовки во взгляде на себя[2].
Укладывается в эту канву и стихотворение «Дом».
Отличительными чертами его поэзии Елена Севрюгина называет эмоциональную сдержанность, словесный аскетизм, отсутствие избыточных художественных деталей, повествовательность[1].
Артём Скворцов отмечает, что поэтика Медведева родственна Борису Слуцкому и в особенности Олегу Чухонцеву, а также подчеркивает элегичность его стихов и полное отсутствие какой-либо рисовки во взгляде на себя[2].
Укладывается в эту канву и стихотворение «Дом».
ДОМ
Я просыпаюсь в доме моего прадеда.
Редкий русский может так о себе сказать.
Я просыпаюсь в доме моего прадеда на рассвете в конце января,
в маленьком городе у реки на границе леса с подстепьем,
на Красноармейской (бывшей Подьяческой),
ведущей к Красной площади (бывшей Нижней Торговой).
От нее раскинулись улицы, словно пальцы:
как если бы, сидя спиной к реке,
ладонь положить на землю.
Крепко держали городок в кулаке купцы
Нечаевы, Паршины, Грязевы.
Девять храмов построили.
Прадед не участвовал, сумел увернуться, ломали другие.
Болдин какой-то особо усердствовал, по воспоминаниям,
Пестерев и Сопронов.
Все храмы свели на нет.
Потому крестили меня не здесь.
Повезли в деревню за тридевять километров,
вниз по Советской (бывшей Соборной) и дальше.
Тайно, чтобы без неприятностей на работе.
Морозно, окна заиндевели, шумит АГВ.
Две крохотные комнаты и одна чуть побольше.
Как они все здесь умещались? —
Прадед, прабабка, четверо их детей
да еще родственники-приживалы.
После войны им стало свободней, втроем.
А позже уже мой дед
дом расширил: кухню пристроил, веранду,
новые яблони посадил.
В доме тепло, за стеной заснеженные деревья.
На соседней улице, Карла Маркса (бывшей Дворянской), —
пять сотен шагов отсюда —
жили Бунины в каменном одноэтажном особняке.
Иван у них часто гащивал, у матери с братом.
Писал здесь «Чашу жизни», «Деревню» и прочее.
Я читал, понял почти все слова, я еще русский?
Люблю вообразить их встречу,
Бунина с моим прадедом Алексеем.
Писатель бы яблок купил у него
на Верхней Торговой (сейчас Комсомольской)
или случайно плечами столкнулись бы
где-нибудь на Московской (ныне Свердлова).
Мне приятно думать об этом.
Но нет, не могли.
Я просыпаюсь один в доме моего прадеда,
куда он заселился в середине двадцатых,
как ценный руководящий кадр,
вместо прежних жильцов —
священника с женой и их дочек,
чьи имена мы постарались забыть.
(Григорий Медведев. Экран озарился светом нездешним // Prosōdia. — 19.08.2021)
Ночевка в доме прадеда в старинном провинциальном городке запускает процесс воспоминаний, как мадленка Пруста. Воспоминания разворачиваются нехронологично. Разные периоды прошлого перемежаются с настоящим. Всё, как в памяти, где разрозненные воспоминания цепляются друг за друга, перебивают, накладываются, а до самого неприятного доходишь в последнюю очередь.
Медведев, чаще обращающийся к силлабо-тонике, в этом стихотворении выбрал верлибр и сделал его нарочито прозаичным. Это почти телеграфный стиль. Это фактографичная поэзия, поэзия архивных записей, когда не требуется дополнительных украшательств, демонстративного эмоционирования, потому что умелая компоновка фактов говорит сама за себя.
На этом фоне кажется особенно значимым единственное развернутое художественное сравнение в тексте:
От нее раскинулись улицы, словно пальцы:
как если бы, сидя спиной к реке,
ладонь положить на землю.
Словно великан-творец, создавший этот город, расположил когда-то так свою пятерню. Это роднит древний традиционный уклад городка с божественным миропорядком.
В своих воспоминаниях лирический герой перебирает много имен собственных, словно поглаживает корешки карточек в картотеке.
Во-первых, это улицы городка. В скобках они сопровождаются своим старым или, наоборот, новым названием:
на Красноармейской (бывшей Подьяческой),
ведущей к Красной площади (бывшей Нижней Торговой).
Очевидно, именно из-за повсеместности подобных переименований не указано название «маленького города у реки на границе леса с подстепьем». По приметам угадывается Ефремов Тульской области, но в первую очередь это обобщенный русский город N, чья история уходит в дореволюционные времена.
Во-вторых, это фамилии прежних «отцов города» — купцов Нечаевых, Паршиных, Грязевых. Были меценатами, сохранили свои имена в летописи городка.
Не удалось затеряться в истории и советским геростратам, разрушавшим храмы:
Болдин какой-то особо усердствовал, по воспоминаниям,
Пестерев и Сопронов.
Их имена не стерлись, как невозможно стереть последствия поступков. Характерно, что эти фамилии запечатлелись даже не в сухих записях архивов, а в человеческой памяти. Неслучайно так важно лирическому герою, что его прадед не участвовал сам в разрушении храмов — очевидно, память об этом незаметном подвиге передается в семье через поколения — вместе с фамилиями «антагонистов», в сравнении с которыми и проявился смысл поступка предка.
Указано в стихотворении и имя прадеда — Алексей.
Называние имени равно признанию значимости. Имя — как метка живого, того, что сохранилось во времени.
Самое страшное же заключено в умолчании, в потере имени:
Я просыпаюсь один в доме моего прадеда,
куда он заселился в середине двадцатых,
как ценный руководящий кадр,
вместо прежних жильцов —
священника с женой и их дочек,
чьи имена мы постарались забыть.
Неназывание равно суеверному страху, нежеланию принимать, давать место.
Возможно, сдерживаемая горечь стоит и за этой внешне сухой строчкой, в которой не названы подробности:
После войны им стало свободней, втроем.
О причинах остается гадать: то ли выросшие дети и приживалы разъехались, то ли война сократила число членов семьи.
Есть в стихотворении и еще одно важное имя собственное — Бунин. Его фигура неслучайна: это писатель, чувственно отобразивший дореволюционную Россию и не принявший советскую власть.
Уютная картинка его пребывания в городке подчеркнута архаичным глаголом «гащивал». А яблоки, которые он мог бы купить у прадеда лирического героя, перекликаются с «Антоновскими яблоками».
Бунин и прадед Алексей — две ключевых фигуры текста. Один символизирует мир дореволюционной России. Другой — мир советской власти, энергично взявшейся за переустройство общества.
Эти две России не получается подружить, как бы ни хотелось этого лирическому герою.
Формально Бунин и прадед не могли увидеться, потому что предок лирического героя стал хозяином этого дома только в середине 1920-х, когда писатель уже был за границей.
Корневая же причина их не-встречи именно в том, что они находились по разные стороны баррикад. Прадед мог получить этот дом только в те времена, когда такие, как Бунин, сошли с авансцены.
Таково неумолимое движение истории. Древнего великана-творца сменил другой исполин — огромный Большевик с одноименной картины Кустодиева. Но и сам он уже повержен и остался жить только в названиях улиц.
Что же остается отдельному человеку, когда большая история своей пятерней властно вмешивается в его жизнь?
Медведев предлагает ответ: остаться верным себе хотя бы в частностях, сохранить и сохраниться. Уклониться от разрушения церквей (даже если ты руководящий кадр!). Крестить ребенка тайно. Сберечь дом предка: не продать, не обменять, не бросить в запустении — чтобы иметь эту редкую для русского человека радость — просыпаться в доме своего прадеда.
В разговоре о трагедии страны, поданном на близком, понятном уровне — через прадеда, через дом, через собственную жизнь — Медведев, как и всегда в его текстах, избегает пафоса. «Дом» — не брошенное в лицо давно ушедшей советской власти обвинение в разрушении храмов. А горькая констатация, сожаление об утраченном. Дореволюционный уклад Медведев не идеализирует:
Крепко держали городок в кулаке купцы
Нечаевы, Паршины, Грязевы.
В этом «держали в кулаке» уже намек, что трудовому люду в те времена приходилось туго.
А самое ценное — Медведев имеет смелость признать: теплый дом, в котором мне приятно просыпаться, мое родовое гнездо — это чужой, отобранный дом. Да, мой прадед в этом не виноват. Не он отбирал. Он даже пытался в те времена остаться чистым. А все-таки эту вину тоже разделил. И я, его далекий потомок, — тоже разделяю.
Это честный взгляд на самого себя. Лишенный кокетства, самолюбования разговор с самим собой. Самую неприглядную мысль («вместо прежних жильцов — / священника с женой и их дочек, / чьи имена мы постарались забыть»), укатившуюся поначалу, как упавшая монетка, в дальний угол, автор поднимает и кладет на стол для честного счета.
Трезво смотрит Медведев и на жизнь. Напрашивается перефразированный ломоносовский закон сохранения энергии: чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Примирить всё и всех, как в сладкой грезе про встречу прадеда-функционера и Бунина, не получается.
Понимание, что радость и горечь, гордость и стыд в жизни нередко идут рука об руку — это зрелое мировосприятие. Неслучайно Артём Скворцов свою рецензию на дебютную книгу Медведева «Нож-бабочка» (на момент выхода сборника автору было 35 лет) озаглавил так: «Неожиданно взрослый поэт Медведев».
Редкий русский молодой поэт заслуженно получал такую характеристику.
Медведев, чаще обращающийся к силлабо-тонике, в этом стихотворении выбрал верлибр и сделал его нарочито прозаичным. Это почти телеграфный стиль. Это фактографичная поэзия, поэзия архивных записей, когда не требуется дополнительных украшательств, демонстративного эмоционирования, потому что умелая компоновка фактов говорит сама за себя.
На этом фоне кажется особенно значимым единственное развернутое художественное сравнение в тексте:
От нее раскинулись улицы, словно пальцы:
как если бы, сидя спиной к реке,
ладонь положить на землю.
Словно великан-творец, создавший этот город, расположил когда-то так свою пятерню. Это роднит древний традиционный уклад городка с божественным миропорядком.
В своих воспоминаниях лирический герой перебирает много имен собственных, словно поглаживает корешки карточек в картотеке.
Во-первых, это улицы городка. В скобках они сопровождаются своим старым или, наоборот, новым названием:
на Красноармейской (бывшей Подьяческой),
ведущей к Красной площади (бывшей Нижней Торговой).
Очевидно, именно из-за повсеместности подобных переименований не указано название «маленького города у реки на границе леса с подстепьем». По приметам угадывается Ефремов Тульской области, но в первую очередь это обобщенный русский город N, чья история уходит в дореволюционные времена.
Во-вторых, это фамилии прежних «отцов города» — купцов Нечаевых, Паршиных, Грязевых. Были меценатами, сохранили свои имена в летописи городка.
Не удалось затеряться в истории и советским геростратам, разрушавшим храмы:
Болдин какой-то особо усердствовал, по воспоминаниям,
Пестерев и Сопронов.
Их имена не стерлись, как невозможно стереть последствия поступков. Характерно, что эти фамилии запечатлелись даже не в сухих записях архивов, а в человеческой памяти. Неслучайно так важно лирическому герою, что его прадед не участвовал сам в разрушении храмов — очевидно, память об этом незаметном подвиге передается в семье через поколения — вместе с фамилиями «антагонистов», в сравнении с которыми и проявился смысл поступка предка.
Указано в стихотворении и имя прадеда — Алексей.
Называние имени равно признанию значимости. Имя — как метка живого, того, что сохранилось во времени.
Самое страшное же заключено в умолчании, в потере имени:
Я просыпаюсь один в доме моего прадеда,
куда он заселился в середине двадцатых,
как ценный руководящий кадр,
вместо прежних жильцов —
священника с женой и их дочек,
чьи имена мы постарались забыть.
Неназывание равно суеверному страху, нежеланию принимать, давать место.
Возможно, сдерживаемая горечь стоит и за этой внешне сухой строчкой, в которой не названы подробности:
После войны им стало свободней, втроем.
О причинах остается гадать: то ли выросшие дети и приживалы разъехались, то ли война сократила число членов семьи.
Есть в стихотворении и еще одно важное имя собственное — Бунин. Его фигура неслучайна: это писатель, чувственно отобразивший дореволюционную Россию и не принявший советскую власть.
Уютная картинка его пребывания в городке подчеркнута архаичным глаголом «гащивал». А яблоки, которые он мог бы купить у прадеда лирического героя, перекликаются с «Антоновскими яблоками».
Бунин и прадед Алексей — две ключевых фигуры текста. Один символизирует мир дореволюционной России. Другой — мир советской власти, энергично взявшейся за переустройство общества.
Эти две России не получается подружить, как бы ни хотелось этого лирическому герою.
Формально Бунин и прадед не могли увидеться, потому что предок лирического героя стал хозяином этого дома только в середине 1920-х, когда писатель уже был за границей.
Корневая же причина их не-встречи именно в том, что они находились по разные стороны баррикад. Прадед мог получить этот дом только в те времена, когда такие, как Бунин, сошли с авансцены.
Таково неумолимое движение истории. Древнего великана-творца сменил другой исполин — огромный Большевик с одноименной картины Кустодиева. Но и сам он уже повержен и остался жить только в названиях улиц.
Что же остается отдельному человеку, когда большая история своей пятерней властно вмешивается в его жизнь?
Медведев предлагает ответ: остаться верным себе хотя бы в частностях, сохранить и сохраниться. Уклониться от разрушения церквей (даже если ты руководящий кадр!). Крестить ребенка тайно. Сберечь дом предка: не продать, не обменять, не бросить в запустении — чтобы иметь эту редкую для русского человека радость — просыпаться в доме своего прадеда.
В разговоре о трагедии страны, поданном на близком, понятном уровне — через прадеда, через дом, через собственную жизнь — Медведев, как и всегда в его текстах, избегает пафоса. «Дом» — не брошенное в лицо давно ушедшей советской власти обвинение в разрушении храмов. А горькая констатация, сожаление об утраченном. Дореволюционный уклад Медведев не идеализирует:
Крепко держали городок в кулаке купцы
Нечаевы, Паршины, Грязевы.
В этом «держали в кулаке» уже намек, что трудовому люду в те времена приходилось туго.
А самое ценное — Медведев имеет смелость признать: теплый дом, в котором мне приятно просыпаться, мое родовое гнездо — это чужой, отобранный дом. Да, мой прадед в этом не виноват. Не он отбирал. Он даже пытался в те времена остаться чистым. А все-таки эту вину тоже разделил. И я, его далекий потомок, — тоже разделяю.
Это честный взгляд на самого себя. Лишенный кокетства, самолюбования разговор с самим собой. Самую неприглядную мысль («вместо прежних жильцов — / священника с женой и их дочек, / чьи имена мы постарались забыть»), укатившуюся поначалу, как упавшая монетка, в дальний угол, автор поднимает и кладет на стол для честного счета.
Трезво смотрит Медведев и на жизнь. Напрашивается перефразированный ломоносовский закон сохранения энергии: чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Примирить всё и всех, как в сладкой грезе про встречу прадеда-функционера и Бунина, не получается.
Понимание, что радость и горечь, гордость и стыд в жизни нередко идут рука об руку — это зрелое мировосприятие. Неслучайно Артём Скворцов свою рецензию на дебютную книгу Медведева «Нож-бабочка» (на момент выхода сборника автору было 35 лет) озаглавил так: «Неожиданно взрослый поэт Медведев».
Редкий русский молодой поэт заслуженно получал такую характеристику.



