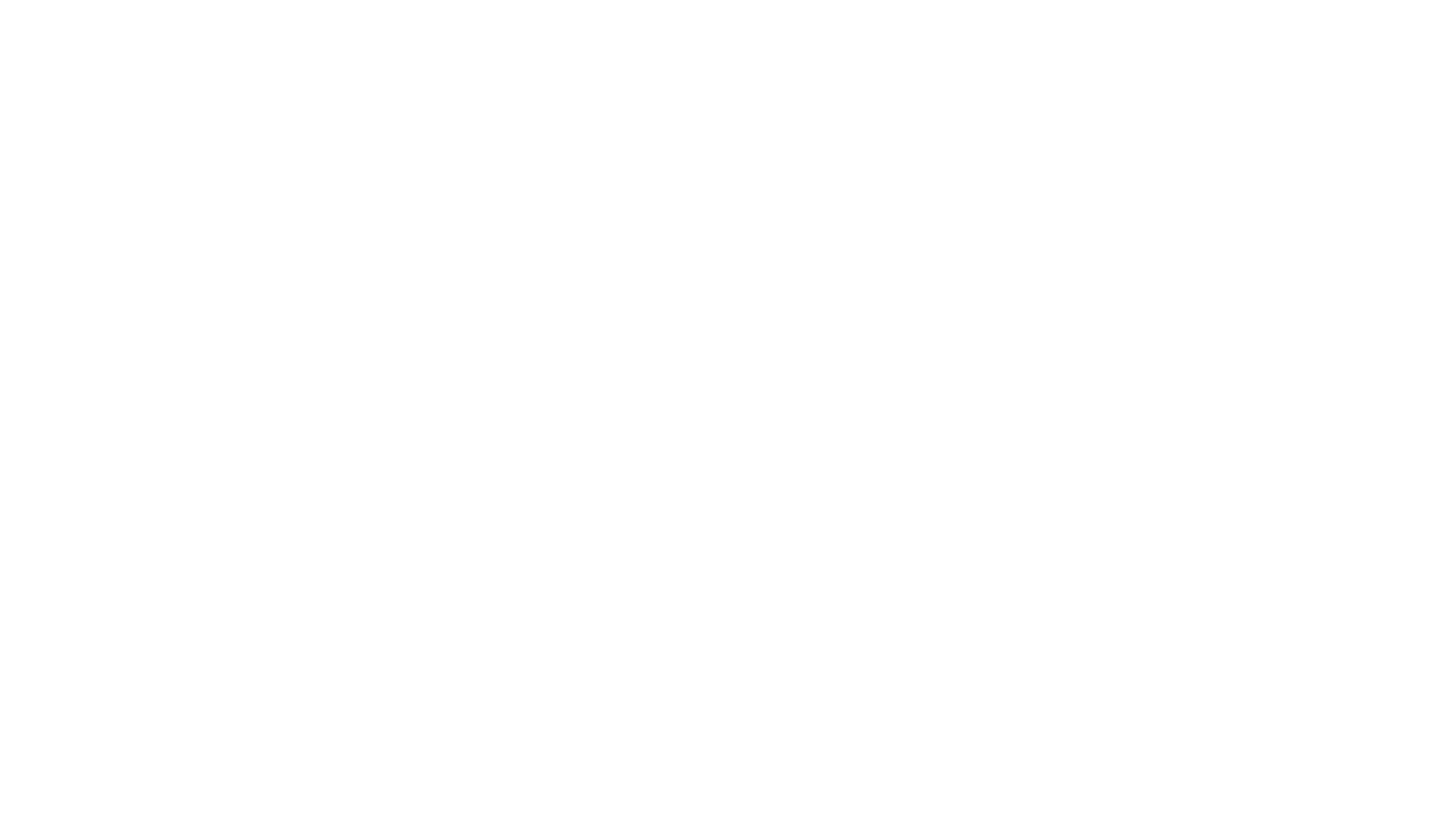
Кирилл Анкудинов — Обзорное окно
(Обзор журнала «Знамя» №8 за 2023 год: Алексей Макушинский, Афанасий Мамедов, Никита Елисеев, Анна Баснер, Кристина Дергачёва, Исмаил Мустапаев)
Кирилл Анкудинов — литературный критик, поэт. Родился в 1970 г. в Челябинской области. Окончил филологический факультет Адыгейского государственного университета и аспирантуру Московского педагогического государственного университета им. В. И. Ленина. Опубликовал больше сотни художественно-критических работ в различных журналах, газетах и на сетевых ресурсах. Печатался как критик в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «EX LIBRIS НГ» и др. Лауреат премии «Неистовый Виссарион» в 2023-м году. Лауреат премий Т. М. Керашева (2004), газеты «Литературная Россия» (2005) и журнала «Бельские просторы» (Уфа, 2010). В 2010-м году был награждён медалью Министерства культуры РФ в честь юбилея А. П. Чехова.
(Не лже-) Димитрий Кукумбер
Алексей Макушинский. Димитрий. Фрагмент романа // Знамя. — 2023. — № 8.
В августовском «Знамени» опубликован «фрагмент романа» Алексея Макушинского «Димитрий». Сюжетная основа его прихотлива и оттого разъясняется в последующей беседе автора с Татьяной Веретеновой.
На авансцене вновь «наша лучшая в мире компания» советско-перестроечных времён. На сей раз — студийная труппа, репетирующая спектакль о самозванце (но вовсе не самозванце) Лжед (и)митрии Первом (но отнюдь не -лже) по пьесе «А. Макушинского» (тоже персонажа). Повествование ведётся от лица… царя Димитрия. То есть от лица актёра той самой студии, воображающего себя царём Димитрием и затем (судя по всему) сошедшего с ума и попавшего в психушку. То есть от лица царя Д (и)митрия (не лже-), вселившегося в сознание того самого актёра. То есть… понимайте как хотите. Соответственно нарратив нарратора раздваивается на сложные взаимоотношения «нашей лучшей в мире компании» и на отчёт царя Д (и)митрия о собственном правлении.
Эта историческая фигура чрезвычайно дорога автору. Во-первых, потому что это царь-реформатор, предвосхитивший Петра Первого (но без петровского садизма), хотевший устроить на Руси университет и внедрить иные прогрессивные социальные институты по западному образцу. Во-вторых, потому что это никакой не самозванец (и не беглый монах-пьяница Гришка Отрепьев, Господь упаси!), а самый что ни на есть натуральный сын Ивана Четвёртого, счастливо спасшийся царевич Димитрий (а ныне — законнейший царь Д (и)митрий Иванович Рюрикович).
Вот тут я удивился странному сочетанию у автора прогрессизма с монархизмом. Потому как для того, чтобы вводить полезные новшества и устраивать университеты, необязательно иметь в жилах кровь Рюриковичей (совековец нашего героя Оливер Кромвель не даст соврать, сквайрик из Кембриджшира, а сколько свобод дал и отобрал). Впрочем, я знаком только с фрагментом романа; может быть, в книге есть дополнительные разъяснения по исторической части.
В беседе автора с Веретеновой поминается ещё один бонус текста, его язык, полный рефренов и каламбуров; автор сообщает, что раньше не писал столь легко, вольно и радостно. Язык «Димитрия» действительно колоритен. Однако царь Димитрий таким языком говорить никак не мог. И Лжедмитрий Первый (кем бы он ни был) таким языком говорить не мог. И дух царя Димитрия (вселившийся в современного артиста) таким языком говорить не мог. И современный артист, в которого вселился дух царя Димитрия (или Лжедмитрия) таким языком говорить не может. И современный артист, в которого не вселился никакой дух, таким языком говорить тоже не может.
Автор сообщает, что раньше не писал столь легко, вольно и радостно. Язык «Димитрия» действительно колоритен. Однако царь Димитрий таким языком говорить никак не мог.
Не знаю, чей именно дух хотел вызвать Алексей Макушинский, но явился ему дух Георгия Давыдова. Георгий Давыдов жив и творчески продуктивен; тем проще вызвать его дух. Интонационно язык «Димитрия» уже неотличим от языка художественной прозы Георгия Давыдова. Мне такой язык не нравится. Это хохотливый стилёк мажористой богемы восьмидесятых годов, косящей под фарцу. Он выстроен на жирном самодовольстве, на жизнелюбивой пошлости и на беспрестанных издевательствах над слабаками (чаще всего — из «нашей лучшей в мире компании»). Если кому охота вдохнуть ароматы этого букета, посмотрите рассказ Георгия Давыдова «Костик Кукумбер» в февральском номере «Знамени». Впечатляющее свидетельство запаха времени.
Кстати, наивный (крове)монархизм — оттуда, из того времени.
Они не слишком радуют меня.
Вот, например, повесть Афанасия Мамедова «„Полтора рассказа“ Мишки Кукеса», сочинение в жанре «невыдуманной истории»; выполненное грамотно, но какое-то этнически озабоченное, что ли. В предыдущем номере «Знамени» была повесть (долгая сага) Ирины Муравьёвой «Грешница»; тематически иная, а по вектору аналогичная. Спору нет, Афанасий Мамедов хороший писатель, он лучше Ирины Муравьёвой (и ритмической прозой не изъясняется). Но, может, такие специфические тексты публиковать не в каждом номере, а, хотя бы, через номер?
А вот Никита Елисеев в статье «Хичкок и Набоков, или Был ли Набоков английским шпионом?» уверяет нас: был. И, наверное, в штате «Интеллидженс сервис» (или где-то ещё) числился и даже подписку в соответствующем кабинете давал. Своё «недоказуемое предположение» Елисеев мотивирует тем, что «аполитичный эстет» следил за современной ему политикой и разбирался в ней. Так можно в шпионы записать кого угодно. Но даже если и было… не вижу в том почёта.
Кстати, наивный (крове)монархизм — оттуда, из того времени.
Мелочи жизни
Другие публикации августовского номера «Знамени».
Они не слишком радуют меня.
Вот, например, повесть Афанасия Мамедова «„Полтора рассказа“ Мишки Кукеса», сочинение в жанре «невыдуманной истории»; выполненное грамотно, но какое-то этнически озабоченное, что ли. В предыдущем номере «Знамени» была повесть (долгая сага) Ирины Муравьёвой «Грешница»; тематически иная, а по вектору аналогичная. Спору нет, Афанасий Мамедов хороший писатель, он лучше Ирины Муравьёвой (и ритмической прозой не изъясняется). Но, может, такие специфические тексты публиковать не в каждом номере, а, хотя бы, через номер?
А вот Никита Елисеев в статье «Хичкок и Набоков, или Был ли Набоков английским шпионом?» уверяет нас: был. И, наверное, в штате «Интеллидженс сервис» (или где-то ещё) числился и даже подписку в соответствующем кабинете давал. Своё «недоказуемое предположение» Елисеев мотивирует тем, что «аполитичный эстет» следил за современной ему политикой и разбирался в ней. Так можно в шпионы записать кого угодно. Но даже если и было… не вижу в том почёта.
Спору нет, Афанасий Мамедов хороший писатель, он лучше Ирины Муравьёвой (и ритмической прозой не изъясняется). Но, может, такие специфические тексты публиковать не в каждом номере, а, хотя бы, через номер?
За отсутствием других предметов для содержательного разговора поневоле приходится обращать внимание на «мелочи жизни», на обмолвки.
Анна Баснер открывает рассказ «Метаморфозы» предложением «Больной тридцати восьми лет поступил в клинику после апоплексического припадка».
Припадок бывает эпилептическим, а апоплексическим может быть удар, ну, приступ, на крайний случай (припадок — это зримые действия или слышимые звуки, а апоплексия незрима и неслышима). Простец способен перепутать эпилепсию с апоплексией, но мы-то имеем дело с «записками профессора Анненского, доктора медицины, врача-психиатра»; уж ему-то такой косяк не с руки. Тем более, что, как выясняется далее, речь тут идёт о сифилитическом прогрессивном параличе (что не имеет отношения ни к эпилепсии, ни к апоплексии). Пациент — Яков Берман, он как Врубель, только скульптор. Его творения создают оптический эффект переливов и метаморфоз (при определённом источнике освещения). Никак не могу представить такое в скульптуре, но автору видней.
Ещё повод задуматься: Кристина Дергачёва в рецензии на книгу стихов Дмитрия Легезы в качестве плюсов поэзии Легезы отмечает «чередование мужской и женской цезур». В стиховедении я разбираюсь получше, чем в динамических скульптурах. Цезура это совпадение словоразделов со стопоразделами. В принципе, цезуры в ямбических стихах возможно назвать «мужскими», а в хореических — «женскими». Сложнее с «чередованием мужской и женской цезур». Бывают, конечно, строфы, в которых есть строки с цезурными наращениями, можно поименовать сие «чередованием мужских и женских цезур». Но мне почему-то кажется, что Дмитрий Легеза вряд ли пишет так, и что Кристина Дергачёва перепутала «цезуры» с «клаузулами». Бывает.
Сложнее со смежной рецензией на сборник эссе Ольги Седаковой.
«Пушкин, Некрасов, Шварц, Губанов, Алешковский говорят как бы её устами…».
Я воочию вообразил Юза Алешковского, говорящего викторианскими устами Ольги Седаковой. Кстати, о том, что тут в виду имеется не Пётр Алешковский, я догадываюсь лишь по названию книги Седаковой, а выявить, Евгений ли Шварц поминается или Елена Шварц, я могу только потому, что душе Седаковой Елена должна быть ближе Евгения.
И Пушкин, и Алешковский, в пределах внутреннего эйдоса Седаковой — это один текст".
Неправда! Пушкин и Юз Алешковский не могут быть одним текстом ни в каких пределах ничьего эйдоса!
Анна Баснер открывает рассказ «Метаморфозы» предложением «Больной тридцати восьми лет поступил в клинику после апоплексического припадка».
Припадок бывает эпилептическим, а апоплексическим может быть удар, ну, приступ, на крайний случай (припадок — это зримые действия или слышимые звуки, а апоплексия незрима и неслышима). Простец способен перепутать эпилепсию с апоплексией, но мы-то имеем дело с «записками профессора Анненского, доктора медицины, врача-психиатра»; уж ему-то такой косяк не с руки. Тем более, что, как выясняется далее, речь тут идёт о сифилитическом прогрессивном параличе (что не имеет отношения ни к эпилепсии, ни к апоплексии). Пациент — Яков Берман, он как Врубель, только скульптор. Его творения создают оптический эффект переливов и метаморфоз (при определённом источнике освещения). Никак не могу представить такое в скульптуре, но автору видней.
Ещё повод задуматься: Кристина Дергачёва в рецензии на книгу стихов Дмитрия Легезы в качестве плюсов поэзии Легезы отмечает «чередование мужской и женской цезур». В стиховедении я разбираюсь получше, чем в динамических скульптурах. Цезура это совпадение словоразделов со стопоразделами. В принципе, цезуры в ямбических стихах возможно назвать «мужскими», а в хореических — «женскими». Сложнее с «чередованием мужской и женской цезур». Бывают, конечно, строфы, в которых есть строки с цезурными наращениями, можно поименовать сие «чередованием мужских и женских цезур». Но мне почему-то кажется, что Дмитрий Легеза вряд ли пишет так, и что Кристина Дергачёва перепутала «цезуры» с «клаузулами». Бывает.
Сложнее со смежной рецензией на сборник эссе Ольги Седаковой.
«Пушкин, Некрасов, Шварц, Губанов, Алешковский говорят как бы её устами…».
Я воочию вообразил Юза Алешковского, говорящего викторианскими устами Ольги Седаковой. Кстати, о том, что тут в виду имеется не Пётр Алешковский, я догадываюсь лишь по названию книги Седаковой, а выявить, Евгений ли Шварц поминается или Елена Шварц, я могу только потому, что душе Седаковой Елена должна быть ближе Евгения.
И Пушкин, и Алешковский, в пределах внутреннего эйдоса Седаковой — это один текст".
Неправда! Пушкин и Юз Алешковский не могут быть одним текстом ни в каких пределах ничьего эйдоса!
Я воочию вообразил Юза Алешковского, говорящего викторианскими устами Ольги Седаковой. Кстати, о том, что тут в виду имеется не Пётр Алешковский, я догадываюсь лишь по названию книги Седаковой.
«Одна рукопись, которая не горит. А что не горит, то живо и действенно».
А если не тонет? Как матерные шедевры Юза Алешковского.
«Ольга Александровна… анализирует Пушкина подлинного и тень Пушкина, подобно тому, как это делал Ходасевич в работе „Поэзия ниже нуля“».
У Ходасевича не было работы с таким названием; у него была статья-фельетон «Ниже нуля», в которой говорилось не о Пушкине, а о поэтах-графоманах. О Пушкине Ходасевич писал, но отнюдь не там.
«Только Седакова менее эмоциональна и более объективна (да ладно — К. А.). На примере Пушкина она подвергает глубинному изучению феномен изящности авторского почерка (речь о почерковедении? — К. А.). Изящности не в смысле красоты и эффектности, а, скорее, специфики и своеобычности древнерусского наречия». Ещё и древнерусское наречие в придачу к изящности почерка! Что бы это значило?
Как выяснилось, рецензент хотел всего лишь привести высказывание Седаковой о том, что в некоторых текстах Древней Руси слово «изящный» имело значение «превосходный».
«Какое место в отечественном литературном процессе будет отведено книге Седаковой? Читабельна и рентабельна ли она для основной массы наших замечательных коллег по перу? Не знаю».
И я не знаю, читабельна ли книга Седаковой (ещё не читал её), а рентабельность этой книги — не моя забота, а проблема издателей и книготорговцев.
«На мой скромный взгляд, по-настоящему ценный продукт созидания (? — К. А.) не нуждается ни в рентабельности (как знать — К. А.), ни во всём прочем, что составляет стержень сетевого маркетинга (книга Седаковой вышла в системе издательского сетевого маркетинга, например, в «Ридеро»? не верю — К. А.).
Поначалу мне казалось, что эту рецензию написала дама (например, Анна Аликевич). Потом я перевернул страницу и увидел, что сие писано не дамой, а Исмаилом Мустапаевым. Ну, может быть, у него русский язык не родной?
А если не тонет? Как матерные шедевры Юза Алешковского.
«Ольга Александровна… анализирует Пушкина подлинного и тень Пушкина, подобно тому, как это делал Ходасевич в работе „Поэзия ниже нуля“».
У Ходасевича не было работы с таким названием; у него была статья-фельетон «Ниже нуля», в которой говорилось не о Пушкине, а о поэтах-графоманах. О Пушкине Ходасевич писал, но отнюдь не там.
«Только Седакова менее эмоциональна и более объективна (да ладно — К. А.). На примере Пушкина она подвергает глубинному изучению феномен изящности авторского почерка (речь о почерковедении? — К. А.). Изящности не в смысле красоты и эффектности, а, скорее, специфики и своеобычности древнерусского наречия». Ещё и древнерусское наречие в придачу к изящности почерка! Что бы это значило?
Как выяснилось, рецензент хотел всего лишь привести высказывание Седаковой о том, что в некоторых текстах Древней Руси слово «изящный» имело значение «превосходный».
«Какое место в отечественном литературном процессе будет отведено книге Седаковой? Читабельна и рентабельна ли она для основной массы наших замечательных коллег по перу? Не знаю».
И я не знаю, читабельна ли книга Седаковой (ещё не читал её), а рентабельность этой книги — не моя забота, а проблема издателей и книготорговцев.
«На мой скромный взгляд, по-настоящему ценный продукт созидания (? — К. А.) не нуждается ни в рентабельности (как знать — К. А.), ни во всём прочем, что составляет стержень сетевого маркетинга (книга Седаковой вышла в системе издательского сетевого маркетинга, например, в «Ридеро»? не верю — К. А.).
Поначалу мне казалось, что эту рецензию написала дама (например, Анна Аликевич). Потом я перевернул страницу и увидел, что сие писано не дамой, а Исмаилом Мустапаевым. Ну, может быть, у него русский язык не родной?



