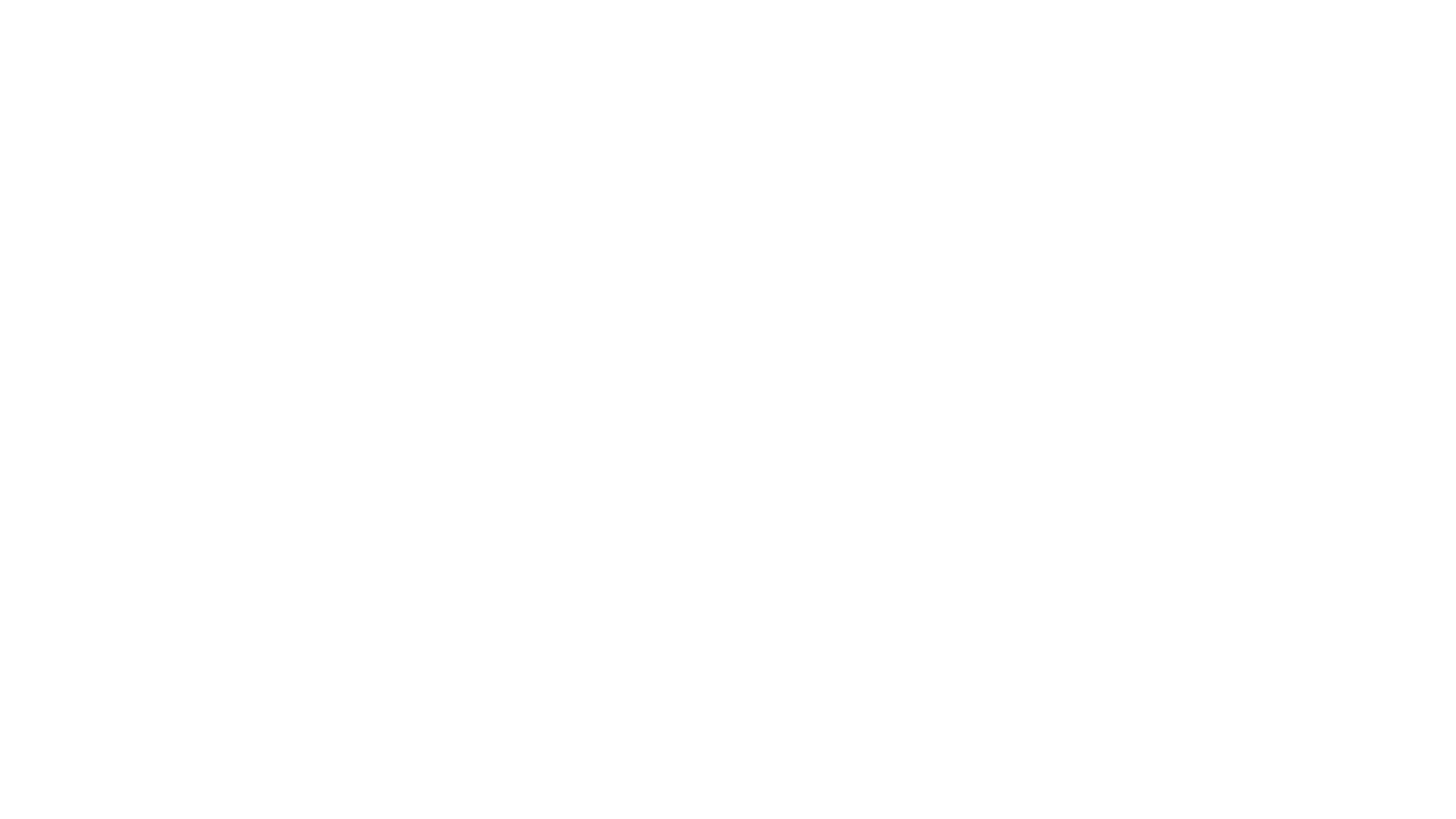
Алёна Белоусенко - Мама, я гусь
Алёна Белоусенко — прозаик, член Союза писателей России. Родилась в 1992 году. Окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Литературный институт им. А. М. Горького. Победитель конкурса «Во славу Бориса и Глеба» (2016), Южно-Уральской литературной премии (2017). Лауреат премии «Русское слово» (2018), «В поисках правды и справедливости» (2019), «Болдинская осень» (2021). Автор книги «Нити».
На кладбище стояла теплая, весенняя погода. Конечно, такая же она стояла и возле кладбища. Мы с сестрой там были одни — на большом поле, с тяпками в руках, как будто снова на огороде, окучивающие картошку. Только здесь росла не картошка, а кресты, и наши родители были не за нашими спинами, а под нами.
Но я не хочу наводить мрачность. Я совсем не люблю кресты, я люблю картошку. Просто мы действительно были на кладбище; и сорняки, и тяпки, и даже моя сестра — были такими же, что и в детстве на даче. Возможно, поменялась только я.
— Вот они, наверно, сидят и думают — прикатили, — говорит сестра, с трудом пропалывая сорняки между родительскими могилами.
Я протираю оградку, потому что тяпка у нас одна.
— Не сидят, а лежат, — зачем-то говорю я. Ее это обижает.
— Нет, они там сидят.
Мою старшую сестру зовут Аня — потому что «А» первая буква в алфавите, а меня Яна -потому что после меня родители больше не хотели заводить детей. Так я представляла в детстве себя и свою сестру — так представлю и вам. Но в этой шутке нет доли правды — родителям просто казалось забавным назвать нас таким образом. И это правда забавно.
— Я не хочу, чтобы меня закапывали. Я бы выбрала кремацию, — говорю на случай, если больше не найду спутника жизни и не рожу детей, и хоронить меня придется сестре. — На кладбище такая атмосфера тяжкая. А родители ведь были легкими.
— Но ведь хорошо прийти помянуть. Поговорить. Так грустно смотреть на заброшенные могилы.
— А дома ты не вспоминаешь? В памяти они живые. А здесь — мертвые.
— Дома я плачу. К тому же ты выкинула все мамины вещи, — отвечает сестра.
— Ты же знаешь, что не все. Мне вот рядом с этими вещами плакать хотелось. Это ты с мужем в другой квартире живешь, а я с ними. Они напоминают, что мамы нет, она мертва. А у меня в голове она жива. И здесь, на могиле, тоже выть хочется.
Сестра примирительно вздыхает. И я начинаю свою шарманку.
— Как ты думаешь, Сережа прочтет в моих мыслях, что я хочу с ним… более близкие отношения?
— Ну ты, блин, даешь. Даже здесь. Опять собралась к нему? Ты же говорила, что он понял, зачем ты пришла.
— Он не понял, что мужчина, о котором я думаю — это он и есть.
— Ага. Прочтет и вышвырнет тебя из квартиры.
— Почему вышвырнет-то, а?
— Да потому что вместо мыслей у тебя тараканы в голове.
— Чтобы в квартиру не переползли! — не успела я дошутить, как она отрезала:
— Вот, скажут — пришли, ржут.
— В смехе ничего плохого нет.
Мы разъехались, так и не одолев непослушный, густой подшерсток сорной травы. Убрав лишь одуванчики. И я тут же по-тихому вернулась на могилу, чтобы Аня не узнала, что я собираюсь осквернить могилу родителей свиданием с мужчиной. Воспользовавшись сорняком как поводом для встречи.
*
Начну с того, что Сережа хоронил нашу мать. Ему принадлежало единственное в нашем городе ритуальное агентство. Он не копал могилы, не показывал каталоги гробов и крестов — это делали наемные сотрудники. Но на похоронах всегда присутствовал — зачем, я так и не поняла. Наверно он любил кладбище больше, чем картошку. К нему многие подходили в церкви — здоровались или советовались, как с духовником. Тогда я еще не знала почему. Ведь церковного сана он не имел и службы не проводил, — в общем, не был священником. Да и не был православным в полном смысле этого слова.
Впервые я увидела его в церкви, во время прощания. Отпевали не только маму, но и еще двоих, незнакомых мне людей. Сережа стоял сбоку от меня, у амвона. Какая-то женщина с измученным лицом подошла к нему и нежно положила его руки в свои. И с мольбой спросила:
— Сережа, родненький, за что, ответь мне? Сын сначала, потом муж. Скажи, пожалуйста, за какие грехи? Да как же мне их отмолить?
Женщина спрашивала в полный голос, не стесняясь, даже не думая о том, что мешает или что ее слова будут кем-то подслушаны. Священник как раз проходил с кадилом вдоль гробов и, подходя к изножью, нахмурился, увидев эту картину — по сути Сережа заявлялся в церковь со своим языческим уставом и перетягивал к себе паству.
Он отвечал тихо, я лишь уловила — «выпадает снег».
Все также держа его руки в своих, она быстро поднесла их к губам и поцеловала, чтобы он не успел отдернуть. Ему это не понравилось — он тут же бросил взгляд на священника — тот шел уже к изголовью и не видел происходящего. Я повернулась к сестре — она смотрела на маму. Когда священник закончил, слово взял Сережа и сказал, что заколотить гробы лучше здесь, в церкви, чем на кладбище. Там будет тяжелее. И все три гроба заколотили. Я же понимала, что для меня это не имеет никакого значения. Мамы нет, и тело — это лишь мираж. Сложнее было оживить ее в памяти — казалось, я не видела ее уже несколько лет, хотя мы общались неделю назад. Я вспоминала эпизоды — с ее лицом, смехом, интонацией, ее словечками — которые могла бы воспроизвести в голове, как видеозапись — и не насчитывала и пяти. Хотя всегда жила с ней под одной крышей. Вот что было страшно.
Именно тогда я вспомнила игру, в которую она играла со мной в детстве. Мама доставала энциклопедию и просила найти то животное, на которое, по моему мнению, я похожа. И рассказать — чем похожа. Ее это забавляло, потому что я не была склонна выбирать больших и красивых животных — тигров или слонов. Я выбирала маленьких и чудаковатых: ежика — потому что я тоже пушистая, канарейку — потому что люблю желтый цвет. Я была ничтожной и неловкой по сравнению с той большой жизнью, которая меня еще ждет. А сейчас я знала — я тоже буду там, в земле, и меня не так много ждет, как мне бы хотелось. И в это мгновение — на отпевании — я очнулась большим и голодным зверем, жаждущим одного — жить.
Я волк — потому что голодный и смелый.
Сережа, с его высоким ростом и крепкой фигурой, здесь, на кладбище, напоминал Харона, перевозящего души умерших на другой берег. Только вместо весел у него была лопата. В этот раз он зачем-то помогал копать. Все в нем говорило про то, что другой берег он хорошо знал. Его молчаливость, угрюмый взгляд, его ранняя седина. Но умел ли он жить здесь, в мире живых? Любил ли он эту жизнь?
Да, в день похорон моей матери я искала кольцо на его безымянном пальце — его там не было. Я искала, чем затмить горе, отчаянно искала жизнь. И поняла, что чувствовать можно многое одновременно. Или не совсем одновременно: одно мгновение ты отдаешь одному переживанию, а следующее — уже отбирает другое. И они откусывают от тебя помногу или помалу, растрачивают тебя попусту, ничего не оставляя взамен.
— Все мы с Богом будем, — вздохнула мамина подруга.
— А откуда вы знаете? — я машинально пробурчала это себе под нос, но тетя Тоня услышала.
— Яна-а, ты Бога-то не гневи, на могиле-то у матери.
Сережа в это время закапывал маму. Он слышал наш разговор и смотрел на меня с пониманием — не с жалостью или сочувствием. Хотя смотрел он будто не глазами, взгляд его был непроницаем — не знаю, как еще по-другому сказать — по одним его глазам нельзя было ничего прочесть. И над ними, будто специально для защиты, нависали взбитые надбровные дуги. Я читала щеки, улыбку, лоб, шею, все — но только не глаза.
— Я, например, этого не знаю. Я знаю только то, что вижу.
— Это вера, Яна! Вера, — начала показывать она рукой на мамину могилу.
— Ее Катя звали, а не Вера.
Сестра стояла по другую сторону от меня и дергала мой рукав.
Мамина подруга изобразила ужас на лице и отошла на несколько шагов, кинув в меня шипящее «с ума сошла совсем». Тетя Тоня была не самой лучшей подругой — как-то украла мамины золотые сережки — поэтому от самообвинения я быстро отмахнулась.
Аня подошла к Сереже, чтобы расплатиться, и я поняла, что они знакомы. И расспросила о нем на следующий же день. Как оказалось, он учился в ее параллельном классе.
— Его Пентиум в школе звали. Мог любой пример решить в уме, без столбика или калькулятора. Ботаник, в общем. Но такой тихий весь был, в своем мире жил. Он ведь в московский физтех поступил — никто из нашего города туда не проходил. Но потом бросил, вроде на философский перешел. Бросил и его. В общем, где умный, а где дурак-дураком. Вернулся домой, вот агентство это открыл.
— Детей, девушки нет?
— Та-ак. Забудь. Он тебе не пара. Даже Сашка был лучше.
— Хуже Сашки никого нет, запомни. Ну почему не пара? Потому что умный? Или потому что дурак-дураком?
— Странный он, не семейный, в общем. Да и в принципе не по этой части что ли. Колдун он, вот и всё.
Тогда она и сказала мне, что он умел читать мысли, предсказывать будущее и искать потерянные вещи. «Что, например?» — спросила я. И она привела очень замечательный пример — он умел находить пропавших пьяных мужей. Был такой случай — он указал безутешной жене на юго-западное направление и уточнил — «мокрое, белое место». И потерявшегося алкоголика нашли в сугробе возле киоска «Лиза», который действительно стоял к юго-западу от центра города.
Конечно, я ни во что не поверила. И через неделю уже была у Сережи дома. Я записалась к нему на консультацию, хотя до последнего момента не знала, что буду спрашивать — мне не нужно было искать алкоголиков или читать чьи-то мысли. Меня тянуло то, что не открывалось в его глазах. Я не знала, что это, и собиралась это выяснить.
Первое, что меня удивило в его квартире — это огромный книжный шкаф во всю стену итак узкого коридора. Мне едва хватило места на ширину плеч, когда я вошла. В гостиной две из четырех стен были скрыты такими же шкафами, встроенными — от пола до натяжного потолка. А над диваном висела большая карта звездного неба. Спальню я тогда еще не видела.
Он сел за свой компьютер, включил какую-то программу, подождал несколько мгновений, и когда ему надоело мое молчаливое осматривание его стен, то сказал первый:
— Какой у вас вопрос? Спрашивайте.
— Есть ли жизнь после смерти?
Он посмотрел на меня с лёгкой улыбкой.
— Никто вам не сможет ответить на этот вопрос.
— Спасибо.
— За что?
— За то, что так ответили.
Сережа несколько раз щелкнул мышкой, пару минут изучал что-то на экране, наклоняя голову то вправо, то влево, а затем озадаченно взглянул на меня. Я растерялась.
— У вас был другой вопрос.
— В смысле?
— Вы пришли не с вопросом о жизни после смерти. У вас был вопрос про другого человека.
Он снова смотрел в свой компьютер.
— С этим человеком у вас могут быть отношения. Вы же думали о каком-то мужчине? Но эти отношения не будут долгими. Планеты, вас описывающие, конфликтуют сейчас, представляют разные ценности. Вы Венера, он Сатурн.
Это второе, что меня удивило.
Я оставила денюжку на столе, хихикнула «ты венера, я юпитер» и вылетела вон из его квартиры.
*
За поворотом показалась машина. Да, это Сережа. Я привстала, отряхнулась, хотя оградка была чистой — я ее только что протерла. И пыталась разглядеть выражение его лица за лобовым стеклом — рад он, страшно ли ему? А у меня сердце бьется, как пойманная рыба в ведре. Но я не рыба. А если рыба, то…
Кит — потому что я взрослая и сильная. И я плыву и живу так, как никакая рыбешка в океане жить не умеет.
Он вышел из машины.
— Спасибо, что согласился помочь. Мы боремся с сорняками, а они снова растут. Я даже не знала, что есть какое-то средство от них. А папиной-то могилой раньше мама занималась.
Зачем-то он стал рассказывать про химические реакции, про виды пестицидов, использование их в полях, воздействие на плоды, про то, что почвы восстанавливаются в течение десятилетий — все это выветрилось из моей головы почти сразу.
Он взял все в свои руки. Красивые крепкие мужские руки — не лесоруба, не мужика — а ремесленника. С точеными пальцами. Растворил пузырек пестицидов в бутылке с водой и, зажав горлышко пальцем, орошил могильную землю.
— Давай руки тебе помоем. Химия все-таки. У меня вода в рюкзаке осталась, — сказала я.
Мы вышли к нашим машинам — они едва вмещались между рядами могил — все кладбище было плотно перекопано. На похоронах говорили, что будут готовить новое, в паре километрах отсюда. Наверно там меня похоронят, в двух километрах от родителей. Но это все не важно. Важно только то, что произойдет до этого.
Тонкая скупая струя поливала его точеные пальцы.
— Полей мне тоже, — сказала я. Он смотрел так же непроницаемо, как и прежде.
— Ты так и не понял, что тогда я думала о тебе?
Он покраснел. Почти седой мужчина, на две головы выше меня, с непроницаемыми глазами (но в данный момент опущенными), читающий мысли и предсказывающий будущее, покраснел в ответ на мой вопрос. Он шмыгнул своим коротким носиком, пытаясь скрыть свою стеснительную полуулыбку, и в теле сорокалетнего колдуна я увидела застенчивого молодого юношу. Увидела в нем жизнь.
— Я так жить хочу, — сказала я. Тут же брызнула на него водой, протерла мокрыми руками его мокрое лицо и поцеловала. И он ответил твердо, жадно.
Он купил бутылку вина, и мы распили ее из горла на кухне, потому что я так захотела — без этикета, салфеток и фужеров. Он сказал, что у меня зубы стали фиолетовыми. «Это чтобы съесть тебя, дитя мое», — схохмила я, чтобы скрыть откуда-то взявшийся девичий стыд. И прикусила его шею. И стыд постепенно растаял в тепле человеческого тела — универсальном, как кровь или вода. Такое же тепло было у Саши, такое же оно было и у мамы. И я заедала этим теплом свою горемычную пустоту, как едят — не жуя и не смакуя — ночью после удачной охоты голодные хищники. Торопясь, отрывая крупные, мясистые куски. Вдруг смерть — более сильный хищник — отберет мою пищу. И было очень хорошо, потому что я так захотела.
А после он начал рассматривать мое тело, как я рассматривала его стены.
— Это что, сердечко? — присмотрелся он к моему серебряному кулону.
— Бывший подарил. На совершеннолетие.
— Ого. Это же сколько вы встречались?
— Двенадцать лет, с десятого класса. Забей, это просто кулон. Он в Москве теперь, дядя ему хорошую должность предложил, когда еще мама заболела. Звал с собой, конечно. Но куда я — у меня мама, считай, при смерти. «Скатертью дорожка», — я ему сказала. Он долго не уговаривал, даже не приехал ни разу за все это время. На похороны тоже. Хотя его никто и не приглашал…
Я сняла кулон, чтобы Сашин призрак не лежал между нами, и положила в кошелек. И снова начала рассматривать стены, только теперь в спальне — там тоже были книжные полки. Сережа лежал, накрыв себя одеялом, а я ходила голая, разглядывая корешки: религии мира, запредельное, восток и запад, шаманизм, переживание гипноза, карта мировых гороскопов…
— Ты веришь в загробную жизнь? Только, пожалуйста, без этих книг, без того, что там написано.
— Я так и собирался ответить. Я не верующий человек. Но, знаешь, ко мне как-то клиент ходил… На каждый свой день рождения приходил на консультацию и спрашивал, есть ли вероятность, что он умрет в этом году. Он очень боялся смерти. Обычно люди приходят с другими вопросами — выйду ли я замуж там, например, получится ли с бизнесом?
— Выйду ли я замуж за тебя, Сереж?
Он как-то горько и торопливо ухмыльнулся.
— В общем, я говорил каждый раз, что очень маленькая вероятность. А последний раз он пришел и сказал, что у него рак. И про вероятность не спросил, сам понимал. А пришел, чтобы сон свой рассказать. Приснилось ему значит, что он в темном вырубленном лесу — одни пеньки вокруг. И бензопила жужжит где-то. И вдруг — взлетает он на несколько метров выше земли — а там типо другая земля уже — светло, деревья растут, и тут к нему его покойный отец выходит и говорит — «Как видишь, здесь тоже лес».
— То есть ты веришь в загробную жизнь?
— Ну что мне тебе ответить, — он порывисто вздохнул.
— Получается, веришь. И ты можешь сказать, умрет ли человек в этом году?
— Только вероятность, точно сказать никто не сможет.
— Это ты в программе своей смотришь, «ты венера, я юпитер»?
— Да, — ухмыльнулся уже по-другому, весело.
— А мысли как читаешь?
— Кто тебе такое сказал? Я математик, максимум философ. Но не колдун.
На окнах у него висели обыкновенные, бежевые, удручающего вида жалюзи. Как будто из офиса.
— А почему ты выбрал такую профессию?
— Астролога? Или ритуального агента?
Да, обе эти профессии были странными и оставляли на языке какой-то нехороший привкус.
— Потому что они мне подходят. Вот и все.
Мы сели ужинать. Сережа постукивал чайной ложкой по столу и внимательно глядел на ямку, которую оставляла эта ложка. Не сводя с нее глаз, он предложил добавить мед в чай. Я посмотрела на баночку — там было написано «красная цена». Я сказала, что такой мед годится только для массажа. И он наконец выговорил:
— Ты ведь не знаешь наверно. Твоя мама приходила ко мне тоже. Она уже болела тогда, в марте. Спрашивала у меня, умрет ли в этом году. Прости, я сказал, что видел. Я сказал, что высокая вероятность. Так оно и было.
*
В позапрошлом марте стояла отвратительная погода. Она стояла такая не только на улице, но и дома. Я вернулась с работы и удивилась, увидев мамины сапоги на пороге, в луже растаявшего грязного снега. Обычно после улицы она первым делом их чистила. Я зашла в зал — мама сидела на диване напротив выключенного телевизора и смотрела в свое отражение на черном экране. Ее взгляд был непроницаем, как у Сережи.
— Мам, ты чего?
— Ничего, — ответила она. Притянула меня к себе и обняла, продолжая смотреть в экран.
— Ты таблетки пила?
— Пила, — соврала она.
И я соврала, передав от Саши, которого она называла сыном, привет.
Так она просидела еще целый год. Целый год жизни. Когда ее не стало, я выбросила ее сапоги.
*
Обуваться в этом узком коридоре было сложнее, чем разуваться. Его кроссовки тоже почему-то стояли в грязи, хотя на дворе был май — наверно от радости черканул по какой-то луже, пока за вином ходили. Сережа меня не останавливал, он с самого начала все знал — я Венера, он Сатурн.
— Ты счастливая женщина, — сказал он мне из прихожей, пока я ждала лифт. — Понимаешь, с тебя все как с гуся вода. А есть же другие люди. Как я. Которым это не подходит. Им нужно знать, что их ждет за следующим поворотом, чтобы не лезть туда.
— А мед у тебя все-таки хреновый, — все, что я могла сказать.
Он покраснел.
Но я должна была спросить еще кое-что напоследок.
— А что ты сказал той женщине, в церкви? Про какой снег ты говорил?
Он долго вспоминал. Так, что пришлось отпустить пойманный лифт.
— Выпадает снег, да… было такое. Даже первый снег выпадает не в один и тот же день каждый год… Это к тому, что каждому свое время отмерено — кому-то год, кому-то пятьдесят лет. Только природа не знает, что умрет, а человек знает, поэтому ему тяжело.
— Гуси тоже знают, — кинула я и зашла в лифт.
— Философ, ха! — ещё докинула, когда двери уже закрылись.
От Сережи до кладбища всего четыре поворота. Я встала на первом — это была развилка у большой дороги, которая вела из города по проселкам, деревням и лугам, а затем поворачивала в Москву, куда в том же марте отправился Сашка. Я раскопала на обочине небольшую ямку и бережно похоронила его кулон. Это не он оставил меня, и не мама, это мы втроем разъехались по разным дорогам.
И я прошла еще три поворота, потому что мне так захотелось. И потому что воздух был свежий, а небо большое — и если идти и смотреть на него, то оно начнет тебя укачивать в своей необъятной люльке. А если резко опустить голову, то в глазах потемнеет и дыхание остановится. Тогда нужно сделать первый глубокий вдох, заполнив все легкие духом этого вечера. И я вздохнула. Как новорожденная. Дух вошел, темнота растаяла, и передо мной явилось кладбище.
Я подошла к маминой могиле, присела поближе, чтобы она видела мое лицо и сказала ей:
— Мама, я гусь.
*
На следующее утро я пошла в магазин, потому что дико хотелось есть, а ужином меня так и не покормили. Улица была уже другая, не то, что вечером. Виден был каждый камешек — всякая крохотулька была обнята солнцем, и хотелось смотреть не вверх, а вниз и прятать глаза от тепла, которое растекалось по всем клеточкам.
«Пальцы, блин, ремесленника! Обыкновенные у него пальцы», — брюзжала я себе под нос, когда у стеллажей с рисом увидела Сережу. Краем глаза он меня заметил и слегка вздрогнул, продолжая смотреть на рис. Я тоже хотела пройти дальше, к заморозке, за цыпленком, но остановила себя.
— Мед ищешь?
Он вздрогнул уже без испуга, нарочито.
— Да, у меня ведь хреновый мед. Можно сказать, хрен вместо меда, — и мы дали себе волю посмеяться над этим.
— А вчера мы вместе выбирали здесь вино. Это ведь забавно, да?
Он по-детски хмыкнул, посмотрел на меня.
И могу уверенно сказать, что теперь он смотрел открыто, и в его взгляде я читала: «Да, это забавно, и это чудо, потому что все неспроста». И я передала ему без слов: «Это ты чудо-юдо». — «Просто мы не подходим друг другу», — ответил он. «Да, у нас разные дороги, и у меня сейчас поворот», — возможно, я даже сказала что-то такое вслух. И повернула к кассам.
Но я еще не сделала свой первый глубокий выдох. Мне нужно было заявить о своем рождении первым криком, который рвался наружу, как песня. Я вышла из магазина, подняла лицо к солнцу и пропела:
— Га-га-га!
Но я не хочу наводить мрачность. Я совсем не люблю кресты, я люблю картошку. Просто мы действительно были на кладбище; и сорняки, и тяпки, и даже моя сестра — были такими же, что и в детстве на даче. Возможно, поменялась только я.
— Вот они, наверно, сидят и думают — прикатили, — говорит сестра, с трудом пропалывая сорняки между родительскими могилами.
Я протираю оградку, потому что тяпка у нас одна.
— Не сидят, а лежат, — зачем-то говорю я. Ее это обижает.
— Нет, они там сидят.
Мою старшую сестру зовут Аня — потому что «А» первая буква в алфавите, а меня Яна -потому что после меня родители больше не хотели заводить детей. Так я представляла в детстве себя и свою сестру — так представлю и вам. Но в этой шутке нет доли правды — родителям просто казалось забавным назвать нас таким образом. И это правда забавно.
— Я не хочу, чтобы меня закапывали. Я бы выбрала кремацию, — говорю на случай, если больше не найду спутника жизни и не рожу детей, и хоронить меня придется сестре. — На кладбище такая атмосфера тяжкая. А родители ведь были легкими.
— Но ведь хорошо прийти помянуть. Поговорить. Так грустно смотреть на заброшенные могилы.
— А дома ты не вспоминаешь? В памяти они живые. А здесь — мертвые.
— Дома я плачу. К тому же ты выкинула все мамины вещи, — отвечает сестра.
— Ты же знаешь, что не все. Мне вот рядом с этими вещами плакать хотелось. Это ты с мужем в другой квартире живешь, а я с ними. Они напоминают, что мамы нет, она мертва. А у меня в голове она жива. И здесь, на могиле, тоже выть хочется.
Сестра примирительно вздыхает. И я начинаю свою шарманку.
— Как ты думаешь, Сережа прочтет в моих мыслях, что я хочу с ним… более близкие отношения?
— Ну ты, блин, даешь. Даже здесь. Опять собралась к нему? Ты же говорила, что он понял, зачем ты пришла.
— Он не понял, что мужчина, о котором я думаю — это он и есть.
— Ага. Прочтет и вышвырнет тебя из квартиры.
— Почему вышвырнет-то, а?
— Да потому что вместо мыслей у тебя тараканы в голове.
— Чтобы в квартиру не переползли! — не успела я дошутить, как она отрезала:
— Вот, скажут — пришли, ржут.
— В смехе ничего плохого нет.
Мы разъехались, так и не одолев непослушный, густой подшерсток сорной травы. Убрав лишь одуванчики. И я тут же по-тихому вернулась на могилу, чтобы Аня не узнала, что я собираюсь осквернить могилу родителей свиданием с мужчиной. Воспользовавшись сорняком как поводом для встречи.
*
Начну с того, что Сережа хоронил нашу мать. Ему принадлежало единственное в нашем городе ритуальное агентство. Он не копал могилы, не показывал каталоги гробов и крестов — это делали наемные сотрудники. Но на похоронах всегда присутствовал — зачем, я так и не поняла. Наверно он любил кладбище больше, чем картошку. К нему многие подходили в церкви — здоровались или советовались, как с духовником. Тогда я еще не знала почему. Ведь церковного сана он не имел и службы не проводил, — в общем, не был священником. Да и не был православным в полном смысле этого слова.
Впервые я увидела его в церкви, во время прощания. Отпевали не только маму, но и еще двоих, незнакомых мне людей. Сережа стоял сбоку от меня, у амвона. Какая-то женщина с измученным лицом подошла к нему и нежно положила его руки в свои. И с мольбой спросила:
— Сережа, родненький, за что, ответь мне? Сын сначала, потом муж. Скажи, пожалуйста, за какие грехи? Да как же мне их отмолить?
Женщина спрашивала в полный голос, не стесняясь, даже не думая о том, что мешает или что ее слова будут кем-то подслушаны. Священник как раз проходил с кадилом вдоль гробов и, подходя к изножью, нахмурился, увидев эту картину — по сути Сережа заявлялся в церковь со своим языческим уставом и перетягивал к себе паству.
Он отвечал тихо, я лишь уловила — «выпадает снег».
Все также держа его руки в своих, она быстро поднесла их к губам и поцеловала, чтобы он не успел отдернуть. Ему это не понравилось — он тут же бросил взгляд на священника — тот шел уже к изголовью и не видел происходящего. Я повернулась к сестре — она смотрела на маму. Когда священник закончил, слово взял Сережа и сказал, что заколотить гробы лучше здесь, в церкви, чем на кладбище. Там будет тяжелее. И все три гроба заколотили. Я же понимала, что для меня это не имеет никакого значения. Мамы нет, и тело — это лишь мираж. Сложнее было оживить ее в памяти — казалось, я не видела ее уже несколько лет, хотя мы общались неделю назад. Я вспоминала эпизоды — с ее лицом, смехом, интонацией, ее словечками — которые могла бы воспроизвести в голове, как видеозапись — и не насчитывала и пяти. Хотя всегда жила с ней под одной крышей. Вот что было страшно.
Именно тогда я вспомнила игру, в которую она играла со мной в детстве. Мама доставала энциклопедию и просила найти то животное, на которое, по моему мнению, я похожа. И рассказать — чем похожа. Ее это забавляло, потому что я не была склонна выбирать больших и красивых животных — тигров или слонов. Я выбирала маленьких и чудаковатых: ежика — потому что я тоже пушистая, канарейку — потому что люблю желтый цвет. Я была ничтожной и неловкой по сравнению с той большой жизнью, которая меня еще ждет. А сейчас я знала — я тоже буду там, в земле, и меня не так много ждет, как мне бы хотелось. И в это мгновение — на отпевании — я очнулась большим и голодным зверем, жаждущим одного — жить.
Я волк — потому что голодный и смелый.
Сережа, с его высоким ростом и крепкой фигурой, здесь, на кладбище, напоминал Харона, перевозящего души умерших на другой берег. Только вместо весел у него была лопата. В этот раз он зачем-то помогал копать. Все в нем говорило про то, что другой берег он хорошо знал. Его молчаливость, угрюмый взгляд, его ранняя седина. Но умел ли он жить здесь, в мире живых? Любил ли он эту жизнь?
Да, в день похорон моей матери я искала кольцо на его безымянном пальце — его там не было. Я искала, чем затмить горе, отчаянно искала жизнь. И поняла, что чувствовать можно многое одновременно. Или не совсем одновременно: одно мгновение ты отдаешь одному переживанию, а следующее — уже отбирает другое. И они откусывают от тебя помногу или помалу, растрачивают тебя попусту, ничего не оставляя взамен.
— Все мы с Богом будем, — вздохнула мамина подруга.
— А откуда вы знаете? — я машинально пробурчала это себе под нос, но тетя Тоня услышала.
— Яна-а, ты Бога-то не гневи, на могиле-то у матери.
Сережа в это время закапывал маму. Он слышал наш разговор и смотрел на меня с пониманием — не с жалостью или сочувствием. Хотя смотрел он будто не глазами, взгляд его был непроницаем — не знаю, как еще по-другому сказать — по одним его глазам нельзя было ничего прочесть. И над ними, будто специально для защиты, нависали взбитые надбровные дуги. Я читала щеки, улыбку, лоб, шею, все — но только не глаза.
— Я, например, этого не знаю. Я знаю только то, что вижу.
— Это вера, Яна! Вера, — начала показывать она рукой на мамину могилу.
— Ее Катя звали, а не Вера.
Сестра стояла по другую сторону от меня и дергала мой рукав.
Мамина подруга изобразила ужас на лице и отошла на несколько шагов, кинув в меня шипящее «с ума сошла совсем». Тетя Тоня была не самой лучшей подругой — как-то украла мамины золотые сережки — поэтому от самообвинения я быстро отмахнулась.
Аня подошла к Сереже, чтобы расплатиться, и я поняла, что они знакомы. И расспросила о нем на следующий же день. Как оказалось, он учился в ее параллельном классе.
— Его Пентиум в школе звали. Мог любой пример решить в уме, без столбика или калькулятора. Ботаник, в общем. Но такой тихий весь был, в своем мире жил. Он ведь в московский физтех поступил — никто из нашего города туда не проходил. Но потом бросил, вроде на философский перешел. Бросил и его. В общем, где умный, а где дурак-дураком. Вернулся домой, вот агентство это открыл.
— Детей, девушки нет?
— Та-ак. Забудь. Он тебе не пара. Даже Сашка был лучше.
— Хуже Сашки никого нет, запомни. Ну почему не пара? Потому что умный? Или потому что дурак-дураком?
— Странный он, не семейный, в общем. Да и в принципе не по этой части что ли. Колдун он, вот и всё.
Тогда она и сказала мне, что он умел читать мысли, предсказывать будущее и искать потерянные вещи. «Что, например?» — спросила я. И она привела очень замечательный пример — он умел находить пропавших пьяных мужей. Был такой случай — он указал безутешной жене на юго-западное направление и уточнил — «мокрое, белое место». И потерявшегося алкоголика нашли в сугробе возле киоска «Лиза», который действительно стоял к юго-западу от центра города.
Конечно, я ни во что не поверила. И через неделю уже была у Сережи дома. Я записалась к нему на консультацию, хотя до последнего момента не знала, что буду спрашивать — мне не нужно было искать алкоголиков или читать чьи-то мысли. Меня тянуло то, что не открывалось в его глазах. Я не знала, что это, и собиралась это выяснить.
Первое, что меня удивило в его квартире — это огромный книжный шкаф во всю стену итак узкого коридора. Мне едва хватило места на ширину плеч, когда я вошла. В гостиной две из четырех стен были скрыты такими же шкафами, встроенными — от пола до натяжного потолка. А над диваном висела большая карта звездного неба. Спальню я тогда еще не видела.
Он сел за свой компьютер, включил какую-то программу, подождал несколько мгновений, и когда ему надоело мое молчаливое осматривание его стен, то сказал первый:
— Какой у вас вопрос? Спрашивайте.
— Есть ли жизнь после смерти?
Он посмотрел на меня с лёгкой улыбкой.
— Никто вам не сможет ответить на этот вопрос.
— Спасибо.
— За что?
— За то, что так ответили.
Сережа несколько раз щелкнул мышкой, пару минут изучал что-то на экране, наклоняя голову то вправо, то влево, а затем озадаченно взглянул на меня. Я растерялась.
— У вас был другой вопрос.
— В смысле?
— Вы пришли не с вопросом о жизни после смерти. У вас был вопрос про другого человека.
Он снова смотрел в свой компьютер.
— С этим человеком у вас могут быть отношения. Вы же думали о каком-то мужчине? Но эти отношения не будут долгими. Планеты, вас описывающие, конфликтуют сейчас, представляют разные ценности. Вы Венера, он Сатурн.
Это второе, что меня удивило.
Я оставила денюжку на столе, хихикнула «ты венера, я юпитер» и вылетела вон из его квартиры.
*
За поворотом показалась машина. Да, это Сережа. Я привстала, отряхнулась, хотя оградка была чистой — я ее только что протерла. И пыталась разглядеть выражение его лица за лобовым стеклом — рад он, страшно ли ему? А у меня сердце бьется, как пойманная рыба в ведре. Но я не рыба. А если рыба, то…
Кит — потому что я взрослая и сильная. И я плыву и живу так, как никакая рыбешка в океане жить не умеет.
Он вышел из машины.
— Спасибо, что согласился помочь. Мы боремся с сорняками, а они снова растут. Я даже не знала, что есть какое-то средство от них. А папиной-то могилой раньше мама занималась.
Зачем-то он стал рассказывать про химические реакции, про виды пестицидов, использование их в полях, воздействие на плоды, про то, что почвы восстанавливаются в течение десятилетий — все это выветрилось из моей головы почти сразу.
Он взял все в свои руки. Красивые крепкие мужские руки — не лесоруба, не мужика — а ремесленника. С точеными пальцами. Растворил пузырек пестицидов в бутылке с водой и, зажав горлышко пальцем, орошил могильную землю.
— Давай руки тебе помоем. Химия все-таки. У меня вода в рюкзаке осталась, — сказала я.
Мы вышли к нашим машинам — они едва вмещались между рядами могил — все кладбище было плотно перекопано. На похоронах говорили, что будут готовить новое, в паре километрах отсюда. Наверно там меня похоронят, в двух километрах от родителей. Но это все не важно. Важно только то, что произойдет до этого.
Тонкая скупая струя поливала его точеные пальцы.
— Полей мне тоже, — сказала я. Он смотрел так же непроницаемо, как и прежде.
— Ты так и не понял, что тогда я думала о тебе?
Он покраснел. Почти седой мужчина, на две головы выше меня, с непроницаемыми глазами (но в данный момент опущенными), читающий мысли и предсказывающий будущее, покраснел в ответ на мой вопрос. Он шмыгнул своим коротким носиком, пытаясь скрыть свою стеснительную полуулыбку, и в теле сорокалетнего колдуна я увидела застенчивого молодого юношу. Увидела в нем жизнь.
— Я так жить хочу, — сказала я. Тут же брызнула на него водой, протерла мокрыми руками его мокрое лицо и поцеловала. И он ответил твердо, жадно.
Он купил бутылку вина, и мы распили ее из горла на кухне, потому что я так захотела — без этикета, салфеток и фужеров. Он сказал, что у меня зубы стали фиолетовыми. «Это чтобы съесть тебя, дитя мое», — схохмила я, чтобы скрыть откуда-то взявшийся девичий стыд. И прикусила его шею. И стыд постепенно растаял в тепле человеческого тела — универсальном, как кровь или вода. Такое же тепло было у Саши, такое же оно было и у мамы. И я заедала этим теплом свою горемычную пустоту, как едят — не жуя и не смакуя — ночью после удачной охоты голодные хищники. Торопясь, отрывая крупные, мясистые куски. Вдруг смерть — более сильный хищник — отберет мою пищу. И было очень хорошо, потому что я так захотела.
А после он начал рассматривать мое тело, как я рассматривала его стены.
— Это что, сердечко? — присмотрелся он к моему серебряному кулону.
— Бывший подарил. На совершеннолетие.
— Ого. Это же сколько вы встречались?
— Двенадцать лет, с десятого класса. Забей, это просто кулон. Он в Москве теперь, дядя ему хорошую должность предложил, когда еще мама заболела. Звал с собой, конечно. Но куда я — у меня мама, считай, при смерти. «Скатертью дорожка», — я ему сказала. Он долго не уговаривал, даже не приехал ни разу за все это время. На похороны тоже. Хотя его никто и не приглашал…
Я сняла кулон, чтобы Сашин призрак не лежал между нами, и положила в кошелек. И снова начала рассматривать стены, только теперь в спальне — там тоже были книжные полки. Сережа лежал, накрыв себя одеялом, а я ходила голая, разглядывая корешки: религии мира, запредельное, восток и запад, шаманизм, переживание гипноза, карта мировых гороскопов…
— Ты веришь в загробную жизнь? Только, пожалуйста, без этих книг, без того, что там написано.
— Я так и собирался ответить. Я не верующий человек. Но, знаешь, ко мне как-то клиент ходил… На каждый свой день рождения приходил на консультацию и спрашивал, есть ли вероятность, что он умрет в этом году. Он очень боялся смерти. Обычно люди приходят с другими вопросами — выйду ли я замуж там, например, получится ли с бизнесом?
— Выйду ли я замуж за тебя, Сереж?
Он как-то горько и торопливо ухмыльнулся.
— В общем, я говорил каждый раз, что очень маленькая вероятность. А последний раз он пришел и сказал, что у него рак. И про вероятность не спросил, сам понимал. А пришел, чтобы сон свой рассказать. Приснилось ему значит, что он в темном вырубленном лесу — одни пеньки вокруг. И бензопила жужжит где-то. И вдруг — взлетает он на несколько метров выше земли — а там типо другая земля уже — светло, деревья растут, и тут к нему его покойный отец выходит и говорит — «Как видишь, здесь тоже лес».
— То есть ты веришь в загробную жизнь?
— Ну что мне тебе ответить, — он порывисто вздохнул.
— Получается, веришь. И ты можешь сказать, умрет ли человек в этом году?
— Только вероятность, точно сказать никто не сможет.
— Это ты в программе своей смотришь, «ты венера, я юпитер»?
— Да, — ухмыльнулся уже по-другому, весело.
— А мысли как читаешь?
— Кто тебе такое сказал? Я математик, максимум философ. Но не колдун.
На окнах у него висели обыкновенные, бежевые, удручающего вида жалюзи. Как будто из офиса.
— А почему ты выбрал такую профессию?
— Астролога? Или ритуального агента?
Да, обе эти профессии были странными и оставляли на языке какой-то нехороший привкус.
— Потому что они мне подходят. Вот и все.
Мы сели ужинать. Сережа постукивал чайной ложкой по столу и внимательно глядел на ямку, которую оставляла эта ложка. Не сводя с нее глаз, он предложил добавить мед в чай. Я посмотрела на баночку — там было написано «красная цена». Я сказала, что такой мед годится только для массажа. И он наконец выговорил:
— Ты ведь не знаешь наверно. Твоя мама приходила ко мне тоже. Она уже болела тогда, в марте. Спрашивала у меня, умрет ли в этом году. Прости, я сказал, что видел. Я сказал, что высокая вероятность. Так оно и было.
*
В позапрошлом марте стояла отвратительная погода. Она стояла такая не только на улице, но и дома. Я вернулась с работы и удивилась, увидев мамины сапоги на пороге, в луже растаявшего грязного снега. Обычно после улицы она первым делом их чистила. Я зашла в зал — мама сидела на диване напротив выключенного телевизора и смотрела в свое отражение на черном экране. Ее взгляд был непроницаем, как у Сережи.
— Мам, ты чего?
— Ничего, — ответила она. Притянула меня к себе и обняла, продолжая смотреть в экран.
— Ты таблетки пила?
— Пила, — соврала она.
И я соврала, передав от Саши, которого она называла сыном, привет.
Так она просидела еще целый год. Целый год жизни. Когда ее не стало, я выбросила ее сапоги.
*
Обуваться в этом узком коридоре было сложнее, чем разуваться. Его кроссовки тоже почему-то стояли в грязи, хотя на дворе был май — наверно от радости черканул по какой-то луже, пока за вином ходили. Сережа меня не останавливал, он с самого начала все знал — я Венера, он Сатурн.
— Ты счастливая женщина, — сказал он мне из прихожей, пока я ждала лифт. — Понимаешь, с тебя все как с гуся вода. А есть же другие люди. Как я. Которым это не подходит. Им нужно знать, что их ждет за следующим поворотом, чтобы не лезть туда.
— А мед у тебя все-таки хреновый, — все, что я могла сказать.
Он покраснел.
Но я должна была спросить еще кое-что напоследок.
— А что ты сказал той женщине, в церкви? Про какой снег ты говорил?
Он долго вспоминал. Так, что пришлось отпустить пойманный лифт.
— Выпадает снег, да… было такое. Даже первый снег выпадает не в один и тот же день каждый год… Это к тому, что каждому свое время отмерено — кому-то год, кому-то пятьдесят лет. Только природа не знает, что умрет, а человек знает, поэтому ему тяжело.
— Гуси тоже знают, — кинула я и зашла в лифт.
— Философ, ха! — ещё докинула, когда двери уже закрылись.
От Сережи до кладбища всего четыре поворота. Я встала на первом — это была развилка у большой дороги, которая вела из города по проселкам, деревням и лугам, а затем поворачивала в Москву, куда в том же марте отправился Сашка. Я раскопала на обочине небольшую ямку и бережно похоронила его кулон. Это не он оставил меня, и не мама, это мы втроем разъехались по разным дорогам.
И я прошла еще три поворота, потому что мне так захотелось. И потому что воздух был свежий, а небо большое — и если идти и смотреть на него, то оно начнет тебя укачивать в своей необъятной люльке. А если резко опустить голову, то в глазах потемнеет и дыхание остановится. Тогда нужно сделать первый глубокий вдох, заполнив все легкие духом этого вечера. И я вздохнула. Как новорожденная. Дух вошел, темнота растаяла, и передо мной явилось кладбище.
Я подошла к маминой могиле, присела поближе, чтобы она видела мое лицо и сказала ей:
— Мама, я гусь.
*
На следующее утро я пошла в магазин, потому что дико хотелось есть, а ужином меня так и не покормили. Улица была уже другая, не то, что вечером. Виден был каждый камешек — всякая крохотулька была обнята солнцем, и хотелось смотреть не вверх, а вниз и прятать глаза от тепла, которое растекалось по всем клеточкам.
«Пальцы, блин, ремесленника! Обыкновенные у него пальцы», — брюзжала я себе под нос, когда у стеллажей с рисом увидела Сережу. Краем глаза он меня заметил и слегка вздрогнул, продолжая смотреть на рис. Я тоже хотела пройти дальше, к заморозке, за цыпленком, но остановила себя.
— Мед ищешь?
Он вздрогнул уже без испуга, нарочито.
— Да, у меня ведь хреновый мед. Можно сказать, хрен вместо меда, — и мы дали себе волю посмеяться над этим.
— А вчера мы вместе выбирали здесь вино. Это ведь забавно, да?
Он по-детски хмыкнул, посмотрел на меня.
И могу уверенно сказать, что теперь он смотрел открыто, и в его взгляде я читала: «Да, это забавно, и это чудо, потому что все неспроста». И я передала ему без слов: «Это ты чудо-юдо». — «Просто мы не подходим друг другу», — ответил он. «Да, у нас разные дороги, и у меня сейчас поворот», — возможно, я даже сказала что-то такое вслух. И повернула к кассам.
Но я еще не сделала свой первый глубокий выдох. Мне нужно было заявить о своем рождении первым криком, который рвался наружу, как песня. Я вышла из магазина, подняла лицо к солнцу и пропела:
— Га-га-га!



