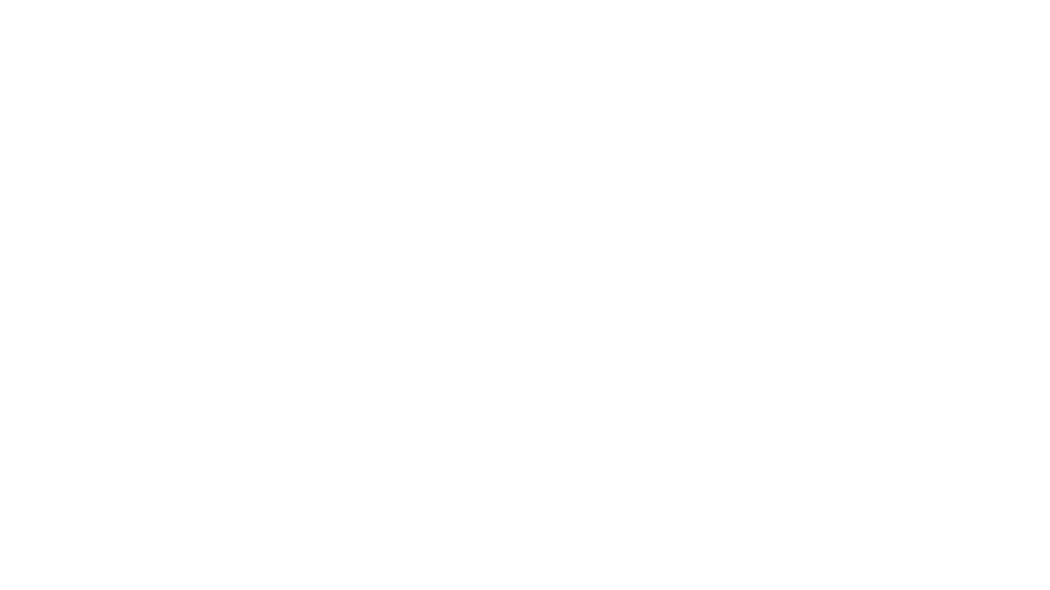
Евгений Бесчастный — Малафей Мелентьев
Евгений Бесчастный (р. 1988) — поэт, прозаик. Родился в Севастополе. С 1991 по 2017 гг. жил в Бресте, с 2017 г. живет в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Артикль», «Homo Legens», «Новая Юность», «Этажи», «Знамя», «Кольцо А», «Звезда», «Алтай», «Новый мир»; на интернет-порталах «Textura», «ЛiтРАЖ», «Формаслов». Участник фестивалей «Вершы на асфальце» (Минск), «Петербургские мосты». Лонг-лист премии «Лицей» 2022 (проза). Автор трёх поэтических сборников.
В провинции каждый человек, что встречается вам на пути, — точно камень. Сталкиваетесь вы в этом душном лабиринте, куда друг от друга деться, не знаете. И оба друг другу — тупик.
Малафея Мелентьева впервые я повстречал в далёком детстве. Хотя мне это могло и присниться. Детские сны часто меняются с явью местами.
Было так. Гремело застолье хлебосольное. Говорливые взрослые сивуху наливают, чарками чокаются, выпивают, лица полотенцами вытирают. Куриные кости, хлебные корки, скорлупа яичная по всему свету разлетаются. Чад и баяна надрыв. Мы — свора детишек лет четырёх шальными щенками носимся по залу, цыган пляшущих с ног сбиваем, бочки с овощем малосольным опрокидываем, под столы юркаем. Там с сидящих башмаки стягиваем, за лодыжки щиплем, пятки щекочем, пальцы, что из носков торчат, кусаем. Эх, да, было времечко! Только дети и могут у нас вытянуться во весь свой рост неокончательный…
И вот, среди этого разрушительного безобразия, помню отчётливо, как женский голос позвал:
— Малафей!
Он оборачивается — и зарево встает, точно печной заслон открыли. И гуськом за ним влюблённые девочки:
— Малафей! Малафей!
И косяком вокруг него укрощённые мальчики:
— Малафей! Малафей! Малафей!
Он высился среди нас лисом средь птенцов. Статен, кучеряв, рыж. Старше нас годами двумя, а то и тремя, а значит, на целую жизнь старше. Витала вокруг него аура нездешняя. Смотришь и понимаешь: не отсюда он, будто ножницами из другого измерения вырезан и сюда, в наше, бренное, вклеен. Что-то в его поступках было грубое, что нарушало все законы наши детские, и при этом столь благообразное в глазах взрослых, что он моментально был поставлен над нами надзирателем и поводырём. Роль эту он ничем не подкреплял, напротив, даже сачковал, однако был хвалим и поощряем за то, как превосходно справляется. Нас же, остальных, всё попрекали его примером. Такие, как он, когда вырастут, продолжают так же: Всевышний их любит и среди рабов своих особо отмечает, а приглядишься: так они не столько хороши, сколько меру иную во всём имеют.
Эти воспоминания так и пропали бы под грудой лет, если бы не новое появление Малафея Мелентьева на моей дороге. На этот раз, увы, не гипотетическое, а вполне реальное. Поначалу, однако, я решил, что у меня поехала крыша. Лишиться рассудка в нашем городе — совсем не редкость. Мы называем это «первая смерть». Потому и значения особого происходящему я не придал: едет крыша и едет. Кто я такой, чтоб не сходить с ума? Но в конце концов какая-то сила — та же, верно, что диск земной каменьями полнит и купол небесный держит над печальной моей головой — та же сила швырнула меня в правду, как в воду слепого щенка.
Я работаю на каменоломне, как почти всё население наше. Жена моя будущая, Астрид, пришла к нам на предприятие молодой неопытной курочкой: пушок на руках, юбчонка в незабудки. Как на работу переоделась — роба торчком на ней, пояс под мышками, увалень увальнем. Размера в пору ей не нашлось, только большие имелись. Был я выделен ей в наставники и с первого занятия пленился наивностью веснушек, розовым полуоткрытым ртом, световым ореолом над рыжей гривой. Объясняю, как диск по камню водицей спрыскивать во избежание перегрева, а сам любуюсь купанием её всей, всей в медовых лучах запылённых, что сквозь квадраты грязных потолочных окон в цех пробиваются. Любуюсь тем, как отдельные волоски вздыбились из тугого пучка, в который она косицы свернула на макушке, и пламенем горят на свету. Это пламя и на меня перескочило. И поджёг я им сердце моей Астрид.
Она смотрела на меня глазами внимательными, влажными. Точно звезду далёкую в небе высматривала. Спел я в эти глаза:
Астрид, моя Астрид,
Я твой астероид...
Так и завертелось у нас.
Любовь случилась тихая, домашняя. Читали вслух классическую литературу для горняков, грели грог, горячую картошку из рук в руки перебрасывали, на стёкла дышали. На перинах нежились, под одеялом ёжились. Всё, как у всех. Звёзды, опять же, в небе рассматривали. Насколько, конечно, их можно рассмотреть через Сеть.
Я у неё во всех отношениях был первопроходцем. Первым другом, первым мужчиной. «Первым человеком», как говаривала она в минуты трепетного откровения.
Но однажды всё омрачилось, потускнело, облетело сухой листвой. Всю ту жаркую осень промаялся я сам не свой, пот холодный рукавом дерюжным утирал, «первую смерть» себе прочил. Даже происки нечистой силы было заподозрил. До правильного же ответа, простого, как камень, я дошёл в последнюю очередь.
Нелепица, бред, анекдот! Астрид моя охладела, всё равно как лягушка ночью рядом лежит. То была уже не та егоза ласковая, что плечи мне тепло и щекотно целовала. То была утомленная женщина, ожесточённая на того, кто её утомил. Сон, аппетит, речь потеряла, и я вместе с ней. Полутрупами ползаем бок о бок по бугристым мостовым, с добрыми людьми здороваться забываем, молву о себе скабрезную порождаем. Астрид стала чужда и далека, и астра в зелёной бутылке пожухла, завяла, вода помутнела, зловонною стала. Астрид, Астрид, поникла астра! Кто, Астрид, будет воду освежать? Где твоё участие, Астрид? Безмолвствует Астрид, глядит мимо, уста в полуулыбке. А потом на меня взгляд переведёт — как на болото, которое перейти надо: можно бы, да замараешься. Астрид, Астрид, режешь острым ножом! Где же остров наш, Астрид? Что же ты? Куда же ты? Где же ты?
И вдруг, как осень уж на исходе была, все подушки наши перьевые вспорола и, покамест перья порхали по каморке, призналась во всём. В том призналась, что уж давно оно всё, всю ту осень жаркую, и так глубоко да садко, что и сил у неё боле нет терпеть; и что, если б я сам наружу весь гной не вытащил, признание не вымолил, то и померла бы, наверно, или сбежала. А куда у нас сбежишь?
— Кто он? Кто?! — воплю, заламывая руки.
— Малафей Мелентьев.
Я вздрогнул. Выговорила — как выковала. И словно солнце над ней воссияло. Ей солнце — мне пламя адское.
На следующий день явился он за нею и забрал её у меня со всеми пожитками. Даже зубило моё старое по ошибке прихватили. Но это уж мелочи.
Сидим мы с ней с утра в кухне, чай с булкой пьём. Она мрачна, дышит часто, будто в прямом смысле убегает. Я скорбь глотаю, булка в глотку не лезет. Повремени, говорю, погоди, отляжет, глядишь, рассосётся.
— Ничего, — говорит, — не рассосётся. Пейте, вон, свой чай, а то остыл, поди.
Тут-то грохот многих колёс за окошком и раздался. Приехал сам, на каталке парадной, отполированной по-чужеземному, дружка в помощь привёз и тележку, собакой запряжённую, для поклажи.
В дверь постучали. Сердце затрепыхалось, как курица пред топором. Словно жизни моей верховный судья явился. Встал я. Встала и она, фартук одёрнула. Не встала даже, вскочила, головой в потолок ударилась, и оба мы к двери — шасть!
— Сама! Сидите уж, — шикнула мне, моего волнения стыдясь и тоже, видимо, волнуясь.
Поправила льняное платьице, веревочку, которой подпоясана была, подтянула, фартук снова одёрнула, хоть положено бы снять его. Выдохнула и — как я за рукав потянуть её хотел, чтоб всё ж во имя приличий фартук скинула — дверь тяжёлую распахнула. Там — он. Туловище за порогом, а голову на долгой изящной шее внутрь просунул, что твой жираф заморский:
— Мир дому сему! — голос высокий, ломкий, несообразно с комплекцией. Да и выговор мог бы правильнее быть. Впрочем, это я себя со стороны не слышал...
— Мир пришедшему, — цежу сквозь зубы. Гостя обидеть нельзя, даже если за женой пожаловал.
— К вам можно? — спросил он меня и проник уже весь в нашу каморку, половицей просевшей скрипнул.
Высок, широк, скрючиться пришлось ему чуть не пополам под нашим потолком. Вторгся в разорённое гнездо наше, капюшон скинул — рыжий-рыжий, кудри-локоны свисают чуть не до плеч. Лицо холёное, благородно бледен, а щёки румяные, как куличи. Глаза голубые, рыбьи, навыкате и с огоньком бесовским, точно в глубине пещеры дикарь с факелом пляшет. А он и сам о том дикаре не знает.
— Заходи уж, коль пришёл, — буркнула ему Астрид. Эту грубость я было за недовольство принял: уж не в сомнениях ли она? Но как у ней грудь вздымалась, как щёки яблоками спелыми зарделись, как ресницы опускались!.. Нет, то не сомнения, то любовь неотёсанная, первобытная, крепкая, как камень.
— Малафей Мелентьев, — он подал мне свою нежную сильную руку и прямо в глаза заглянул. Тут-то у меня и всплыло то воспоминание застольно-разгульное, и даже едва не заикнулся спросить его, помнит ли. Да вовремя сообразил, сколь неуместен и глуп был бы подобный вопрос.
— Фёкл Крагин, — представился я. Не знаю, как, но я почуял: это самый главный человек в моей жизни.
— Уютно у вас! — он оглядел наше жилище, впрочем, бегло и невнимательно. — Мне Астрид много о вас рассказывала.
— А мне о вас — не очень много, — говорю и ловлю раздражённый взгляд Астрид. И правда, нехорошо.
Он улыбнулся мне раздольной улыбкой своей. Я улыбнулся в ответ. Предательская машинальная вежливость!
Вещи они укладывали споро, крылато, с шуткой. Перебрасывали друг другу через комнату, хоть в том надобы никакой не было: комната-то — блоха в один прыжок одолеет. Смеялись, беседовали на темы мне непонятные, едва ли не на собственном языке. Все кардиганы, балахоны, чулки да подъюбники, вся одёжа повседневная и выходная в один тюк влезла. Да ещё сундук утвари: черпаки медные, ложки, чугунки, дуршлаги, утюги да сковородки. Вот и вся Астрид. Была да вышла.
Я, пока всё это творилось, посерёд комнаты стоял-горбился, шею о тёс потолочный чесал. Они на меня внимания мало обращали, только если что-нибудь друг другу в руки не добрасывали, и падало оно неподалёку от меня, то просили поднять. И я поднимал. И даже сундук с утварью ему помог закрыть, замок там проржавел. Он куль на плечо взвалил легко, воздушно. Она дверь ему отворила, держит. Каталка его стоит у штакетника, тележка, собакой запряженная, рядом; собака уж нетерпеливо землю роет и скулит. А дружок его, помощник, караулит-поджидает, на своей каталке сидя. От нечего делать букет листьев опавших насобирал и компонует, чтоб покрасивее их сложить. Увидал, что выходят, подскочил к Малафею помочь поклажу к тележке пристегнуть. Но прежде букет свой Астрид протянул, та зарделась, сказала: «благодарствуйте!», реверанс отмочила. Никогда такою её не видывал!
— Ну, братец, спасибо! Не поминай лихом! — сказал Малафей Мелентьев и подал мне руку.
Я остолбенел, стою-сутулюсь под козырьком крыльца, таращусь на него и руки не подаю. Только челюсть ходуном ходит, зубы стучат: уже холода обозначились, а я в домашнем как был, балахона не накинул даже. Хмыкнул он, набросил капюшон и стал наколенники поправлять, на каталку водружаться. И тут в тележке их что-то хрустнуло, повело её в сторону, в сторону, и — раз — набок она так и шмякнулась. Вот оно как! По моде лакирована, полировка образцовая, а ось, а рессоры качества никудышнего. Не выдержала тележка скарба моей Астрид. Собака залаяла от досады, что поездка отлагается.
— Вот незадача! Пособи-ка, Гарманталай!
Дело обыкновенное началось: молоты, пассатижи достали. Кладь с тележки стащили, Малафей плечом её приподнял, а Гарманталай, дружок его, орудует, кончик языка из уголка рта высунул.
— Вы бы помогли, а? — укорила меня Астрид.
Я стою-горблюсь, с крыльца не сошёл даже. Она села на мощёной дорожке на корточки предо мной, снизу вверх глядит, ножки в наколенниках из-под тулупа и платья выглядывают.
— Фу, как некрасиво! — покачала она головой.
И тут снег посыпал! Редкий-редкий, сухой. Отдельные снежинки такие чёткие, резные, каждая спица, каждая грань у них видна. Ветерок дунул, Сеть над нами задрожала. Я взял её за запястье, сжал.
— Пустите! Чего вы?
Насупилась; глазёнки забегали беспокойно.
Держу. Не знаю, что сказать, что сделать? Что скажет она? Что дальше будет?
— Пустите! Не то Малафею всё расскажу, — говорит, ручонку из хватки моей выкручивает.
Малафей, смотрю, уж с ключом разводным возится, по гайке, намертво приржавевшей к колесу, колотит, а Гарманталай телегу приподнял и держит, тужится.
— Оставайся, Астрид. Брось его. Заживём, — говорю.
— Полно уж, пустите!
— Оставайся, — говорю, от снежинок отмахиваюсь.
Выпустил её руку. Сидит она, букетик листьев сухих теребит, взгляд потупила.
— Ну, Астрид, прощайся! Едем! — гаркнул Малафей.
Шустро сдюжили ребята.
— Прощайте! — бросила она.
Глаза на меня поднимает, и тут ей снежинка на нос села. Такая хорошая, пушистая, как крошечная птица. Все подробности оперения видны, как под лупой. Примостилась на кончик носа ей, округлилась, исказилась и растаяла вмиг. Сидит Астрид, букет свой перебирает, с каплей на носу. Я краем рукава легонько по носу ей прошёлся, каплю стёр.
— Прощай, Астрид! — говорю.
А у самого внутри дрогнуло, заныло оттого, что снежинка на ней растаяла. Живое, думаю. Тёплое.
Взобралась она на свою каталку, юбкой колени обхватила, рукавицы надела. Утюги они все взяли в руки, оттолкнулись лихо и покатили по булыжной мостовой. Собаку с тележкой вперёд погнали, она дорогу знает. А я на крыльце горбиться остался, с талой снежинкой на рукаве.
Вполз я тогда в постылый дом, дверью крякнул за собой. Мох да плесень, да осы коматозные на мутном окне возятся. Картофельные очистки и перья из подушек к босым ступням липнут. И кружка её с чаем недопитым, и булка, ею надкусанная, и в ненароком допущенной ею на столе лужице одуванчикового варенья жук копошится. И на полу чулок её непарный валяется, в спешке забытый. Обхватил я голову бедовую свою, а что делать — поди знай. Воздух прелый вдыхаю — будто нутро он мне занозит. Стою-горблюсь над всем этим. Эх, думаю, что ж ещё поделать. Сел, сивухи налил, выпил. Повело голову, хорошо повело. Налил еще, выпил. День впереди. Снег сыплет, каталки редкие за окном гремят. Тишина звенит.
Разделся я вдруг догола, к зеркалу, ржавой ряской заросшему, подлез. Старое доброе дедово зеркало, видело ли меня таким?
Костляв, как летучая мышь. Волосат, точно зверь. А пузо бегемотье голое набрякло и свисает над унылым хоботком. Ноги птичьи гадкими жиденькими кудрями обросли. Изо рта воняет тухлятиной, сколько ни полощу его цветочным отваром. На отвислой нижней губе всё крупная капля слюны назревает, как ни утираю рукавом. Пряди черными червяками до самого кончика носа болтаются, как ни блюду прямой пробор, они всё застят глаза, от сивухи по-бычьи налитые, растерянные. Красный нос испещрен черными порами, на огромную клубнику похож. Подбородок бугрист, что твой экскремент ископаемый. Кадык — точно кто с той стороны кирку вонзил. Меня пугаются. Речь моя тягуча и вязка. Я слова подбираю слишком долго, устают ждать и уходят. Как Астрид. Она порой говорила мне: глядишь на тебя, а ты как будто уж умер, как мертвец с портрета взираешь. Прошу растолковать — не может. Пальцы длинные, у основания кряжисты, к кончикам — тонкие, бледные, холодные. Это противно.
Понадобилось мне тотчас зеркало расколошматить, чтоб вдребезги оно. Схватил, что под руку попалось — напильник ли, стамеску, — и огрел раз, другой, третий. Трещины только по зеркалу разъехались. Оно к доске цельной приклеено, не разрушишь так просто. Был один я в зеркале — стало много меня.
Мне всё тяжким трудом даётся, ничто в руки само не плывёт. Ничто, даже беда. Даже ради беды потрудиться надобно. Трудиться я люблю, но обидно мне, что всё так, потому с отвращением тружусь. И труды мои потому в грош не ценятся, хоть, может, и больше, чем другие, чем счастливые, делаю. Потому как не в самих трудах соль, а в доброй воле, в дыхании лёгком. А этого нет у меня. Это теперь я понял, дыша небом открытым, небом без Сети, и всё былое вспоминая, мгновениями крадеными упиваясь. Теперь понял. Тогда не понимал.
Малафея Мелентьева впервые я повстречал в далёком детстве. Хотя мне это могло и присниться. Детские сны часто меняются с явью местами.
Было так. Гремело застолье хлебосольное. Говорливые взрослые сивуху наливают, чарками чокаются, выпивают, лица полотенцами вытирают. Куриные кости, хлебные корки, скорлупа яичная по всему свету разлетаются. Чад и баяна надрыв. Мы — свора детишек лет четырёх шальными щенками носимся по залу, цыган пляшущих с ног сбиваем, бочки с овощем малосольным опрокидываем, под столы юркаем. Там с сидящих башмаки стягиваем, за лодыжки щиплем, пятки щекочем, пальцы, что из носков торчат, кусаем. Эх, да, было времечко! Только дети и могут у нас вытянуться во весь свой рост неокончательный…
И вот, среди этого разрушительного безобразия, помню отчётливо, как женский голос позвал:
— Малафей!
Он оборачивается — и зарево встает, точно печной заслон открыли. И гуськом за ним влюблённые девочки:
— Малафей! Малафей!
И косяком вокруг него укрощённые мальчики:
— Малафей! Малафей! Малафей!
Он высился среди нас лисом средь птенцов. Статен, кучеряв, рыж. Старше нас годами двумя, а то и тремя, а значит, на целую жизнь старше. Витала вокруг него аура нездешняя. Смотришь и понимаешь: не отсюда он, будто ножницами из другого измерения вырезан и сюда, в наше, бренное, вклеен. Что-то в его поступках было грубое, что нарушало все законы наши детские, и при этом столь благообразное в глазах взрослых, что он моментально был поставлен над нами надзирателем и поводырём. Роль эту он ничем не подкреплял, напротив, даже сачковал, однако был хвалим и поощряем за то, как превосходно справляется. Нас же, остальных, всё попрекали его примером. Такие, как он, когда вырастут, продолжают так же: Всевышний их любит и среди рабов своих особо отмечает, а приглядишься: так они не столько хороши, сколько меру иную во всём имеют.
Эти воспоминания так и пропали бы под грудой лет, если бы не новое появление Малафея Мелентьева на моей дороге. На этот раз, увы, не гипотетическое, а вполне реальное. Поначалу, однако, я решил, что у меня поехала крыша. Лишиться рассудка в нашем городе — совсем не редкость. Мы называем это «первая смерть». Потому и значения особого происходящему я не придал: едет крыша и едет. Кто я такой, чтоб не сходить с ума? Но в конце концов какая-то сила — та же, верно, что диск земной каменьями полнит и купол небесный держит над печальной моей головой — та же сила швырнула меня в правду, как в воду слепого щенка.
Я работаю на каменоломне, как почти всё население наше. Жена моя будущая, Астрид, пришла к нам на предприятие молодой неопытной курочкой: пушок на руках, юбчонка в незабудки. Как на работу переоделась — роба торчком на ней, пояс под мышками, увалень увальнем. Размера в пору ей не нашлось, только большие имелись. Был я выделен ей в наставники и с первого занятия пленился наивностью веснушек, розовым полуоткрытым ртом, световым ореолом над рыжей гривой. Объясняю, как диск по камню водицей спрыскивать во избежание перегрева, а сам любуюсь купанием её всей, всей в медовых лучах запылённых, что сквозь квадраты грязных потолочных окон в цех пробиваются. Любуюсь тем, как отдельные волоски вздыбились из тугого пучка, в который она косицы свернула на макушке, и пламенем горят на свету. Это пламя и на меня перескочило. И поджёг я им сердце моей Астрид.
Она смотрела на меня глазами внимательными, влажными. Точно звезду далёкую в небе высматривала. Спел я в эти глаза:
Астрид, моя Астрид,
Я твой астероид...
Так и завертелось у нас.
Любовь случилась тихая, домашняя. Читали вслух классическую литературу для горняков, грели грог, горячую картошку из рук в руки перебрасывали, на стёкла дышали. На перинах нежились, под одеялом ёжились. Всё, как у всех. Звёзды, опять же, в небе рассматривали. Насколько, конечно, их можно рассмотреть через Сеть.
Я у неё во всех отношениях был первопроходцем. Первым другом, первым мужчиной. «Первым человеком», как говаривала она в минуты трепетного откровения.
Но однажды всё омрачилось, потускнело, облетело сухой листвой. Всю ту жаркую осень промаялся я сам не свой, пот холодный рукавом дерюжным утирал, «первую смерть» себе прочил. Даже происки нечистой силы было заподозрил. До правильного же ответа, простого, как камень, я дошёл в последнюю очередь.
Нелепица, бред, анекдот! Астрид моя охладела, всё равно как лягушка ночью рядом лежит. То была уже не та егоза ласковая, что плечи мне тепло и щекотно целовала. То была утомленная женщина, ожесточённая на того, кто её утомил. Сон, аппетит, речь потеряла, и я вместе с ней. Полутрупами ползаем бок о бок по бугристым мостовым, с добрыми людьми здороваться забываем, молву о себе скабрезную порождаем. Астрид стала чужда и далека, и астра в зелёной бутылке пожухла, завяла, вода помутнела, зловонною стала. Астрид, Астрид, поникла астра! Кто, Астрид, будет воду освежать? Где твоё участие, Астрид? Безмолвствует Астрид, глядит мимо, уста в полуулыбке. А потом на меня взгляд переведёт — как на болото, которое перейти надо: можно бы, да замараешься. Астрид, Астрид, режешь острым ножом! Где же остров наш, Астрид? Что же ты? Куда же ты? Где же ты?
И вдруг, как осень уж на исходе была, все подушки наши перьевые вспорола и, покамест перья порхали по каморке, призналась во всём. В том призналась, что уж давно оно всё, всю ту осень жаркую, и так глубоко да садко, что и сил у неё боле нет терпеть; и что, если б я сам наружу весь гной не вытащил, признание не вымолил, то и померла бы, наверно, или сбежала. А куда у нас сбежишь?
— Кто он? Кто?! — воплю, заламывая руки.
— Малафей Мелентьев.
Я вздрогнул. Выговорила — как выковала. И словно солнце над ней воссияло. Ей солнце — мне пламя адское.
На следующий день явился он за нею и забрал её у меня со всеми пожитками. Даже зубило моё старое по ошибке прихватили. Но это уж мелочи.
Сидим мы с ней с утра в кухне, чай с булкой пьём. Она мрачна, дышит часто, будто в прямом смысле убегает. Я скорбь глотаю, булка в глотку не лезет. Повремени, говорю, погоди, отляжет, глядишь, рассосётся.
— Ничего, — говорит, — не рассосётся. Пейте, вон, свой чай, а то остыл, поди.
Тут-то грохот многих колёс за окошком и раздался. Приехал сам, на каталке парадной, отполированной по-чужеземному, дружка в помощь привёз и тележку, собакой запряжённую, для поклажи.
В дверь постучали. Сердце затрепыхалось, как курица пред топором. Словно жизни моей верховный судья явился. Встал я. Встала и она, фартук одёрнула. Не встала даже, вскочила, головой в потолок ударилась, и оба мы к двери — шасть!
— Сама! Сидите уж, — шикнула мне, моего волнения стыдясь и тоже, видимо, волнуясь.
Поправила льняное платьице, веревочку, которой подпоясана была, подтянула, фартук снова одёрнула, хоть положено бы снять его. Выдохнула и — как я за рукав потянуть её хотел, чтоб всё ж во имя приличий фартук скинула — дверь тяжёлую распахнула. Там — он. Туловище за порогом, а голову на долгой изящной шее внутрь просунул, что твой жираф заморский:
— Мир дому сему! — голос высокий, ломкий, несообразно с комплекцией. Да и выговор мог бы правильнее быть. Впрочем, это я себя со стороны не слышал...
— Мир пришедшему, — цежу сквозь зубы. Гостя обидеть нельзя, даже если за женой пожаловал.
— К вам можно? — спросил он меня и проник уже весь в нашу каморку, половицей просевшей скрипнул.
Высок, широк, скрючиться пришлось ему чуть не пополам под нашим потолком. Вторгся в разорённое гнездо наше, капюшон скинул — рыжий-рыжий, кудри-локоны свисают чуть не до плеч. Лицо холёное, благородно бледен, а щёки румяные, как куличи. Глаза голубые, рыбьи, навыкате и с огоньком бесовским, точно в глубине пещеры дикарь с факелом пляшет. А он и сам о том дикаре не знает.
— Заходи уж, коль пришёл, — буркнула ему Астрид. Эту грубость я было за недовольство принял: уж не в сомнениях ли она? Но как у ней грудь вздымалась, как щёки яблоками спелыми зарделись, как ресницы опускались!.. Нет, то не сомнения, то любовь неотёсанная, первобытная, крепкая, как камень.
— Малафей Мелентьев, — он подал мне свою нежную сильную руку и прямо в глаза заглянул. Тут-то у меня и всплыло то воспоминание застольно-разгульное, и даже едва не заикнулся спросить его, помнит ли. Да вовремя сообразил, сколь неуместен и глуп был бы подобный вопрос.
— Фёкл Крагин, — представился я. Не знаю, как, но я почуял: это самый главный человек в моей жизни.
— Уютно у вас! — он оглядел наше жилище, впрочем, бегло и невнимательно. — Мне Астрид много о вас рассказывала.
— А мне о вас — не очень много, — говорю и ловлю раздражённый взгляд Астрид. И правда, нехорошо.
Он улыбнулся мне раздольной улыбкой своей. Я улыбнулся в ответ. Предательская машинальная вежливость!
Вещи они укладывали споро, крылато, с шуткой. Перебрасывали друг другу через комнату, хоть в том надобы никакой не было: комната-то — блоха в один прыжок одолеет. Смеялись, беседовали на темы мне непонятные, едва ли не на собственном языке. Все кардиганы, балахоны, чулки да подъюбники, вся одёжа повседневная и выходная в один тюк влезла. Да ещё сундук утвари: черпаки медные, ложки, чугунки, дуршлаги, утюги да сковородки. Вот и вся Астрид. Была да вышла.
Я, пока всё это творилось, посерёд комнаты стоял-горбился, шею о тёс потолочный чесал. Они на меня внимания мало обращали, только если что-нибудь друг другу в руки не добрасывали, и падало оно неподалёку от меня, то просили поднять. И я поднимал. И даже сундук с утварью ему помог закрыть, замок там проржавел. Он куль на плечо взвалил легко, воздушно. Она дверь ему отворила, держит. Каталка его стоит у штакетника, тележка, собакой запряженная, рядом; собака уж нетерпеливо землю роет и скулит. А дружок его, помощник, караулит-поджидает, на своей каталке сидя. От нечего делать букет листьев опавших насобирал и компонует, чтоб покрасивее их сложить. Увидал, что выходят, подскочил к Малафею помочь поклажу к тележке пристегнуть. Но прежде букет свой Астрид протянул, та зарделась, сказала: «благодарствуйте!», реверанс отмочила. Никогда такою её не видывал!
— Ну, братец, спасибо! Не поминай лихом! — сказал Малафей Мелентьев и подал мне руку.
Я остолбенел, стою-сутулюсь под козырьком крыльца, таращусь на него и руки не подаю. Только челюсть ходуном ходит, зубы стучат: уже холода обозначились, а я в домашнем как был, балахона не накинул даже. Хмыкнул он, набросил капюшон и стал наколенники поправлять, на каталку водружаться. И тут в тележке их что-то хрустнуло, повело её в сторону, в сторону, и — раз — набок она так и шмякнулась. Вот оно как! По моде лакирована, полировка образцовая, а ось, а рессоры качества никудышнего. Не выдержала тележка скарба моей Астрид. Собака залаяла от досады, что поездка отлагается.
— Вот незадача! Пособи-ка, Гарманталай!
Дело обыкновенное началось: молоты, пассатижи достали. Кладь с тележки стащили, Малафей плечом её приподнял, а Гарманталай, дружок его, орудует, кончик языка из уголка рта высунул.
— Вы бы помогли, а? — укорила меня Астрид.
Я стою-горблюсь, с крыльца не сошёл даже. Она села на мощёной дорожке на корточки предо мной, снизу вверх глядит, ножки в наколенниках из-под тулупа и платья выглядывают.
— Фу, как некрасиво! — покачала она головой.
И тут снег посыпал! Редкий-редкий, сухой. Отдельные снежинки такие чёткие, резные, каждая спица, каждая грань у них видна. Ветерок дунул, Сеть над нами задрожала. Я взял её за запястье, сжал.
— Пустите! Чего вы?
Насупилась; глазёнки забегали беспокойно.
Держу. Не знаю, что сказать, что сделать? Что скажет она? Что дальше будет?
— Пустите! Не то Малафею всё расскажу, — говорит, ручонку из хватки моей выкручивает.
Малафей, смотрю, уж с ключом разводным возится, по гайке, намертво приржавевшей к колесу, колотит, а Гарманталай телегу приподнял и держит, тужится.
— Оставайся, Астрид. Брось его. Заживём, — говорю.
— Полно уж, пустите!
— Оставайся, — говорю, от снежинок отмахиваюсь.
Выпустил её руку. Сидит она, букетик листьев сухих теребит, взгляд потупила.
— Ну, Астрид, прощайся! Едем! — гаркнул Малафей.
Шустро сдюжили ребята.
— Прощайте! — бросила она.
Глаза на меня поднимает, и тут ей снежинка на нос села. Такая хорошая, пушистая, как крошечная птица. Все подробности оперения видны, как под лупой. Примостилась на кончик носа ей, округлилась, исказилась и растаяла вмиг. Сидит Астрид, букет свой перебирает, с каплей на носу. Я краем рукава легонько по носу ей прошёлся, каплю стёр.
— Прощай, Астрид! — говорю.
А у самого внутри дрогнуло, заныло оттого, что снежинка на ней растаяла. Живое, думаю. Тёплое.
Взобралась она на свою каталку, юбкой колени обхватила, рукавицы надела. Утюги они все взяли в руки, оттолкнулись лихо и покатили по булыжной мостовой. Собаку с тележкой вперёд погнали, она дорогу знает. А я на крыльце горбиться остался, с талой снежинкой на рукаве.
Вполз я тогда в постылый дом, дверью крякнул за собой. Мох да плесень, да осы коматозные на мутном окне возятся. Картофельные очистки и перья из подушек к босым ступням липнут. И кружка её с чаем недопитым, и булка, ею надкусанная, и в ненароком допущенной ею на столе лужице одуванчикового варенья жук копошится. И на полу чулок её непарный валяется, в спешке забытый. Обхватил я голову бедовую свою, а что делать — поди знай. Воздух прелый вдыхаю — будто нутро он мне занозит. Стою-горблюсь над всем этим. Эх, думаю, что ж ещё поделать. Сел, сивухи налил, выпил. Повело голову, хорошо повело. Налил еще, выпил. День впереди. Снег сыплет, каталки редкие за окном гремят. Тишина звенит.
Разделся я вдруг догола, к зеркалу, ржавой ряской заросшему, подлез. Старое доброе дедово зеркало, видело ли меня таким?
Костляв, как летучая мышь. Волосат, точно зверь. А пузо бегемотье голое набрякло и свисает над унылым хоботком. Ноги птичьи гадкими жиденькими кудрями обросли. Изо рта воняет тухлятиной, сколько ни полощу его цветочным отваром. На отвислой нижней губе всё крупная капля слюны назревает, как ни утираю рукавом. Пряди черными червяками до самого кончика носа болтаются, как ни блюду прямой пробор, они всё застят глаза, от сивухи по-бычьи налитые, растерянные. Красный нос испещрен черными порами, на огромную клубнику похож. Подбородок бугрист, что твой экскремент ископаемый. Кадык — точно кто с той стороны кирку вонзил. Меня пугаются. Речь моя тягуча и вязка. Я слова подбираю слишком долго, устают ждать и уходят. Как Астрид. Она порой говорила мне: глядишь на тебя, а ты как будто уж умер, как мертвец с портрета взираешь. Прошу растолковать — не может. Пальцы длинные, у основания кряжисты, к кончикам — тонкие, бледные, холодные. Это противно.
Понадобилось мне тотчас зеркало расколошматить, чтоб вдребезги оно. Схватил, что под руку попалось — напильник ли, стамеску, — и огрел раз, другой, третий. Трещины только по зеркалу разъехались. Оно к доске цельной приклеено, не разрушишь так просто. Был один я в зеркале — стало много меня.
Мне всё тяжким трудом даётся, ничто в руки само не плывёт. Ничто, даже беда. Даже ради беды потрудиться надобно. Трудиться я люблю, но обидно мне, что всё так, потому с отвращением тружусь. И труды мои потому в грош не ценятся, хоть, может, и больше, чем другие, чем счастливые, делаю. Потому как не в самих трудах соль, а в доброй воле, в дыхании лёгком. А этого нет у меня. Это теперь я понял, дыша небом открытым, небом без Сети, и всё былое вспоминая, мгновениями крадеными упиваясь. Теперь понял. Тогда не понимал.
Дни пошли малоприятные. Праху снежного намело по щиколотку. Сеть заиндевела. Утром в темноте ледяной коробок нащупываешь, спичку зажигаешь. Покуда чайник греется, сидишь одеревенелый, каморку осматриваешь. Всё, как было, когда Астрид в дорогу снаряжалась, даже чулок забытый валяется. Перья те же. То она искусные каши всевозможные к завтраку стряпала — перловую, а иногда, глядишь, и гречневую — а нынче хлеба на опилках отломил, жуётся — и то радуйся. То на работу к плечу плечо катили, песню заводили, а нынче ползёшь в снегу, сам, еле-еле, одышлив, сопля на подбородке. А в цехе те же столбы света, где птица Астрид купалась. Столбы те же, да птица улетела. Малафей-то её богатей, сразу с работы её в домохозяйки переквалифицировал. Пока работаешь, еще ничего: камень дробишь, так и на житьё своё как бы сверху взираешь, и оно тоже мельчает, крошкой, пустяком оборачивается. А как сумерки — сызнова хоть вой! Одно хорошо: сивуха неисчерпаема в нашем городе. Кружку-другую опрокинешь — голову в тиски успокоительные зажимает, огнём тупым выжигает. Так и ко сну отойти можно. А утром кузнец ударит трижды в рельсу — лязг! лязг! лязг! — народ на работу будить — из сна мучительного, как из могилы, выкарабкиваешься, и снова всё по кругу.
Сивушное похмелье — самое нещадное. Не муть в глазах страшна, не ломота в теле, а мысли дурные, что роятся в голове, как мухи над падалью. Так-то и посетила меня идея дуэли. Не мести я жаждал, но хоть какого-то движения. Потому как Малафей и Астрид пропали из окоёма моего. Зато было другое. Как это всегда бывает, не знаешь о чём-то и не знаешь, и оно как бы не существует. А единожды мелькнёт — и оно уж везде. Так и для меня вся вселенная стала один сплошной Малафей Мелентьев. Он прославленный в городе лекарь оказался, зубодёр, костоправ, кудесник от медицины. Все известия в листке периодическом кричат о Малафее Мелентьеве. Малафей Меленьев выносит девочку из пожара. Малафей Мелентьев признан лучшим лекарем года. На работу приползаю, глядь — на проходной афиша: Малафей Мелентьев читает лекцию о вреде сивухи в зале торжеств Дворца Камнедобытчика. Гнев во мне бурлил протухшим варевом в котле.
Молва, конечно, тоже огонь под котлом этим раздувала. Мне сорока на хвосте приносила, что-де дурень я и рохля. Я-то пусть трижды дурень и рохля и сам первый с этим соглашусь. Недаром же есть поговорка у нас: «Молва всегда права». Так что — пусть. Но повсеместная похвальба Малафея Мелентьева настолько меня оскорбляла, что я твёрдо решил: быть дуэли. Или поквитаюсь, или голову сложу. Всё ж лучше, чем каждое утро во тьме ледяной коробок нащупывать.
Долго я раскачивался, каждый день думал: «Завтра вызову». И всё не вызывал. На исходе зимы принёс мне Почтарь свёрток. Разворачиваю — зубило моё, то самое, что по ошибке увезли. И записка:
«Добрый господин Фёкл Крагин!
Приносим дикие извинения за предоставленные Вам в связи с увозом ниже прилагаемого зубила неудобства! Вышло досаднейшее недоразумение! Не сочтите за небрежность тот факт, что не тотчас зубило Вам возвращено: как только всё имущество сличили и нечаянное присвоение зубила обнаружили, опрометью Вам его и послали. Надеемся на Ваше понимание.
Желаем Вам счастья и здоровья!
Завсегда Ваши,
Малафей и Астрид Мелентьевы»
Уж не знаю, что меня так взбесило в этой записке, только я попросил Почтаря обождать и, карандаш два раза сломав и починив, на клочке бумаги нацарапал:
«Малафей Мелентьев, я хочу вызвать Вас на дуэль! Фёкл Крагин».
Перечёл, проверил, чтоб ошибок не было (досадно мне было бы посрамиться перед ним), и отправил с Почтарём.
На следующее утро принесли ответ. Ответ был до того прост и логичен, что меня аж в жар кинуло! Как мог я так опростоволоситься! Ответ гласил:
«Вызывайте».
Дуэль, считай, уже состоялась, и я проиграл.
Клокоча от злобы на самого себя, морщась от почти физической боли стыда, я переписал свой вызов:
«Вызываю Вас на дуэль!»
«Вызов принят. Где? Когда? На чём?» — уточнял мой противник.
Хорошие вопросы. Ему они в голову пришли, а мне — нет. Даром, что мне, вызывающему, должно бы накануне продумать место, время, оружие. С местом у нас проблематично, протолкнуться негде. И без дуэлей едва друг друга не зашибаем в лабиринтах наших тысячелетних. А оружия у меня отродясь не было. Тут я смалодушничал и должен сейчас в этом признаться. У меня не было оружия настоящего: шпаги, арбалета, лука. Но из преданий известно, что наши предки устраивали дуэли на молотах, на цепях, на топорах. Или просто на камнях. Последний вид — самый удобный. Двое мечут друг в друга камни, целясь прямиком в виски, в глаза, в нос — пока один не свалится замертво. Эти стародавние способы поединка я и мог предложить, а место бы нашлось. Струсил. И даже от себя скрыл. Поразмыслил в сивушном угаре, в азарт вошёл, да к утру, возбуждённый, чуть не ликующий, будто я его и впрямь обхитрил, накропал записку:
«Предоставляю право выбора Вам».
На что я рассчитывал? Хмелем ослеплённый, я полагал, что я перед ним крутым лихачом вышел. Но проницательный Малафей, конечно же, раскусил меня в том, что за моим деланным великодушием скрыт испуг.
«Воскресенье. Без четверти полночь. Спортзал Дворца Физической Культуры. Оружия не держу, пользоваться не обучен, опасаюсь. Предлагаю кулачный бой».
Этак он мне снова нос утёр. Просто, честно. Кто мне мешал так же признаться, дескать, драться хочу, но оружием не владею? Но я побоялся открыться, а он нет. И какой вес это придаёт! Какой лоск! Эх, да это талант!
«Так тому и быть. Как попадём туда?»
Мерзко мне было ему покоряться, но странно было другое: у меня появилось какое-то унизительное восхищение им. Точно мне делало честь, что дуэль у меня не с кем-нибудь, а с Малафеем Мелентьевым. Точно он певун или лицедей известный.
«Не беспокойтесь, устрою. Обладаю связями».
Ну ещё бы. Тьфу! Пижон.
За час до назначенного времени я уже стоял-топтался у ворот Дворца Физической Культуры. Лежал застарелый, подёрнутый настом снег. Сугробы затвердели, что твои валуны, то тут, то там чернел вмерзший за все месяцы зимы сор. Подвесной керосиновый фонарь, прикрепленный к прутьям Сети, болтался на ветру. Я бросил санки у забора и бродил туда-сюда. Сеть тут была натянута довольно высоко, шею можно было почти целиком распрямить, держа голову под небольшим наклоном.
Все дни перед дуэлью я находился в каком-то грязно экзальтированном состоянии духа. Поносил про себя Малафея Мелентьева, представлял, как лицо его сомнётся под моими ударами, как варёное яйцо. Я, как сторона несправедливо уязвлённая, чуял за собой правду. Правда эта в глупых грёзах моих наделяла меня такой сверхсилой, что первым же ударом я надламывал его голову пополам, словно арбуз. Эта же правда в фантазиях моих оставляла избиение или даже убийство Малафея Мелентьева безнаказанным. На деле же суд приговорил бы меня к побиению камнями. Закон есть закон.
Так я бодрился и накачивался сивухой. В ночь перед дуэлью я не заснул. На рассвете выпил три кружки и отключился. Пробуждение же было одним из самых жутких в моей жизни. Было четыре часа пополудни, голова гудела, как колокол, тело раскисло и не слушалось, сердце пушечным ядром ударяло изнутри о грудную клетку. Я понял, что слаб и что даже человек, вылепленный из навоза, более способен к драке, чем я. А ушлый плечистый Малафей, должно быть, дерётся, как горилла. И самое главное: мне не в пример, его не настигнет наказание, какие бы увечья он мне ни нанёс. И вот это всё было правдой, настоящей правдой, а не фантазиями.
Я попробовал помахать кулаками, с непривычки, в тесноте, в согбенном положении, налетел на шкаф, увернулся, но крепко ушиб бедро о стол. Все плошки и чашки со звоном разлетелись по полу. Я сел на пол и заплакал.
Перед самым поединком, слоняясь туда-сюда и поджидая его, я как-то воспрял духом. Да мне ничего иного и не оставалось. У меня в голове сочинилась стройная речь, которую скажу ему. Всё в ней было справедливо, и я этим был очень доволен. Я был пьян, но самую малость. Ровно настолько, чтобы человеку хилому, никогда не дравшемуся, увериться в своей победе над верзилой в кулачном бою.
Ровно в условленный час прибыли сани, собакой запряжённые. Гарманталая опять привёз.
— Это мой секундант, — указал Малафей на дружка.
— Гарманталай Шмакин! — рявкнул тот с каким-то собачьим достоинством.
— Ваш секундант опаздывает? — спросил Малафей.
— А я... Я без...
— А! Так даже? Странный вы... Ну, да ладно. Не соблюдение формальностей поможет мне победить, а кое-что другое! — сказал он и сверкнул глазами.
— О да, кое-что другое! — завопил Шмакин, слюну роняя. — Малафей бьёт — камни плачут.
Фонарь закачался от порыва ветра, обрушивая тени.
— А я не камень. Я человек и хочу показать вам, как скверно вы поступили, — должен был ответить я, если бы нужные мысли приходили вовремя. Но я только что-то пролепетал и осекся.
Малафей звякнул ключами, пару раз не тот ключ вставил, плечом налёг, раз, другой — отворилась дверь, вошли. Включили рубильник: это едва ли не единственное здание в городе, что от электричества освещается. Застрекотали лампы, замигали, загудели. Тусклый изжелта-зелёный свет полился. Не люблю электрический свет, он у нас лишний.
Мы стояли друг против друга шагах в пяти посреди спортивного зала. Малафей скинул тулуп, фуфайку, метким швырком переправив их в руки Шмакина, и был передо мной в одной исподней майке на тонких шлейках. Широкогруд, дюж. Кожа белая, кожа человека, не знавшего тяжёлого труда и горя. А мышцы тугие, жилистые. Он медленно расчесал свои огненные кудри деревянным гребнем и забрал их назад в бабий хвостик, чтобы не мешали. Оказалось, что надо лбом у него довольно глубокие залысины. Впрочем, это его не портило, а даже шло ему.
— Что ж, Фёкл Крагин! — зарокотал его голос, усиленный эхом спортзала. — Вы вызвали меня на дуэль. Предоставили право выбора оружия. Я выбрал то, чему доверяю больше всего: собственные руки. Собственные кулаки. Нам предстоит кулачный бой. Вы согласны?
Я кивнул. У меня начиналось вечернее похмелье. Самое пакостное из всех. Конечности мертвеют. Жажда, озноб, потливость. Звёзды в глазах. Но я думал над своей речью.
— Мой секундант вам представлен, — продолжал Малафей. — О наличии собственного вы не позаботились. Так? Отлично. Итак, кулачный бой. Вы хотите драться до смерти? До первой крови? До потери сознания?
— До смерти... — прошептал я.
— Фёкл Крагин, я понимаю ваше чувство. Ущемленное достоинство и прочее. Но вы, думаю, мало представляете, о чём говорите. Предлагаю закончить бой, когда один из нас потеряет способность драться. Причиной тому могут быть травмы, обморок, смерть, если уж вам так непременно нравится! Вы согласны?
Я снова кивнул. Вот-вот произнесу свою речь.
— Начали! — проорал Шмакин и рубанул рукой сверху вниз.
Мы стояли друг против друга. Он шагнул вперёд. Я шагнул. Между нами вершков десять оставалось. Он улыбнулся еще шире. Мы не сводили друг с друга глаз. У него дрогнула мышца на скуле. Сейчас, сейчас я должен заговорить. И будь что будет. Высоко подпрыгну, вскочу ему на плечи и начну месить, месить кулаками, кулаками, кулаками его голову, глаза, глаза, голову. Вцеплюсь в ухо зубами и буду рвать, рвать, рвать!.. Или же нет: скажу всё, а после удалюсь, а он так и останется стоять, обескураженный, и даже слова не посмеет вымолвить. Я должен был сказать следующее:
«Господин Малафей Мелентьев! Вы считаете себя хозяином жизни. Все вам всё прощают, и мир скатертью-самобранкой стелется пред вами, как по писанному. Вы убеждены, что так будет всегда. Вы наделили себя правом отнимать и делить чужое. Никто этого права не оспаривал, потому что люди держат вас за полубога, так вы ловко пускаете пыль в глаза. Но знайте, что вы встретили человека, который вас раскусил. Он стоит перед вами. Вы стервятник, падальщик, Малафей Мелентьев! Вы отнимаете, вам отдают безропотно, потому что всё отнятое вами — мёртвое! Живое бы не далось, живое сопротивляется. Вы в склепе, а притворяетесь, что во дворце. Знайте же это, живите с этим! Можете теперь делать всё, что хотите, но ваш гнусный мирок дал трещину. Правда вскрылась. И вскрыл её я!»
Так я намерен был сказать.
Он коротко, по-звериному рыкнул, подскочил. Его рука молнией сверкнула перед моими глазами. Молния сверкнула в моей голове, и мир с громом развалился на части, а я не успел и смекнуть, что этот оглушительный всплеск вовсе не гром, а удар, эхом отразившийся от стен спортзала.
— Малафей-Малафей, догоняй меня скорей! — скандирует хоровод девочек. Он, кажется, и ухом не ведёт. А потом медленно протягивает руку, берёт одну за запястье и держит. А та смехом заливается: «Пусти, Малафейчик, пусти!»
Я волчком кручусь у стола, около родителей, они участвуют в каком-то хаотичном разговоре. Я дёргаю папу за рукав: «Папа, папа!». «Иди играй!» — только слышу. Закусывает папа да усы вытирает. «Мама! Мама!» — дёргаю маму за рукав. «Держи-ка!» — протягивает мне двух рубиново-красных петушков на палочке. У меня слюнки текут, ибо нет в мире сласти лучше петушков.
— Малафей поймал невесту! Малафей поймал невесту! — рокочет детская публика. Гляжу: ан не отпускает всё свою барышню Малафей, пуще прежнего стиснул. Та уж от счастья зарделась вся и вырывается, чтоб он крепче держал.
— Отпущу — не убежишь? — спрашивает Малафей.
— Не убегу, — смеется девочка, и только её и след простыл, как он поверил и руку разжал.
— Малафей-Малафей, догоняй меня скорей! — и всё по новой.
Но это несерьёзно. Он собрал мальчиков и объявил:
— Будем играть в войну!
И пошла перестрелка, перепалка, перебранка, он всех усмирил, всех победил и опять к девочкам. И так по кругу. Наконец, побежал он к рыжим родителям своим и шепнул о чём-то. И те ему вынесли самокат. У него был самокат. Самокат! Это стоячая каталка для детей, у неё руль есть, чтобы держать равновесие.
Я уж со своими петушками устал возиться, подтаяли они, искривились за время войны. Играть неудобно, руки заняты. И вся моя компания — эти петушки. Один я с петушками в стороне. И тогда не знаю, как и почему мне это в голову пришло, только я подошёл к нему и говорю:
— Дай покататься, а я тебе петушка дам.
— На, — говорит.
Я петушков обоих — ему в руки, сам — на самокат и по залу кругами между пляшущими людьми. Дети гурьбой за мной: я теперь возвысился. Катаюсь, катаюсь, потом чую неладное: никто за мной уже не бегает, не визжит. Снова один. Еду самокат возвращать, а у самого сердце не на месте: что-то не так, чую. Тут он из толпы выныривает, свитой девочек и мальчиков окружен.
— А вот и самокат! Накатался, отдавай, — говорит.
Отдаю и говорю:
— Один петушок тебе, за самокат. А второго отдавай.
Молчит и ухмыляется. У меня внутри упало всё.
— Одного петушка отдай, пожалуйста, — а сам гляжу: у него в руке две палочки обглоданные только. И всё равно твержу, как дурак: — Отдай петушка! Отдай петушка-а-а-а!
— Ты бы, брат, — говорит, — ещё бы подольше покатался. Знал ведь, на что идёшь. Ты мне петушков, я тебе самокат.
— Я одного петушка тебе давал!
— Ан вышло, что двух!..
И уводит из рук моих самокат, и вся детвора за ним, с восторгом. А я остаюсь с горем, которого никак не исправить. И смех вокруг. Даже не надо мной смех. Просто смех вокруг. Смех, смех, смех!..
Сивушное похмелье — самое нещадное. Не муть в глазах страшна, не ломота в теле, а мысли дурные, что роятся в голове, как мухи над падалью. Так-то и посетила меня идея дуэли. Не мести я жаждал, но хоть какого-то движения. Потому как Малафей и Астрид пропали из окоёма моего. Зато было другое. Как это всегда бывает, не знаешь о чём-то и не знаешь, и оно как бы не существует. А единожды мелькнёт — и оно уж везде. Так и для меня вся вселенная стала один сплошной Малафей Мелентьев. Он прославленный в городе лекарь оказался, зубодёр, костоправ, кудесник от медицины. Все известия в листке периодическом кричат о Малафее Мелентьеве. Малафей Меленьев выносит девочку из пожара. Малафей Мелентьев признан лучшим лекарем года. На работу приползаю, глядь — на проходной афиша: Малафей Мелентьев читает лекцию о вреде сивухи в зале торжеств Дворца Камнедобытчика. Гнев во мне бурлил протухшим варевом в котле.
Молва, конечно, тоже огонь под котлом этим раздувала. Мне сорока на хвосте приносила, что-де дурень я и рохля. Я-то пусть трижды дурень и рохля и сам первый с этим соглашусь. Недаром же есть поговорка у нас: «Молва всегда права». Так что — пусть. Но повсеместная похвальба Малафея Мелентьева настолько меня оскорбляла, что я твёрдо решил: быть дуэли. Или поквитаюсь, или голову сложу. Всё ж лучше, чем каждое утро во тьме ледяной коробок нащупывать.
Долго я раскачивался, каждый день думал: «Завтра вызову». И всё не вызывал. На исходе зимы принёс мне Почтарь свёрток. Разворачиваю — зубило моё, то самое, что по ошибке увезли. И записка:
«Добрый господин Фёкл Крагин!
Приносим дикие извинения за предоставленные Вам в связи с увозом ниже прилагаемого зубила неудобства! Вышло досаднейшее недоразумение! Не сочтите за небрежность тот факт, что не тотчас зубило Вам возвращено: как только всё имущество сличили и нечаянное присвоение зубила обнаружили, опрометью Вам его и послали. Надеемся на Ваше понимание.
Желаем Вам счастья и здоровья!
Завсегда Ваши,
Малафей и Астрид Мелентьевы»
Уж не знаю, что меня так взбесило в этой записке, только я попросил Почтаря обождать и, карандаш два раза сломав и починив, на клочке бумаги нацарапал:
«Малафей Мелентьев, я хочу вызвать Вас на дуэль! Фёкл Крагин».
Перечёл, проверил, чтоб ошибок не было (досадно мне было бы посрамиться перед ним), и отправил с Почтарём.
На следующее утро принесли ответ. Ответ был до того прост и логичен, что меня аж в жар кинуло! Как мог я так опростоволоситься! Ответ гласил:
«Вызывайте».
Дуэль, считай, уже состоялась, и я проиграл.
Клокоча от злобы на самого себя, морщась от почти физической боли стыда, я переписал свой вызов:
«Вызываю Вас на дуэль!»
«Вызов принят. Где? Когда? На чём?» — уточнял мой противник.
Хорошие вопросы. Ему они в голову пришли, а мне — нет. Даром, что мне, вызывающему, должно бы накануне продумать место, время, оружие. С местом у нас проблематично, протолкнуться негде. И без дуэлей едва друг друга не зашибаем в лабиринтах наших тысячелетних. А оружия у меня отродясь не было. Тут я смалодушничал и должен сейчас в этом признаться. У меня не было оружия настоящего: шпаги, арбалета, лука. Но из преданий известно, что наши предки устраивали дуэли на молотах, на цепях, на топорах. Или просто на камнях. Последний вид — самый удобный. Двое мечут друг в друга камни, целясь прямиком в виски, в глаза, в нос — пока один не свалится замертво. Эти стародавние способы поединка я и мог предложить, а место бы нашлось. Струсил. И даже от себя скрыл. Поразмыслил в сивушном угаре, в азарт вошёл, да к утру, возбуждённый, чуть не ликующий, будто я его и впрямь обхитрил, накропал записку:
«Предоставляю право выбора Вам».
На что я рассчитывал? Хмелем ослеплённый, я полагал, что я перед ним крутым лихачом вышел. Но проницательный Малафей, конечно же, раскусил меня в том, что за моим деланным великодушием скрыт испуг.
«Воскресенье. Без четверти полночь. Спортзал Дворца Физической Культуры. Оружия не держу, пользоваться не обучен, опасаюсь. Предлагаю кулачный бой».
Этак он мне снова нос утёр. Просто, честно. Кто мне мешал так же признаться, дескать, драться хочу, но оружием не владею? Но я побоялся открыться, а он нет. И какой вес это придаёт! Какой лоск! Эх, да это талант!
«Так тому и быть. Как попадём туда?»
Мерзко мне было ему покоряться, но странно было другое: у меня появилось какое-то унизительное восхищение им. Точно мне делало честь, что дуэль у меня не с кем-нибудь, а с Малафеем Мелентьевым. Точно он певун или лицедей известный.
«Не беспокойтесь, устрою. Обладаю связями».
Ну ещё бы. Тьфу! Пижон.
За час до назначенного времени я уже стоял-топтался у ворот Дворца Физической Культуры. Лежал застарелый, подёрнутый настом снег. Сугробы затвердели, что твои валуны, то тут, то там чернел вмерзший за все месяцы зимы сор. Подвесной керосиновый фонарь, прикрепленный к прутьям Сети, болтался на ветру. Я бросил санки у забора и бродил туда-сюда. Сеть тут была натянута довольно высоко, шею можно было почти целиком распрямить, держа голову под небольшим наклоном.
Все дни перед дуэлью я находился в каком-то грязно экзальтированном состоянии духа. Поносил про себя Малафея Мелентьева, представлял, как лицо его сомнётся под моими ударами, как варёное яйцо. Я, как сторона несправедливо уязвлённая, чуял за собой правду. Правда эта в глупых грёзах моих наделяла меня такой сверхсилой, что первым же ударом я надламывал его голову пополам, словно арбуз. Эта же правда в фантазиях моих оставляла избиение или даже убийство Малафея Мелентьева безнаказанным. На деле же суд приговорил бы меня к побиению камнями. Закон есть закон.
Так я бодрился и накачивался сивухой. В ночь перед дуэлью я не заснул. На рассвете выпил три кружки и отключился. Пробуждение же было одним из самых жутких в моей жизни. Было четыре часа пополудни, голова гудела, как колокол, тело раскисло и не слушалось, сердце пушечным ядром ударяло изнутри о грудную клетку. Я понял, что слаб и что даже человек, вылепленный из навоза, более способен к драке, чем я. А ушлый плечистый Малафей, должно быть, дерётся, как горилла. И самое главное: мне не в пример, его не настигнет наказание, какие бы увечья он мне ни нанёс. И вот это всё было правдой, настоящей правдой, а не фантазиями.
Я попробовал помахать кулаками, с непривычки, в тесноте, в согбенном положении, налетел на шкаф, увернулся, но крепко ушиб бедро о стол. Все плошки и чашки со звоном разлетелись по полу. Я сел на пол и заплакал.
Перед самым поединком, слоняясь туда-сюда и поджидая его, я как-то воспрял духом. Да мне ничего иного и не оставалось. У меня в голове сочинилась стройная речь, которую скажу ему. Всё в ней было справедливо, и я этим был очень доволен. Я был пьян, но самую малость. Ровно настолько, чтобы человеку хилому, никогда не дравшемуся, увериться в своей победе над верзилой в кулачном бою.
Ровно в условленный час прибыли сани, собакой запряжённые. Гарманталая опять привёз.
— Это мой секундант, — указал Малафей на дружка.
— Гарманталай Шмакин! — рявкнул тот с каким-то собачьим достоинством.
— Ваш секундант опаздывает? — спросил Малафей.
— А я... Я без...
— А! Так даже? Странный вы... Ну, да ладно. Не соблюдение формальностей поможет мне победить, а кое-что другое! — сказал он и сверкнул глазами.
— О да, кое-что другое! — завопил Шмакин, слюну роняя. — Малафей бьёт — камни плачут.
Фонарь закачался от порыва ветра, обрушивая тени.
— А я не камень. Я человек и хочу показать вам, как скверно вы поступили, — должен был ответить я, если бы нужные мысли приходили вовремя. Но я только что-то пролепетал и осекся.
Малафей звякнул ключами, пару раз не тот ключ вставил, плечом налёг, раз, другой — отворилась дверь, вошли. Включили рубильник: это едва ли не единственное здание в городе, что от электричества освещается. Застрекотали лампы, замигали, загудели. Тусклый изжелта-зелёный свет полился. Не люблю электрический свет, он у нас лишний.
Мы стояли друг против друга шагах в пяти посреди спортивного зала. Малафей скинул тулуп, фуфайку, метким швырком переправив их в руки Шмакина, и был передо мной в одной исподней майке на тонких шлейках. Широкогруд, дюж. Кожа белая, кожа человека, не знавшего тяжёлого труда и горя. А мышцы тугие, жилистые. Он медленно расчесал свои огненные кудри деревянным гребнем и забрал их назад в бабий хвостик, чтобы не мешали. Оказалось, что надо лбом у него довольно глубокие залысины. Впрочем, это его не портило, а даже шло ему.
— Что ж, Фёкл Крагин! — зарокотал его голос, усиленный эхом спортзала. — Вы вызвали меня на дуэль. Предоставили право выбора оружия. Я выбрал то, чему доверяю больше всего: собственные руки. Собственные кулаки. Нам предстоит кулачный бой. Вы согласны?
Я кивнул. У меня начиналось вечернее похмелье. Самое пакостное из всех. Конечности мертвеют. Жажда, озноб, потливость. Звёзды в глазах. Но я думал над своей речью.
— Мой секундант вам представлен, — продолжал Малафей. — О наличии собственного вы не позаботились. Так? Отлично. Итак, кулачный бой. Вы хотите драться до смерти? До первой крови? До потери сознания?
— До смерти... — прошептал я.
— Фёкл Крагин, я понимаю ваше чувство. Ущемленное достоинство и прочее. Но вы, думаю, мало представляете, о чём говорите. Предлагаю закончить бой, когда один из нас потеряет способность драться. Причиной тому могут быть травмы, обморок, смерть, если уж вам так непременно нравится! Вы согласны?
Я снова кивнул. Вот-вот произнесу свою речь.
— Начали! — проорал Шмакин и рубанул рукой сверху вниз.
Мы стояли друг против друга. Он шагнул вперёд. Я шагнул. Между нами вершков десять оставалось. Он улыбнулся еще шире. Мы не сводили друг с друга глаз. У него дрогнула мышца на скуле. Сейчас, сейчас я должен заговорить. И будь что будет. Высоко подпрыгну, вскочу ему на плечи и начну месить, месить кулаками, кулаками, кулаками его голову, глаза, глаза, голову. Вцеплюсь в ухо зубами и буду рвать, рвать, рвать!.. Или же нет: скажу всё, а после удалюсь, а он так и останется стоять, обескураженный, и даже слова не посмеет вымолвить. Я должен был сказать следующее:
«Господин Малафей Мелентьев! Вы считаете себя хозяином жизни. Все вам всё прощают, и мир скатертью-самобранкой стелется пред вами, как по писанному. Вы убеждены, что так будет всегда. Вы наделили себя правом отнимать и делить чужое. Никто этого права не оспаривал, потому что люди держат вас за полубога, так вы ловко пускаете пыль в глаза. Но знайте, что вы встретили человека, который вас раскусил. Он стоит перед вами. Вы стервятник, падальщик, Малафей Мелентьев! Вы отнимаете, вам отдают безропотно, потому что всё отнятое вами — мёртвое! Живое бы не далось, живое сопротивляется. Вы в склепе, а притворяетесь, что во дворце. Знайте же это, живите с этим! Можете теперь делать всё, что хотите, но ваш гнусный мирок дал трещину. Правда вскрылась. И вскрыл её я!»
Так я намерен был сказать.
Он коротко, по-звериному рыкнул, подскочил. Его рука молнией сверкнула перед моими глазами. Молния сверкнула в моей голове, и мир с громом развалился на части, а я не успел и смекнуть, что этот оглушительный всплеск вовсе не гром, а удар, эхом отразившийся от стен спортзала.
— Малафей-Малафей, догоняй меня скорей! — скандирует хоровод девочек. Он, кажется, и ухом не ведёт. А потом медленно протягивает руку, берёт одну за запястье и держит. А та смехом заливается: «Пусти, Малафейчик, пусти!»
Я волчком кручусь у стола, около родителей, они участвуют в каком-то хаотичном разговоре. Я дёргаю папу за рукав: «Папа, папа!». «Иди играй!» — только слышу. Закусывает папа да усы вытирает. «Мама! Мама!» — дёргаю маму за рукав. «Держи-ка!» — протягивает мне двух рубиново-красных петушков на палочке. У меня слюнки текут, ибо нет в мире сласти лучше петушков.
— Малафей поймал невесту! Малафей поймал невесту! — рокочет детская публика. Гляжу: ан не отпускает всё свою барышню Малафей, пуще прежнего стиснул. Та уж от счастья зарделась вся и вырывается, чтоб он крепче держал.
— Отпущу — не убежишь? — спрашивает Малафей.
— Не убегу, — смеется девочка, и только её и след простыл, как он поверил и руку разжал.
— Малафей-Малафей, догоняй меня скорей! — и всё по новой.
Но это несерьёзно. Он собрал мальчиков и объявил:
— Будем играть в войну!
И пошла перестрелка, перепалка, перебранка, он всех усмирил, всех победил и опять к девочкам. И так по кругу. Наконец, побежал он к рыжим родителям своим и шепнул о чём-то. И те ему вынесли самокат. У него был самокат. Самокат! Это стоячая каталка для детей, у неё руль есть, чтобы держать равновесие.
Я уж со своими петушками устал возиться, подтаяли они, искривились за время войны. Играть неудобно, руки заняты. И вся моя компания — эти петушки. Один я с петушками в стороне. И тогда не знаю, как и почему мне это в голову пришло, только я подошёл к нему и говорю:
— Дай покататься, а я тебе петушка дам.
— На, — говорит.
Я петушков обоих — ему в руки, сам — на самокат и по залу кругами между пляшущими людьми. Дети гурьбой за мной: я теперь возвысился. Катаюсь, катаюсь, потом чую неладное: никто за мной уже не бегает, не визжит. Снова один. Еду самокат возвращать, а у самого сердце не на месте: что-то не так, чую. Тут он из толпы выныривает, свитой девочек и мальчиков окружен.
— А вот и самокат! Накатался, отдавай, — говорит.
Отдаю и говорю:
— Один петушок тебе, за самокат. А второго отдавай.
Молчит и ухмыляется. У меня внутри упало всё.
— Одного петушка отдай, пожалуйста, — а сам гляжу: у него в руке две палочки обглоданные только. И всё равно твержу, как дурак: — Отдай петушка! Отдай петушка-а-а-а!
— Ты бы, брат, — говорит, — ещё бы подольше покатался. Знал ведь, на что идёшь. Ты мне петушков, я тебе самокат.
— Я одного петушка тебе давал!
— Ан вышло, что двух!..
И уводит из рук моих самокат, и вся детвора за ним, с восторгом. А я остаюсь с горем, которого никак не исправить. И смех вокруг. Даже не надо мной смех. Просто смех вокруг. Смех, смех, смех!..
— Фёкл Крагин! Вы повержены в этом раунде! — заговорила вселенная голосом Малафея Мелентьева. Моё сознание включилось. — Намерены ли вы продолжать бой или признаёте себя проигравшим?
Я открыл глаза. От места поединка я был удалён шагов на десять, сидел на полу, спиной опершись на кучу спортивных матов. Они стояли надо мной, Шмакин опрыскивал меня водой из кожаного бурдюка.
Дотронулся. Бешеная птица боль клюнула в какое-то потаённое, доселе не известное место в зубах, в челюсти. Что-то было нарушено, испорчено, но проверять больше не хотелось.
— Фёкл Крагин! Вы слышите? Вы были повержены. Намерены ли вы продолжать поединок?
Он осведомлялся без всякого злорадства. Он просто спросил и ждал моего ответа. О, как мерзко было от этой бесконечной правоты его и благородства! И не в чем, не в чем упрекнуть!
— Не-е-е-ет, — по-медвежьи протянул я. С нижней губы упала капля кровавой слюны. — И-и-и-и-и...
— Да?
— И-и-и-и-ибо я вы-ы-ы-ше вас... — выплюнул я. Приподнялся, снова бухнулся. Голова кружилась.
— Хорошо, — сказал он, левой рукой растирая костяшки правой руки. — Как лекарю мне должно обработать ваши раны. Гарманталай, помоги-ка!
Я снова попытался встать, отмахиваясь от их рук, и повалился набок, на маты.
— Тише, тише! Гарманталай, придержи-ка его.
— И-и-и-и-и...
— Ибо вы выше меня? — Он презирал меня.
— И-и-и-и-и-идите к че-е-е-ерту! — гавкнул я.
— Хорошо.
— И-и-и-и-ибо я вы-ы-ы-ше вас... — я сказал это наверно раз пять, пока они пытались меня схватить под мышки и поднять. Я всхлипывал, давился тем, что в изобилии текло изо рта моего, и еле крепился, чтоб не зареветь, как дитя, от обиды и прогрессирующей боли. С разбитой губы свисала тягучая красная веревка.
— Оставь, Гарманталай! — Они усадили меня обратно. — Пусть наш высокодуховный придёт в себя. Я надеюсь, — сказал он мне, — вы удовлетворены, и теперь соблаговолите оставить нас в покое, прекратите распускать гадкие сплетни обо мне и моей Астрид. От первой помощи вы отказываетесь. Ваше право. Оставляю вам вату, бинт, йод. Знаете, что с этим делать? Ваша рана в сущности пустяк, но пусть она вас научит уму-разуму. Для меня всё это тоже было хорошим уроком, и я не хотел причинять вам вред, — прибавил мягко, чтоб подсластить пилюлю.
То, что он и тут этаким фигурным лебедем вышел, а я уродцем, ранило меня больше, чем любой из его увесистых кулаков. Я пыхтел и смотрел на них снизу вверх. С моего подбородка свисала кровавая бахрома.
— Что ж, нам пора! У меня договорённость со Сторожем только на час, — сказал Малафей.
— Мы подозревали, что дуэль закончится скоропостижно, — сумничал Шмакин.
— Вам всё-таки помочь встать?
— Сам, — из-за распухшей губы у меня вышло «шам».
Я вспомнил. Это было именно в этом зале. То застолье. Теперь я вспомнил. Это было здесь.
— Малафей! — окликнул я его.
Он обернулся в дверях.
— Вы помните ваше детство? — я шамкал и шлёпал губами.
— Нет, — сухо ответил он. — Я совсем не помню детства. Поторопитесь, будьте добры. Мы тут не на постоялом дворе.
Вышли. Я ухнулся на свои сани и обхватил руками голову. Малафей возился с ключами и гремел замком, пока его Гарманталай всё скакал вокруг него, что-то нашептывая с противным смешком. Соскучившаяся собака радостно лаяла и крутилась у их ног.
— Обязательно обработайте рану! Это вам не шутки! — напутствовал Малафей, усаживаясь в сани и беря поводья. — Прощевайте! Не поминайте лихом и простите, если что не так!
Щёлкнул собаку хлыстом, с визгом, с посвистом понесла. Я пытался поднять голову. Я дышал, и изо рта выходил пар. Ушибленная сторона лица онемела и пульсировала, как будто там завелось ещё одно сердце. Я тронул и всхлипнул. Ух, тяжко! Сомкнул челюсти, но что-то там было не так, как всегда. Что-то было нарушено во рту моём. Пока с ними говорил, ещё не так сильно обозначилось, а вот теперь боль полным ходом принялась меня жарить на своей сковороде. Я стал на колени и зачерпнул снегу в руки. Снег был твёрдый, крупный, как галька. Перемороженный. Намедни потепление было, он было подтаял, а нынче мороз грянул. Я приложил пригоршню ледышек к лицу — зря! Отпрянул. Твёрдо и колко. Решился дотронуться языком до внутренней стороны щеки — болтались ошмётки кожи. Я не мог понять, то ли чего-то не было там, где оно должно было быть, то ли, наоборот, появилось что-то лишнее. Запустил пальцы в рот, собрался с духом и рванул. И только завопил беззвучно.
— Зубы следует беречь. Новые-то, чай, не вырастут, — учил меня Малафей Мелентьев, споласкивая руки в медном умывальнике. Краник заедал, и лекарь нервно крутил его то в одну, то в другую сторону, но вода капала нехотя, по чуть-чуть.
— Но ведь это же вы сделали!
Я полусидел-полулежал в кресле зубодёра, в кабинете его. Малафей Мелентьев готовился выкорчевывать обломки повреждённого в дуэли зуба. Промывал клещи и кусачки, подбирал по мне сверло, долото, молоточек. Гарманталай Шмакин и тут ему ассистировал, время от времени оттягивая вниз марлевую повязку, чтобы показать мне свой хитрый оскал.
На стене над столом его висел портрет Астрид в деревянной раме. Ухмыляется Астрид, букет астр баюкает, с кружев на рукавах соринки-тычинки цветочные собирает тонкими ноготками. Живой портрет.
Долго-долго не наступала тогда весна, долго-долго. Столько месяцев, что уж и календарь сбился, и как-то тайком его переписывали Вышестоящие, чтоб от распорядка не отстать, чтоб год не удлиннился. Только-только распогодится, снега затверделые чуть подплывут — и заново морозы седые ударят, и метели сивые завоют, и Сеть таким густым инеем обородеет, что уж и неба безрадостного вовсе не видать.
Но пришла наконец и весна. Сеть стала оттаивать. Капель прискакала на цыпочках, копытцами лёгкими прошлась, сосцами прозвенела, весельем сердце наполняя. Гулкие, светлые ветры подули, загоготали подвороти, форточки захлопали, мальчики забегали, девочки захихикали. С саней на каталки обратно пересели. А я всё с того вечера злополучного зубами мучаюсь. Ух, как мучаюсь.
— Но вы сами меня вызвали на дуэль, — парировал он, нависая надо мной.
И снова прав, прав! Говорит резонно, правильно, по делу говорит! А я снова — вспыльчивый петух. Так ведь и было: сам я его и вызвал. Вызвать-то вызвал, а не подозревал, что буду повержен. Представлял, что обида моя мне силы придаст. На деле же насилу я дополз тогда по насту бугристому. Сивухой рот сполоснул — как будто пекло адское само у меня во рту обосновалось. Всё ворочался на койке, холодом выдубленной: встать-то дров в печь подкинуть мочи не было. Дней уж не знаю, сколько провалялся я в лихорадке, пока на работе меня цеховые не хватились....
— Так вызвал я вас потому, что вы у меня забрали жену! — говорю, спокойствие блюсти пытаюсь.
Откачали, выходили цеховые. Щека внутри заросла быстро: когда очнулся я от лихорадки, уже тогда как не было ничего. В зеркале расколотом своём рассмотрел то место, где ползуба отвалилось: жёлто-коричневые руины. На наш каменный карьер похоже. В дырку целый зубчик чеснока влезает, вот так. И что-то там всё свербело и зудело с каждым днём всё несносней.
А под зубом обломанным на десне пузырь надулся. Нажмёшь на него — струйкой жижа гнойная извергается. Уламывали меня цеховые к лекарю, к зубодёру обратиться, уламывали. В конце концов, неудобство такое мне причинилось пузырём этим, что сдался я и пошёл. А зубодёр-то у нас в городе знамо кто.
«Оно, может, и не шибко лакомо, — сказали цеховые, — а гордость-то надо поунять да к нему за подмогой обратиться. Экий ведь диво-человек, всё умеет: и сломать зуб, и починить!» И пошёл я к Малафею Мелентьеву на приём.
Он терял терпение.
— Э нет, позвольте! Она не овца какая-нибудь. Она ушла сама, и на то была её добрая воля. Она давно хотела уйти и ушла. А не я её забрал. Что за каменный век у вас в голове?
— Ах, да вы самовлюблённый наглый павлин! Как остальные этого не видят?! Ведь это вы, вы поступаете, как в каменном веке! Понравилось — присвоил! Без закона, без разрешения!..
— Но-но-но! — завопил Шмакин, унюхав предстоящий скандал.
— Полегче-ка, сударь! — осадил меня Малафей, в первый раз возвысив голос. — Я ведь тоже могу вас вызвать на дуэль. И щадить уже не стану. Там и посмотрим, кто из нас павлин.
— Кто из вас павлин, — вставил Гарманталай.
Я извинился. Нет, я не испугался его. Нет. Измотала меня вся эта вражда, уродство собственное утомило. Не было уж сил смотреть на себя такого. Я извинился, снова гадкое подобострастие в себе обнаружив. Не настоящее оно было. И злоба не настоящая. А что настоящее — не знаю.
— То-то же, — смягчился он. — Вернёмся к вашим зубам. Откройте рот. Та-а-к-с! Что тут у нас? Свищ. Очень хорошо. Ну, не так все страшно.
Хваткими щипчиками он наловил со столика ватных тампонов и запихнул мне за щеку.
— Не закрывайте рот. Я сказал: не закрывайте рот. Гарманталай!
Во рту было сухо, хотелось нацедить слюны. Шмакин протянул ему шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Он выпустил очередь капель с кончика иглы.
— Несколько движений, и будете как новенький!
Он всадил мне в десну под больным зубом иглу.
— Терпите, терпите!
В самое ядро всадил, в мироздание моё. Я застонал. В меня змеёй вползала инородная, чуждая мне струя, острым языком высвобождала себе место между волокон и жил моих.
— Ну и неженка же вы, Фёкл Крагин, скажу я вам, — он вынул из меня иглу. — Сплёвывайте. Посидите пару минут, должно подействовать обезболивающее. Бюллетень дать вам я не имею права, хотя по-хорошему, вам бы денек отлежаться. Впрочем, дело ваше табак из-за сивухи. Зуб ни при чём. Ни в коем случае не пейте, слышите? Во-первых, от вас разит порядочно. Не будь я вашим добрым знакомым, развернул бы вас с порога. Но поступи я так, вы бы расценили это как месть с моей стороны, верно? А я, поймите же наконец, такой же человек, как и вы. Мне тоже все это нелегко далось.
— Даже очень было сложно! — ввернул Гарманталай.
— В общем, пить прекращайте, поняли, Фёкл Крагин? Завтра выходите на работу и работайте самозабвенно. Забудьтесь трудом. Это спасает. Это идеальное обезболивающее. По себе знаю. Я только работой и спасался, когда от меня ушла жена...
Я чуть не вскочил из кресла и вытаращил на него глаза.
— Сидите. Не закрывайте рот. Сплёвывайте.
Я исторг порцию слюны в продолговатую плевательницу и снова уставился на него.
— Удивлены? Вот видите, вы даже не знали. А всё потому, что я заключил: необязательно оглашать мир своим воем да устраивать побоище, а лучше посидеть да поразмыслить, отчего так случилось и что из этого можно извлечь.
— К кому? — выдавил я одной грудью. Левую сторону лица мне как обморозило.
— Да вот, к другу моему, Гарманталаю и ушла, — спокойно сказал Малафей. — Шире рот.
— Эх, Павлинка-Павлинка!.. — мечтательно покачал головой Гарманталай, причмокивая и, видимо, вспоминая Павлинку.
— Шире рот.
Несмотря на мой нутряной стон, он уткнулся коленом мне в грудь, коршуном надо мной навис, ухватил обломок зуба и стал тянуть. Тянет из челюсти прочь — вся челюсть из меня тянется, точно дух вон из меня выуживает. Челюсть тянется, а зуб из неё — ни-ни. Я соплю, носом шумно работаю. Он остановился лоб утереть, ловчее перехватил зуб, найдя какой-то удобный для хватки ракурс, поддел зуб клещами и снова тянет. Тянет-тянет-тянет-раз! Хрустнуло, как будто диск земной и купол небесный надвое хрустнули.
— Та-а-ак! Уже почти!
Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз! Я ошалело только глаза выпучил и слюной исхожу, носом шмыгаю, ужасаюсь предстоящей боли. Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз!
Тут он как-то замедлился, выкрутил юзом руку и зуб просто вынул из меня, как затычку из бутыли, при этом несколько раз руку изворачивая, чтобы правильно зуб достать.
— Всего-то и делов! Полюбуйтесь! — провозгласил Шмакин, указывая на зажатый в Малафеевых клещах коричневый обломок с двумя длинными рожками, как у улитки.
Я сплюнул полный рот кровавой слизи. Ощупал языком новую ямку во рту.
— До свадьбы заживёт, — сострил Гарманталай.
Малафей завернул зуб в салфетку и протянул мне.
— На память. Как видите, вы ничего особо не потеряли. Зуб был напрочь изъеден зубным червём.
— Шпашибо, — сказал я всё еще онемелым ртом.
Он задумался, пока я вставал из его кресла, и сказал, стягивая резиновые перчатки:
— Мой вам совет, Фёкл Крагин, забудьте эту историю. Забудьте Астрид, как будто никогда её и не было. Для вас это единственный выход, поверьте. Нет способа для вас что-либо изменить, просто не существует. Да вы и не хотите этого. Если бы хотели, не допустили бы. Ваш вариант смириться и жить, Фёкл Крагин. Изменить что-либо вы можете только в себе, слышите? Либо в сторону разрушения: дуэли, злоба, сивуха. Что вы сейчас и делаете. Либо в сторону созидания: бросьте пить сивуху, работайте радостно, угомонитесь, наконец. Выбор ваш может стоять только между двумя этими дорогами. Запомните это, Фёкл Крагин. Попытаетесь что-то изменить вне себя, снова получите отпор. Уж лучше поверьте мне на слово.
— Вы поняли? — уточнил Шмакин.
Я не посчитал нужным отвечать ему, а вместо этого высыпал из мошны причитающуюся кучку медяков на стол Малафею, развернулся и вышел.
— Стойте! Денег не нужно! — донеслось вдогонку.
В провинции каждый человек, что встречается вам на пути, — точно камень. Я порешил, выходя из больницы, что больше никогда с Малафеем Мелентьевым нам не столкнуться. И да будет так, думаю! Но вышло иначе. Ибо в провинции не мы ходим по дороге — дорога нас ведёт, куда ей нужно; не мы живём в доме — дом нас содержит в себе, чтобы досматривали мы его, рухнуть не дали; и городу надоба в нас, чтобы слава его в будущих поколениях гремела; и камню мы нужны, чтобы возделывали его, облагораживали; чтобы не дикому, бесформенному ему расти.
— Слышишь, слышишь, Малафей! Малафей! Чтобы не бесформенному ему расти! Ему, камню-то, — говорю, в лицо заглядываю. — Не молчи, Малафей! Ох, не молчи!
Лето выдалось знатное. Днём жарило, пожалуй, слишком рьяно, но это на пользу. Всю плесень, всю нечисть тысячелетнюю, в щелях засевшую, засушило, в прах обратило да и выдуло ветрами вечерними. А вечерами ветры были пахучие, прохладные. Как в сумерках стены и мостовые первый жар отдадут, выдохнут с облегчением, дневным солнцепёком изнурённые, так и на прогулку можно, вдоль улочек ехать на каталке, с плющей листики срывать, девичьими песнями заслушиваться да мужикам на скамьях в карты заглядывать. На площади скрипачи хромые да цимбалисты вечную жалобу затянут, цыганки плечами трясут... Хорошо!
— Хорошо, говорю! Слышишь ли, слышишь, Малафей?
Хорошо и работалось тем летом. Самозабвенно, радостно. Как Малафей Мелентьев советовал.
— Как ты, Малафей, советовал!.. Всё, как ты советовал!
Благородная испарина тело моё за день покроет, роба липнет, пот смешивается с рыжей каменной пылью и в глаза, в уши норовит. Жижа эта похожа на кровь. Это — радостный пот: вся скверна с ним — вон. Приятно выползти после смены из забоя под тент беседки, постоять-посутулиться на лёгком ветерке, если таковой случится, пообщаться с сотрудниками. Разговоры у нас всё простые, бесхитростные, однако жизненные: как будем добытые камни на хлеб менять, на рыбу, на соль. На лён и воск. На древесину и керосин. А то просто славу и доблесть города нашего обсуждаем. Все разговоры свои, здешние, сердечные.
Вечерами, только розовая тень ляжет на город, я в тазу холодной водой обмоюсь, как Астрид раньше имела привычку обмывать меня, рубище рабочее на чистое сменю, да и выползу на крылечко пшеном малых птиц покормить: синицу, воробья, снегиря. Крупная птица, она сквозь Сеть не протискивается, знай только вышагивает по прутьям сверху, косится неодобрительно вниз. На мой стакан, значит! Да я совсем немного сивухи пью. Вот из этого одного и прихлёбываю весь вечер. В тёмных углах, под кровлями крыш и козырьками крылец слетаются мыши, потусторонним говором своим передают друг другу страшные вести. Темнеет поздно, но час этот наступает всегда незаметно. За птицами наблюдаешь всё, ан глядь: уж сумерки оформились, все предметы окрасились в лучший свой, вечерний, как бы предсмертный оттенок, душу свою показывают. На закате и на рассвете мир всегда видится таким, каким он задуман. Тьма обманчива, как и свет дневной.
— Ты согласен, Малафей? О рождении и смерти то же самое можно сказать? Только при рождении и на смертном одре человек настоящий. Нет? Притянуто за уши? Малафей, не молчи!
Когда серовато-розовая тьма оборачивается синевой, а дорожные камни отдыхают от ходьбы и езды людской, город объезжает на своей телеге Фонарщик, под каждым подвесным фонарём тормозит и от большого факела зажигает фитиль. Близ моего крыльца тоже висит фонарь. Фонарщик всегда останавливается тут в одно и то же время, и я уж заранее знаю, что скажет этот старик в сером капюшоне:
— Всё сидишь, Фёкл Крагин?
— Всё сижу, господин Фонарщик, — ответствую.
Таков наш ежевечерний разговор. Тьма сгущается постепенно, а потом — раз — и за дрожащим куполом фонарного света не различить ни зги. Ну и мошкары слетается на огонь! Только и вспышек и треску: то мотыль влетит в пламя, то целая стрекоза, заполыхает налету, да и погаснет во мгновение ока! И канет падучей звездой.
— Прямо, как мы, Малафей! Прямо, как мы!
Теперь последний объезд городовых: всё ли спокойно в городе? Всё ли, как надо? Смотрят, где Сеть прохудилась, где прорвалась, быть может. Прутья покорёженные рихтуют, сломанные сызнова сплетают. Чтобы век охраняла Сеть наш город. В древности тёмной её натянули, никто уж и не вспомнит, когда. И, вестимо, прорехи в ней образуются от времени, от непогоды. Чинят всегда вечером, чтоб движению не мешать. А как прогремят каталки городовых, как скроются шлемы за границу света фонарного, так и отбой. Ровно, как и утром, бьёт кузнец у себя на кузнице трижды кувалдой по рельсе. Весь город поставлен в известность: пора спать. Тем пора спать, кто сердцем благороден, душою смел, главою здрав. Я же сердцем гнусен, душой труслив, главою скорбен. Тяжко мне в темноте. Остаюсь на крыльце. От сивухи всё плавится внутри, пульсирует в ритм симфонии цикад.
— В этот вечер, понимаешь, порвалась какая-то нить... Понимаешь? Когда рвётся нить, нужно движение, чтобы нить продолжилась. Выпьешь сивухи, сидишь — всё вокруг движется. А сивуха закончилась. В таком случае приходится двигаться самому, ничего не поделаешь.
Если на возвышенность взобраться, лихо на каталке вниз съезжаешь, с ветерком! Живёшь! Живё-ёшь! А чтоб в ушах свистало, грузишь тачку одноколесную камнями, да и держишь за оглобли, а на каталку — полуприсядом. И погнал! Осторожность, правда, никогда не повредит. На скорости любой бугорок дорожный с курса сбивает, не заметил — улетел к чёрту на рога. А тормозить — это вообще наука отдельная. Не умеешь тормозить — даже на каталку не садись, пешком ползай. Что уж про тачку, каменьями груженную, говорить-то!
— Я ведь вообще человек зажатый, как болт в гайку вкрученный. Всего лишенный. Ну что мне, нельзя, как всем людям? Воевать мне нельзя, так и скорбеть об этом нельзя? Так? Так?
Лечу-у-у-у-у! Вниз, грохоча, подскакивая, каменья из тачки теряя! Из одного круга фонарного в другой сквозь промежуток сырой тьмы! Ух ты-ы-ы!
— А-а-а-ах! — слышу, глаза продираю, за голову болезную хватаюсь. — Ты-ы-ы! Злыдень! Убивец!
Надо мной в дрожащей полутьме прыгает и машет руками Гарманталай Шмакин.
— Уффф, — привстаю, очухиваюсь. Осматриваюсь.
Всё как будто выключилось и включилось, так в пламени на ветру бывает перебой. Что-то большое, тёплое и твёрдое, но не могу понять, когда это было. Давно или сейчас.
Аршинах в десяти валяется моя каталка, тачка вверх ногами, покорёженная, камни россыпью повсюду, колесо у тачки в холостую вертится ещё, скрипит. Посерёд дороги стоит человек на одной ноге, вторую чуть поджал и дрыгает ею. Стоит человек в полный рост, шея и голова его высунуты в открытое окно в Сети. Таких окон в городе всего три, ключи находятся только у Градоначальника, и смотреть из окон строжайше запрещено. Человек стоит, я врезался в него. Человек этот — Малафей Мелентьев.
— А-а-а-ай! Что же! Что же!.. — лепечу бессвязно, подползая к нему. Нога его дёргалась, Сеть лежала на плечах его, головой он вынырнул в Окно, руки в каком-то заторможенном исступлении пытались подняться к шее, но как будто какая-то сила не давала ему это сделать.
— Что ж стоишь, гад?! Помогай! — ревёт на меня Гарманталай Шмакин страшным голосом, и я, себя не чуя, следую за ним и повторяю, что делает он. — Ах, пакостник, убил, убил-таки! — не унимается Шмакин, и я только всхлипываю и причитаю, мои ушибленные и ободранные локти и колени печёт, как в детстве, но я этой боли рад, как будто она оправдывает какую-то страшную мою вину, новую вину.
— В Окно? Вы смотрели в Окно?.. Открыли Окно?.. — зачем-то глупо выпытывал я у Шмакина.
— Хватай, подсобляй, подлая твоя душонка! — орёт на меня Шмакин, с наслаждением, с упоением орёт, оживленно хватает Малафея под мышки, тащит, заставляет меня тоже тащить, я слушаюсь, изо всех сил тащу, но оказывается, что тащу не в ту сторону и только мешаю, и сам не понимаю, что делаю. На скорбную голову мою обрушиваются новые ругательства, тело его, обессиленное, тяжелое, наваливается на меня, я чувствую его уходящее, мучающееся уходом тепло, над самым ухом моим стоит его долгий неуёмный стон. Что-то ещё Шмакин мне приказывает, куда-то отпрядываю, что-то поспешно нашариваю в темноте, снова взяли, подналегли, я уже в курсе дела, и споро и резво уж у нас выходит, и вдруг он всем весом на нас наваливается, до этого как будто невесом был, а тут как с большой высоты на горбы наши свалился, повело нас туда, потом сюда, снова туда, один споткнулся, второй, ноги его как бы парят над землей... Тёплым, тёплым густым заливает меня. Кладём, наземь кладём. Шмакин что-то еще произносит, к чему-то меня еще принуждает, но по мере того, как в едва различимом свете бледнеет Малафей Мелентьев, я понимаю, как я свободен! Как я свободен!
— Тряпку! Тряпку! — рявкает Гарманталай и сам себе подаёт тряпку, и затыкает фонтан крови, брызжущий из Малафеевой шеи, куда вонзился один из прутьев Сети, на который Малафей напоролся, когда неожиданно в темноте в него врезался я.
Шмакин ещё что-то горлопанит мне, понукает, ругает, но я уже слабо слушаю, и просто сижу на корточках рядом с корчащимся, силящимся сделать вдох Малафеем. Шмакин хватает меня за плечи, трясёт, ударяет даже по щеке, что-то кричит в самое моё лицо, но я даже не слышу и не реагирую, потому что понимаю, что в этой жизни остаёмся только я и Малафей Мелентьев, и были только я и он всегда, с того самого застолья, когда рыжий плут слопал моих петушков.
— ... за городовым! Ух, каналья! — доносится до меня, Гарманталай Шмакин скрывается в темноте.
— Прости, прости, прости, прости, — только и лепечу я неосознанно и ползаю перед ним, как ящерица, будто что-то ища. Как будто если найду, всё исправится.
Он только тихо хрипит и водит головой из стороны в сторону. Тряпка пропиталась кровью и стала похожа на кусок сырого мяса. Я прикоснулся к шее его, и что-то там внутри клокотнуло, выстрелило, по-лягушачьи квакнуло в нём, и мышца на бледном его лице, на скуле, птицей беспомощной забилась.
— О-о-о-о... — только раздалось где-то в нём, в нутре его.
— Сейчас, сейчас, сейчас, — повторял я, точно знал, что нужно сделать. Точно было нечто, что можно сделать, чтобы ему помочь.
Вдруг он схватил меня пятерней за голову, как щенка, и с неожиданной силой притянул к себе.
— З-з-за А.. А... А-астрид?... — четырьмя выдохами одолел он слова. — Или... Или.. З-за п... п... пе-е-е-туш-ков?..
Я оцепенел и уставился на этого бледного, дрожащего человека. За Астрид? За петушков?
Фёклом Крагиным мне быть никогда не нравилось, но я ничего не мог с этим поделать. Я мог быть только им. Малафей Мелентьев не мог не съесть моих петушков.
Он сжал мою голову, все жилы напружились на лице его, на шее, а из-под тряпки хлобыснула кровь с новым напором. Глаза его чуть не выкатывались из глазниц и побелели.
— С-с-с-с... С-с-с... — тянул он. — Ся-я-я-я-дешь... — прошипел и замолк уже навсегда. Его рука упала с головы моей на камни, глаза закатились.
Конечно, сяду. В этом не может быть никакого сомнения. Напротив, наша система правосудия устроена так, что удивителен скорее человек, ни разу за решёткой не побывавший. Хоть ненадолго, но сядет каждый. За моё же преступление, думаю, мне светит, по меньшей мере, побиение камнями, а далее, если выдержу, пожизненное подземное заключение. Никто и никогда мне не поверит, что Малафея Мелентьева я убил случайно. Он сам испустил дух, будучи уверен, что это месть. Ведь такая штука, как прощение, никем никогда не воспринимается всерьёз. А я и сам никогда не верил, что простил его. Пока не убил.
— Нет! — кричу в мёртвое лицо его. — Никогда мы друг друга не простим! Никогда, слышишь? Никогда не простим. Это — война…
Положение моё уже ничто не усугубит, поэтому я решаюсь на новое преступление. Я закрываю веки Малафею Мелентьеву, целую его в ещё тёплый лоб, встаю и высовываю голову в Окно. В тяжелом ржавом замке торчит такой же ржавый ключ. По ночам он ходил смотреть в Окно, видимо, получив тайком от Градоначальника это право за очередные какие-то свои заслуги. Человек привилегий и изысканных наслаждений, ярый поборник Сети, лелеющий ключ от Окна в потайном карманчике. А мне лишь остаётся насытиться крошками с его стола.
Никто не может смотреть в Окно. Никто не может возвысить голову над городом. Наши пращуры многие тысячи лет назад возвели его на славу вековечную. Камни, само собой, поистончились, подтаяли на огне времени. Но город целёхонек. Надёжно и добротно воздвигли его наши предки, только были они ниже ростом на две-три головы. И не знали, что мы, потомки, так вымахаем. Дома нам малы, в домах пригибаемся. А на улице — Сеть. Ежели всяк станет над Сетью возвышаться, что ж это будет? Город гордый, город древний, город великий, кровь, кость и дух прапрапрадедов наших — и тебе, олуху, до пупа? Я с этим первый согласен. Но я — уже больше не я.
Я выныриваю головой из Окна, вытягиваюсь, хрущу костями, вдыхаю ночной воздух. Купол небесный, не перечёркнутый прутьями Сети. Живые стаи звёзд. Зигзаги остроконечных крыш доходят мне до плеч. В чёрных облаках дремлют древние холмы. Жизнь и смерть, рука об руку, в каждом миге. Каждый шаг в сторону жизни ведёт в объятия смерти. И в этом мудрость.
Как черви в каменном яблоке, ползаем мы по своим улочкам, где, если кладут камень на камень, то на века. Но нерушимо оно лишь в мелочах. А развалится — так полностью и навсегда. И город у твоих ног, крошечный, как фигурки в музыкальной шкатулке.
Уже слышно, как идут за мной, гремят кандалами, тянут по бугристой мостовой тяжёлые вериги, точат шипы для строгого ошейника, отбирают самые садкие камни. Уже доносится до меня вечный гул подземелья, немолчный, непобедимый гул. Вот и мой черед настал быть им званным. Но прежде, чем буду осуждён и заключён, успею хлебнуть, хлебнуть простора из растворённого Окна. А после навсегда вернусь под Сеть, да спрячут меня под землю, на которой Малафея Мелентьева мне уже не встретить.
Я открыл глаза. От места поединка я был удалён шагов на десять, сидел на полу, спиной опершись на кучу спортивных матов. Они стояли надо мной, Шмакин опрыскивал меня водой из кожаного бурдюка.
Дотронулся. Бешеная птица боль клюнула в какое-то потаённое, доселе не известное место в зубах, в челюсти. Что-то было нарушено, испорчено, но проверять больше не хотелось.
— Фёкл Крагин! Вы слышите? Вы были повержены. Намерены ли вы продолжать поединок?
Он осведомлялся без всякого злорадства. Он просто спросил и ждал моего ответа. О, как мерзко было от этой бесконечной правоты его и благородства! И не в чем, не в чем упрекнуть!
— Не-е-е-ет, — по-медвежьи протянул я. С нижней губы упала капля кровавой слюны. — И-и-и-и-и...
— Да?
— И-и-и-и-ибо я вы-ы-ы-ше вас... — выплюнул я. Приподнялся, снова бухнулся. Голова кружилась.
— Хорошо, — сказал он, левой рукой растирая костяшки правой руки. — Как лекарю мне должно обработать ваши раны. Гарманталай, помоги-ка!
Я снова попытался встать, отмахиваясь от их рук, и повалился набок, на маты.
— Тише, тише! Гарманталай, придержи-ка его.
— И-и-и-и-и...
— Ибо вы выше меня? — Он презирал меня.
— И-и-и-и-и-идите к че-е-е-ерту! — гавкнул я.
— Хорошо.
— И-и-и-и-ибо я вы-ы-ы-ше вас... — я сказал это наверно раз пять, пока они пытались меня схватить под мышки и поднять. Я всхлипывал, давился тем, что в изобилии текло изо рта моего, и еле крепился, чтоб не зареветь, как дитя, от обиды и прогрессирующей боли. С разбитой губы свисала тягучая красная веревка.
— Оставь, Гарманталай! — Они усадили меня обратно. — Пусть наш высокодуховный придёт в себя. Я надеюсь, — сказал он мне, — вы удовлетворены, и теперь соблаговолите оставить нас в покое, прекратите распускать гадкие сплетни обо мне и моей Астрид. От первой помощи вы отказываетесь. Ваше право. Оставляю вам вату, бинт, йод. Знаете, что с этим делать? Ваша рана в сущности пустяк, но пусть она вас научит уму-разуму. Для меня всё это тоже было хорошим уроком, и я не хотел причинять вам вред, — прибавил мягко, чтоб подсластить пилюлю.
То, что он и тут этаким фигурным лебедем вышел, а я уродцем, ранило меня больше, чем любой из его увесистых кулаков. Я пыхтел и смотрел на них снизу вверх. С моего подбородка свисала кровавая бахрома.
— Что ж, нам пора! У меня договорённость со Сторожем только на час, — сказал Малафей.
— Мы подозревали, что дуэль закончится скоропостижно, — сумничал Шмакин.
— Вам всё-таки помочь встать?
— Сам, — из-за распухшей губы у меня вышло «шам».
Я вспомнил. Это было именно в этом зале. То застолье. Теперь я вспомнил. Это было здесь.
— Малафей! — окликнул я его.
Он обернулся в дверях.
— Вы помните ваше детство? — я шамкал и шлёпал губами.
— Нет, — сухо ответил он. — Я совсем не помню детства. Поторопитесь, будьте добры. Мы тут не на постоялом дворе.
Вышли. Я ухнулся на свои сани и обхватил руками голову. Малафей возился с ключами и гремел замком, пока его Гарманталай всё скакал вокруг него, что-то нашептывая с противным смешком. Соскучившаяся собака радостно лаяла и крутилась у их ног.
— Обязательно обработайте рану! Это вам не шутки! — напутствовал Малафей, усаживаясь в сани и беря поводья. — Прощевайте! Не поминайте лихом и простите, если что не так!
Щёлкнул собаку хлыстом, с визгом, с посвистом понесла. Я пытался поднять голову. Я дышал, и изо рта выходил пар. Ушибленная сторона лица онемела и пульсировала, как будто там завелось ещё одно сердце. Я тронул и всхлипнул. Ух, тяжко! Сомкнул челюсти, но что-то там было не так, как всегда. Что-то было нарушено во рту моём. Пока с ними говорил, ещё не так сильно обозначилось, а вот теперь боль полным ходом принялась меня жарить на своей сковороде. Я стал на колени и зачерпнул снегу в руки. Снег был твёрдый, крупный, как галька. Перемороженный. Намедни потепление было, он было подтаял, а нынче мороз грянул. Я приложил пригоршню ледышек к лицу — зря! Отпрянул. Твёрдо и колко. Решился дотронуться языком до внутренней стороны щеки — болтались ошмётки кожи. Я не мог понять, то ли чего-то не было там, где оно должно было быть, то ли, наоборот, появилось что-то лишнее. Запустил пальцы в рот, собрался с духом и рванул. И только завопил беззвучно.
— Зубы следует беречь. Новые-то, чай, не вырастут, — учил меня Малафей Мелентьев, споласкивая руки в медном умывальнике. Краник заедал, и лекарь нервно крутил его то в одну, то в другую сторону, но вода капала нехотя, по чуть-чуть.
— Но ведь это же вы сделали!
Я полусидел-полулежал в кресле зубодёра, в кабинете его. Малафей Мелентьев готовился выкорчевывать обломки повреждённого в дуэли зуба. Промывал клещи и кусачки, подбирал по мне сверло, долото, молоточек. Гарманталай Шмакин и тут ему ассистировал, время от времени оттягивая вниз марлевую повязку, чтобы показать мне свой хитрый оскал.
На стене над столом его висел портрет Астрид в деревянной раме. Ухмыляется Астрид, букет астр баюкает, с кружев на рукавах соринки-тычинки цветочные собирает тонкими ноготками. Живой портрет.
Долго-долго не наступала тогда весна, долго-долго. Столько месяцев, что уж и календарь сбился, и как-то тайком его переписывали Вышестоящие, чтоб от распорядка не отстать, чтоб год не удлиннился. Только-только распогодится, снега затверделые чуть подплывут — и заново морозы седые ударят, и метели сивые завоют, и Сеть таким густым инеем обородеет, что уж и неба безрадостного вовсе не видать.
Но пришла наконец и весна. Сеть стала оттаивать. Капель прискакала на цыпочках, копытцами лёгкими прошлась, сосцами прозвенела, весельем сердце наполняя. Гулкие, светлые ветры подули, загоготали подвороти, форточки захлопали, мальчики забегали, девочки захихикали. С саней на каталки обратно пересели. А я всё с того вечера злополучного зубами мучаюсь. Ух, как мучаюсь.
— Но вы сами меня вызвали на дуэль, — парировал он, нависая надо мной.
И снова прав, прав! Говорит резонно, правильно, по делу говорит! А я снова — вспыльчивый петух. Так ведь и было: сам я его и вызвал. Вызвать-то вызвал, а не подозревал, что буду повержен. Представлял, что обида моя мне силы придаст. На деле же насилу я дополз тогда по насту бугристому. Сивухой рот сполоснул — как будто пекло адское само у меня во рту обосновалось. Всё ворочался на койке, холодом выдубленной: встать-то дров в печь подкинуть мочи не было. Дней уж не знаю, сколько провалялся я в лихорадке, пока на работе меня цеховые не хватились....
— Так вызвал я вас потому, что вы у меня забрали жену! — говорю, спокойствие блюсти пытаюсь.
Откачали, выходили цеховые. Щека внутри заросла быстро: когда очнулся я от лихорадки, уже тогда как не было ничего. В зеркале расколотом своём рассмотрел то место, где ползуба отвалилось: жёлто-коричневые руины. На наш каменный карьер похоже. В дырку целый зубчик чеснока влезает, вот так. И что-то там всё свербело и зудело с каждым днём всё несносней.
А под зубом обломанным на десне пузырь надулся. Нажмёшь на него — струйкой жижа гнойная извергается. Уламывали меня цеховые к лекарю, к зубодёру обратиться, уламывали. В конце концов, неудобство такое мне причинилось пузырём этим, что сдался я и пошёл. А зубодёр-то у нас в городе знамо кто.
«Оно, может, и не шибко лакомо, — сказали цеховые, — а гордость-то надо поунять да к нему за подмогой обратиться. Экий ведь диво-человек, всё умеет: и сломать зуб, и починить!» И пошёл я к Малафею Мелентьеву на приём.
Он терял терпение.
— Э нет, позвольте! Она не овца какая-нибудь. Она ушла сама, и на то была её добрая воля. Она давно хотела уйти и ушла. А не я её забрал. Что за каменный век у вас в голове?
— Ах, да вы самовлюблённый наглый павлин! Как остальные этого не видят?! Ведь это вы, вы поступаете, как в каменном веке! Понравилось — присвоил! Без закона, без разрешения!..
— Но-но-но! — завопил Шмакин, унюхав предстоящий скандал.
— Полегче-ка, сударь! — осадил меня Малафей, в первый раз возвысив голос. — Я ведь тоже могу вас вызвать на дуэль. И щадить уже не стану. Там и посмотрим, кто из нас павлин.
— Кто из вас павлин, — вставил Гарманталай.
Я извинился. Нет, я не испугался его. Нет. Измотала меня вся эта вражда, уродство собственное утомило. Не было уж сил смотреть на себя такого. Я извинился, снова гадкое подобострастие в себе обнаружив. Не настоящее оно было. И злоба не настоящая. А что настоящее — не знаю.
— То-то же, — смягчился он. — Вернёмся к вашим зубам. Откройте рот. Та-а-к-с! Что тут у нас? Свищ. Очень хорошо. Ну, не так все страшно.
Хваткими щипчиками он наловил со столика ватных тампонов и запихнул мне за щеку.
— Не закрывайте рот. Я сказал: не закрывайте рот. Гарманталай!
Во рту было сухо, хотелось нацедить слюны. Шмакин протянул ему шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Он выпустил очередь капель с кончика иглы.
— Несколько движений, и будете как новенький!
Он всадил мне в десну под больным зубом иглу.
— Терпите, терпите!
В самое ядро всадил, в мироздание моё. Я застонал. В меня змеёй вползала инородная, чуждая мне струя, острым языком высвобождала себе место между волокон и жил моих.
— Ну и неженка же вы, Фёкл Крагин, скажу я вам, — он вынул из меня иглу. — Сплёвывайте. Посидите пару минут, должно подействовать обезболивающее. Бюллетень дать вам я не имею права, хотя по-хорошему, вам бы денек отлежаться. Впрочем, дело ваше табак из-за сивухи. Зуб ни при чём. Ни в коем случае не пейте, слышите? Во-первых, от вас разит порядочно. Не будь я вашим добрым знакомым, развернул бы вас с порога. Но поступи я так, вы бы расценили это как месть с моей стороны, верно? А я, поймите же наконец, такой же человек, как и вы. Мне тоже все это нелегко далось.
— Даже очень было сложно! — ввернул Гарманталай.
— В общем, пить прекращайте, поняли, Фёкл Крагин? Завтра выходите на работу и работайте самозабвенно. Забудьтесь трудом. Это спасает. Это идеальное обезболивающее. По себе знаю. Я только работой и спасался, когда от меня ушла жена...
Я чуть не вскочил из кресла и вытаращил на него глаза.
— Сидите. Не закрывайте рот. Сплёвывайте.
Я исторг порцию слюны в продолговатую плевательницу и снова уставился на него.
— Удивлены? Вот видите, вы даже не знали. А всё потому, что я заключил: необязательно оглашать мир своим воем да устраивать побоище, а лучше посидеть да поразмыслить, отчего так случилось и что из этого можно извлечь.
— К кому? — выдавил я одной грудью. Левую сторону лица мне как обморозило.
— Да вот, к другу моему, Гарманталаю и ушла, — спокойно сказал Малафей. — Шире рот.
— Эх, Павлинка-Павлинка!.. — мечтательно покачал головой Гарманталай, причмокивая и, видимо, вспоминая Павлинку.
— Шире рот.
Несмотря на мой нутряной стон, он уткнулся коленом мне в грудь, коршуном надо мной навис, ухватил обломок зуба и стал тянуть. Тянет из челюсти прочь — вся челюсть из меня тянется, точно дух вон из меня выуживает. Челюсть тянется, а зуб из неё — ни-ни. Я соплю, носом шумно работаю. Он остановился лоб утереть, ловчее перехватил зуб, найдя какой-то удобный для хватки ракурс, поддел зуб клещами и снова тянет. Тянет-тянет-тянет-раз! Хрустнуло, как будто диск земной и купол небесный надвое хрустнули.
— Та-а-ак! Уже почти!
Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз! Я ошалело только глаза выпучил и слюной исхожу, носом шмыгаю, ужасаюсь предстоящей боли. Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз! Тянет-тянет-тянет-раз!
Тут он как-то замедлился, выкрутил юзом руку и зуб просто вынул из меня, как затычку из бутыли, при этом несколько раз руку изворачивая, чтобы правильно зуб достать.
— Всего-то и делов! Полюбуйтесь! — провозгласил Шмакин, указывая на зажатый в Малафеевых клещах коричневый обломок с двумя длинными рожками, как у улитки.
Я сплюнул полный рот кровавой слизи. Ощупал языком новую ямку во рту.
— До свадьбы заживёт, — сострил Гарманталай.
Малафей завернул зуб в салфетку и протянул мне.
— На память. Как видите, вы ничего особо не потеряли. Зуб был напрочь изъеден зубным червём.
— Шпашибо, — сказал я всё еще онемелым ртом.
Он задумался, пока я вставал из его кресла, и сказал, стягивая резиновые перчатки:
— Мой вам совет, Фёкл Крагин, забудьте эту историю. Забудьте Астрид, как будто никогда её и не было. Для вас это единственный выход, поверьте. Нет способа для вас что-либо изменить, просто не существует. Да вы и не хотите этого. Если бы хотели, не допустили бы. Ваш вариант смириться и жить, Фёкл Крагин. Изменить что-либо вы можете только в себе, слышите? Либо в сторону разрушения: дуэли, злоба, сивуха. Что вы сейчас и делаете. Либо в сторону созидания: бросьте пить сивуху, работайте радостно, угомонитесь, наконец. Выбор ваш может стоять только между двумя этими дорогами. Запомните это, Фёкл Крагин. Попытаетесь что-то изменить вне себя, снова получите отпор. Уж лучше поверьте мне на слово.
— Вы поняли? — уточнил Шмакин.
Я не посчитал нужным отвечать ему, а вместо этого высыпал из мошны причитающуюся кучку медяков на стол Малафею, развернулся и вышел.
— Стойте! Денег не нужно! — донеслось вдогонку.
В провинции каждый человек, что встречается вам на пути, — точно камень. Я порешил, выходя из больницы, что больше никогда с Малафеем Мелентьевым нам не столкнуться. И да будет так, думаю! Но вышло иначе. Ибо в провинции не мы ходим по дороге — дорога нас ведёт, куда ей нужно; не мы живём в доме — дом нас содержит в себе, чтобы досматривали мы его, рухнуть не дали; и городу надоба в нас, чтобы слава его в будущих поколениях гремела; и камню мы нужны, чтобы возделывали его, облагораживали; чтобы не дикому, бесформенному ему расти.
— Слышишь, слышишь, Малафей! Малафей! Чтобы не бесформенному ему расти! Ему, камню-то, — говорю, в лицо заглядываю. — Не молчи, Малафей! Ох, не молчи!
Лето выдалось знатное. Днём жарило, пожалуй, слишком рьяно, но это на пользу. Всю плесень, всю нечисть тысячелетнюю, в щелях засевшую, засушило, в прах обратило да и выдуло ветрами вечерними. А вечерами ветры были пахучие, прохладные. Как в сумерках стены и мостовые первый жар отдадут, выдохнут с облегчением, дневным солнцепёком изнурённые, так и на прогулку можно, вдоль улочек ехать на каталке, с плющей листики срывать, девичьими песнями заслушиваться да мужикам на скамьях в карты заглядывать. На площади скрипачи хромые да цимбалисты вечную жалобу затянут, цыганки плечами трясут... Хорошо!
— Хорошо, говорю! Слышишь ли, слышишь, Малафей?
Хорошо и работалось тем летом. Самозабвенно, радостно. Как Малафей Мелентьев советовал.
— Как ты, Малафей, советовал!.. Всё, как ты советовал!
Благородная испарина тело моё за день покроет, роба липнет, пот смешивается с рыжей каменной пылью и в глаза, в уши норовит. Жижа эта похожа на кровь. Это — радостный пот: вся скверна с ним — вон. Приятно выползти после смены из забоя под тент беседки, постоять-посутулиться на лёгком ветерке, если таковой случится, пообщаться с сотрудниками. Разговоры у нас всё простые, бесхитростные, однако жизненные: как будем добытые камни на хлеб менять, на рыбу, на соль. На лён и воск. На древесину и керосин. А то просто славу и доблесть города нашего обсуждаем. Все разговоры свои, здешние, сердечные.
Вечерами, только розовая тень ляжет на город, я в тазу холодной водой обмоюсь, как Астрид раньше имела привычку обмывать меня, рубище рабочее на чистое сменю, да и выползу на крылечко пшеном малых птиц покормить: синицу, воробья, снегиря. Крупная птица, она сквозь Сеть не протискивается, знай только вышагивает по прутьям сверху, косится неодобрительно вниз. На мой стакан, значит! Да я совсем немного сивухи пью. Вот из этого одного и прихлёбываю весь вечер. В тёмных углах, под кровлями крыш и козырьками крылец слетаются мыши, потусторонним говором своим передают друг другу страшные вести. Темнеет поздно, но час этот наступает всегда незаметно. За птицами наблюдаешь всё, ан глядь: уж сумерки оформились, все предметы окрасились в лучший свой, вечерний, как бы предсмертный оттенок, душу свою показывают. На закате и на рассвете мир всегда видится таким, каким он задуман. Тьма обманчива, как и свет дневной.
— Ты согласен, Малафей? О рождении и смерти то же самое можно сказать? Только при рождении и на смертном одре человек настоящий. Нет? Притянуто за уши? Малафей, не молчи!
Когда серовато-розовая тьма оборачивается синевой, а дорожные камни отдыхают от ходьбы и езды людской, город объезжает на своей телеге Фонарщик, под каждым подвесным фонарём тормозит и от большого факела зажигает фитиль. Близ моего крыльца тоже висит фонарь. Фонарщик всегда останавливается тут в одно и то же время, и я уж заранее знаю, что скажет этот старик в сером капюшоне:
— Всё сидишь, Фёкл Крагин?
— Всё сижу, господин Фонарщик, — ответствую.
Таков наш ежевечерний разговор. Тьма сгущается постепенно, а потом — раз — и за дрожащим куполом фонарного света не различить ни зги. Ну и мошкары слетается на огонь! Только и вспышек и треску: то мотыль влетит в пламя, то целая стрекоза, заполыхает налету, да и погаснет во мгновение ока! И канет падучей звездой.
— Прямо, как мы, Малафей! Прямо, как мы!
Теперь последний объезд городовых: всё ли спокойно в городе? Всё ли, как надо? Смотрят, где Сеть прохудилась, где прорвалась, быть может. Прутья покорёженные рихтуют, сломанные сызнова сплетают. Чтобы век охраняла Сеть наш город. В древности тёмной её натянули, никто уж и не вспомнит, когда. И, вестимо, прорехи в ней образуются от времени, от непогоды. Чинят всегда вечером, чтоб движению не мешать. А как прогремят каталки городовых, как скроются шлемы за границу света фонарного, так и отбой. Ровно, как и утром, бьёт кузнец у себя на кузнице трижды кувалдой по рельсе. Весь город поставлен в известность: пора спать. Тем пора спать, кто сердцем благороден, душою смел, главою здрав. Я же сердцем гнусен, душой труслив, главою скорбен. Тяжко мне в темноте. Остаюсь на крыльце. От сивухи всё плавится внутри, пульсирует в ритм симфонии цикад.
— В этот вечер, понимаешь, порвалась какая-то нить... Понимаешь? Когда рвётся нить, нужно движение, чтобы нить продолжилась. Выпьешь сивухи, сидишь — всё вокруг движется. А сивуха закончилась. В таком случае приходится двигаться самому, ничего не поделаешь.
Если на возвышенность взобраться, лихо на каталке вниз съезжаешь, с ветерком! Живёшь! Живё-ёшь! А чтоб в ушах свистало, грузишь тачку одноколесную камнями, да и держишь за оглобли, а на каталку — полуприсядом. И погнал! Осторожность, правда, никогда не повредит. На скорости любой бугорок дорожный с курса сбивает, не заметил — улетел к чёрту на рога. А тормозить — это вообще наука отдельная. Не умеешь тормозить — даже на каталку не садись, пешком ползай. Что уж про тачку, каменьями груженную, говорить-то!
— Я ведь вообще человек зажатый, как болт в гайку вкрученный. Всего лишенный. Ну что мне, нельзя, как всем людям? Воевать мне нельзя, так и скорбеть об этом нельзя? Так? Так?
Лечу-у-у-у-у! Вниз, грохоча, подскакивая, каменья из тачки теряя! Из одного круга фонарного в другой сквозь промежуток сырой тьмы! Ух ты-ы-ы!
— А-а-а-ах! — слышу, глаза продираю, за голову болезную хватаюсь. — Ты-ы-ы! Злыдень! Убивец!
Надо мной в дрожащей полутьме прыгает и машет руками Гарманталай Шмакин.
— Уффф, — привстаю, очухиваюсь. Осматриваюсь.
Всё как будто выключилось и включилось, так в пламени на ветру бывает перебой. Что-то большое, тёплое и твёрдое, но не могу понять, когда это было. Давно или сейчас.
Аршинах в десяти валяется моя каталка, тачка вверх ногами, покорёженная, камни россыпью повсюду, колесо у тачки в холостую вертится ещё, скрипит. Посерёд дороги стоит человек на одной ноге, вторую чуть поджал и дрыгает ею. Стоит человек в полный рост, шея и голова его высунуты в открытое окно в Сети. Таких окон в городе всего три, ключи находятся только у Градоначальника, и смотреть из окон строжайше запрещено. Человек стоит, я врезался в него. Человек этот — Малафей Мелентьев.
— А-а-а-ай! Что же! Что же!.. — лепечу бессвязно, подползая к нему. Нога его дёргалась, Сеть лежала на плечах его, головой он вынырнул в Окно, руки в каком-то заторможенном исступлении пытались подняться к шее, но как будто какая-то сила не давала ему это сделать.
— Что ж стоишь, гад?! Помогай! — ревёт на меня Гарманталай Шмакин страшным голосом, и я, себя не чуя, следую за ним и повторяю, что делает он. — Ах, пакостник, убил, убил-таки! — не унимается Шмакин, и я только всхлипываю и причитаю, мои ушибленные и ободранные локти и колени печёт, как в детстве, но я этой боли рад, как будто она оправдывает какую-то страшную мою вину, новую вину.
— В Окно? Вы смотрели в Окно?.. Открыли Окно?.. — зачем-то глупо выпытывал я у Шмакина.
— Хватай, подсобляй, подлая твоя душонка! — орёт на меня Шмакин, с наслаждением, с упоением орёт, оживленно хватает Малафея под мышки, тащит, заставляет меня тоже тащить, я слушаюсь, изо всех сил тащу, но оказывается, что тащу не в ту сторону и только мешаю, и сам не понимаю, что делаю. На скорбную голову мою обрушиваются новые ругательства, тело его, обессиленное, тяжелое, наваливается на меня, я чувствую его уходящее, мучающееся уходом тепло, над самым ухом моим стоит его долгий неуёмный стон. Что-то ещё Шмакин мне приказывает, куда-то отпрядываю, что-то поспешно нашариваю в темноте, снова взяли, подналегли, я уже в курсе дела, и споро и резво уж у нас выходит, и вдруг он всем весом на нас наваливается, до этого как будто невесом был, а тут как с большой высоты на горбы наши свалился, повело нас туда, потом сюда, снова туда, один споткнулся, второй, ноги его как бы парят над землей... Тёплым, тёплым густым заливает меня. Кладём, наземь кладём. Шмакин что-то еще произносит, к чему-то меня еще принуждает, но по мере того, как в едва различимом свете бледнеет Малафей Мелентьев, я понимаю, как я свободен! Как я свободен!
— Тряпку! Тряпку! — рявкает Гарманталай и сам себе подаёт тряпку, и затыкает фонтан крови, брызжущий из Малафеевой шеи, куда вонзился один из прутьев Сети, на который Малафей напоролся, когда неожиданно в темноте в него врезался я.
Шмакин ещё что-то горлопанит мне, понукает, ругает, но я уже слабо слушаю, и просто сижу на корточках рядом с корчащимся, силящимся сделать вдох Малафеем. Шмакин хватает меня за плечи, трясёт, ударяет даже по щеке, что-то кричит в самое моё лицо, но я даже не слышу и не реагирую, потому что понимаю, что в этой жизни остаёмся только я и Малафей Мелентьев, и были только я и он всегда, с того самого застолья, когда рыжий плут слопал моих петушков.
— ... за городовым! Ух, каналья! — доносится до меня, Гарманталай Шмакин скрывается в темноте.
— Прости, прости, прости, прости, — только и лепечу я неосознанно и ползаю перед ним, как ящерица, будто что-то ища. Как будто если найду, всё исправится.
Он только тихо хрипит и водит головой из стороны в сторону. Тряпка пропиталась кровью и стала похожа на кусок сырого мяса. Я прикоснулся к шее его, и что-то там внутри клокотнуло, выстрелило, по-лягушачьи квакнуло в нём, и мышца на бледном его лице, на скуле, птицей беспомощной забилась.
— О-о-о-о... — только раздалось где-то в нём, в нутре его.
— Сейчас, сейчас, сейчас, — повторял я, точно знал, что нужно сделать. Точно было нечто, что можно сделать, чтобы ему помочь.
Вдруг он схватил меня пятерней за голову, как щенка, и с неожиданной силой притянул к себе.
— З-з-за А.. А... А-астрид?... — четырьмя выдохами одолел он слова. — Или... Или.. З-за п... п... пе-е-е-туш-ков?..
Я оцепенел и уставился на этого бледного, дрожащего человека. За Астрид? За петушков?
Фёклом Крагиным мне быть никогда не нравилось, но я ничего не мог с этим поделать. Я мог быть только им. Малафей Мелентьев не мог не съесть моих петушков.
Он сжал мою голову, все жилы напружились на лице его, на шее, а из-под тряпки хлобыснула кровь с новым напором. Глаза его чуть не выкатывались из глазниц и побелели.
— С-с-с-с... С-с-с... — тянул он. — Ся-я-я-я-дешь... — прошипел и замолк уже навсегда. Его рука упала с головы моей на камни, глаза закатились.
Конечно, сяду. В этом не может быть никакого сомнения. Напротив, наша система правосудия устроена так, что удивителен скорее человек, ни разу за решёткой не побывавший. Хоть ненадолго, но сядет каждый. За моё же преступление, думаю, мне светит, по меньшей мере, побиение камнями, а далее, если выдержу, пожизненное подземное заключение. Никто и никогда мне не поверит, что Малафея Мелентьева я убил случайно. Он сам испустил дух, будучи уверен, что это месть. Ведь такая штука, как прощение, никем никогда не воспринимается всерьёз. А я и сам никогда не верил, что простил его. Пока не убил.
— Нет! — кричу в мёртвое лицо его. — Никогда мы друг друга не простим! Никогда, слышишь? Никогда не простим. Это — война…
Положение моё уже ничто не усугубит, поэтому я решаюсь на новое преступление. Я закрываю веки Малафею Мелентьеву, целую его в ещё тёплый лоб, встаю и высовываю голову в Окно. В тяжелом ржавом замке торчит такой же ржавый ключ. По ночам он ходил смотреть в Окно, видимо, получив тайком от Градоначальника это право за очередные какие-то свои заслуги. Человек привилегий и изысканных наслаждений, ярый поборник Сети, лелеющий ключ от Окна в потайном карманчике. А мне лишь остаётся насытиться крошками с его стола.
Никто не может смотреть в Окно. Никто не может возвысить голову над городом. Наши пращуры многие тысячи лет назад возвели его на славу вековечную. Камни, само собой, поистончились, подтаяли на огне времени. Но город целёхонек. Надёжно и добротно воздвигли его наши предки, только были они ниже ростом на две-три головы. И не знали, что мы, потомки, так вымахаем. Дома нам малы, в домах пригибаемся. А на улице — Сеть. Ежели всяк станет над Сетью возвышаться, что ж это будет? Город гордый, город древний, город великий, кровь, кость и дух прапрапрадедов наших — и тебе, олуху, до пупа? Я с этим первый согласен. Но я — уже больше не я.
Я выныриваю головой из Окна, вытягиваюсь, хрущу костями, вдыхаю ночной воздух. Купол небесный, не перечёркнутый прутьями Сети. Живые стаи звёзд. Зигзаги остроконечных крыш доходят мне до плеч. В чёрных облаках дремлют древние холмы. Жизнь и смерть, рука об руку, в каждом миге. Каждый шаг в сторону жизни ведёт в объятия смерти. И в этом мудрость.
Как черви в каменном яблоке, ползаем мы по своим улочкам, где, если кладут камень на камень, то на века. Но нерушимо оно лишь в мелочах. А развалится — так полностью и навсегда. И город у твоих ног, крошечный, как фигурки в музыкальной шкатулке.
Уже слышно, как идут за мной, гремят кандалами, тянут по бугристой мостовой тяжёлые вериги, точат шипы для строгого ошейника, отбирают самые садкие камни. Уже доносится до меня вечный гул подземелья, немолчный, непобедимый гул. Вот и мой черед настал быть им званным. Но прежде, чем буду осуждён и заключён, успею хлебнуть, хлебнуть простора из растворённого Окна. А после навсегда вернусь под Сеть, да спрячут меня под землю, на которой Малафея Мелентьева мне уже не встретить.



