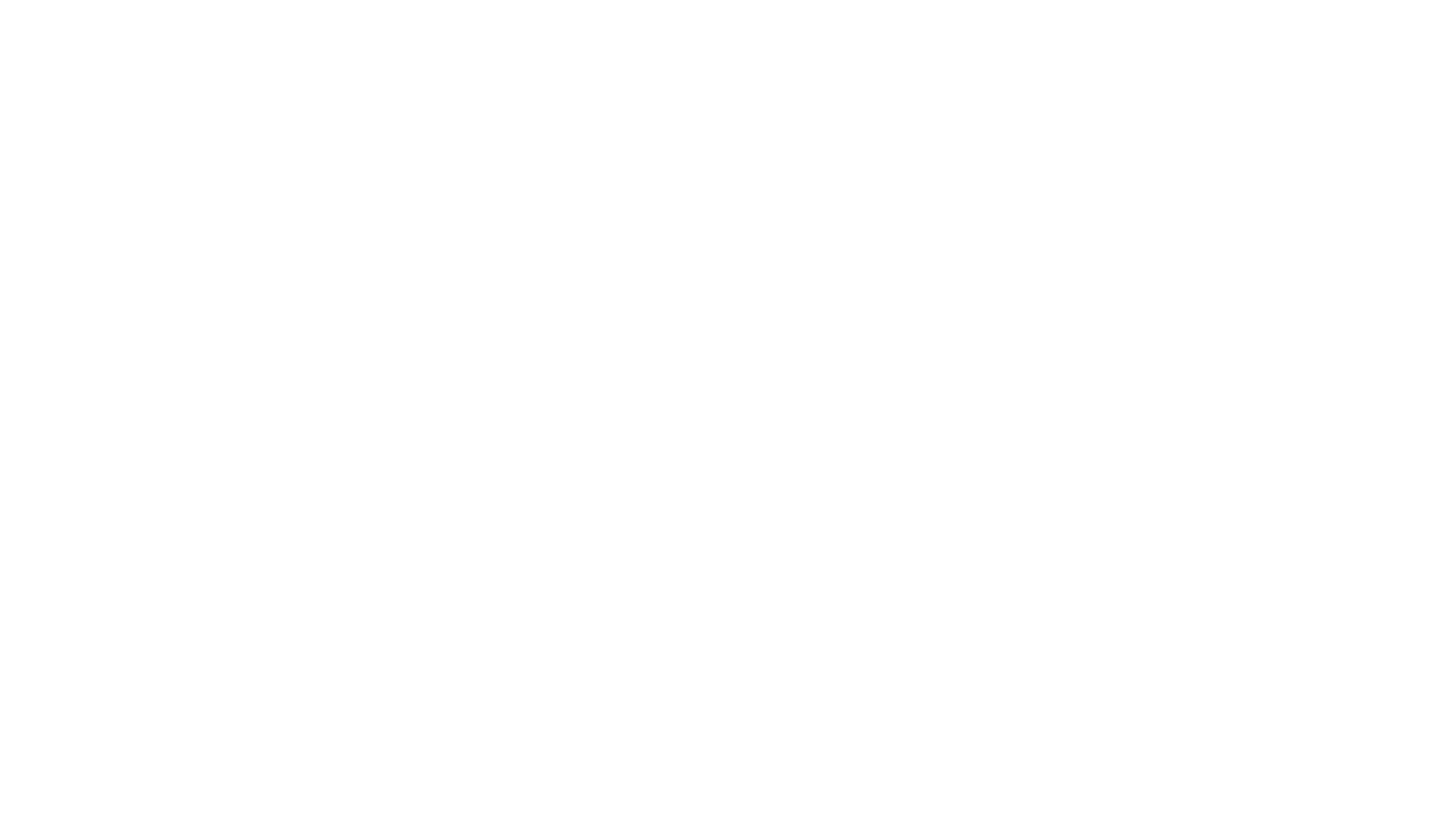
Ирина Бугрышева — Что не знал о Поэтах Владимир Даль
Все события, естественно, вымышлены.
Все имена изменены.
С благодарностью Волошинскому фестивалю,
Красноярск, сентябрь 2025 года
Прозаики еще ничего.
Поэты – шибанутые напрочь. Как есть. Ну, в смысле отлетевшие. Это я так думаю. Даль думал, что Поэт – это человек, одаренный от природы способностью чувствовать, сознавать поэзию, передавать ее словами и творить изящное. Нюансы Далю в голову не приходили.
Зато нюансы приходили в голову Евтушенко. «Поэт в России - больше, чем Поэт», - сказал Евтушенко. А я бы еще добавила, - и в разы больше, чем Прозаик.
Прозаик не может безнаказанно встать на пешеходном переходе и начать цитировать третий том своей прозы где-то с середины. Поэт может все.
Поэт в новейшей истории – ну чтоб вам было понятно – не обязан ничего рифмовать.
Рифма – это раньше. Елки-метелки, палки-копалки, голый – веселый. Сейчас можно писать свободные стихи. Без рифм. Верлибры. Как бы проза, но стихи.
Стихи при этом не перестанут быть стихами, а Поэт не перестанет быть Поэтом. Просто последующим поколениям будет сложнее, когда вдруг эти эксперименты станут классикой. Дети в школах замучаются и немного проклянут Поэта. Но это уже ерунда! Мы же с Горьким как-то справились, когда дошло до «глупый пингвин гордо прячет тело жирное в утесах». Так что и новые поколения как-нибудь приноровятся.
…У Довлатова, помню, было - Найман и Губин заспорили, кто из них менее нормальный: «До чего же ты стал нормальный!» Поэты этот негласный спор ведут всю дорогу.
Поэтам все можно. Сочетать зеленое, фиолетовое и васильковое. С нотками охры и панически-черного. Подвести глаза и губы одним карандашом. Впрочем, можно и ручкой.
Шелк, бархат, органза, стразы, национальная вышивка, аппликация на ткани, накинутый на плечи пододеяльник, резиновые шлепки – все это может быть деловым костюмом Поэта, никаких вопросов.
Если Поэт снял резиновые сапоги, не надо думать, что Поэт решил выйти на сцену в туфлях. Помилуй вас Бог так думать!
Поэт снял сапоги, чтоб спрятать в правом бутылку коньяка. Ну не в руках же держать на виду у всех. А в левом – плохая примета.
А на сцену… На сцену можно выйти и босиком! В смысле, в носках. Чтоб потом прихлебывать коньяк из сапога – все равно никто ничего не заметит.
…Я видела задумчивого Поэта около автобуса в Сибири в восемь утра. Автобус стоял у гостиницы, если это важно. В Сибири в восемь утра был сентябрь и градусник с натягом показывал около восьми же градусов жары.
Я сначала увидела голые ступни Поэта. Потом автобус. Потом других Поэтов.
Поэт видел только Божественный свет. Он мог бы еще увидеть Енисей, но автобус этот вид перекрывал.
…Поэт может, глядя вам в глаза, предложить почитать стихи. Даже если вы тоже немного Поэт, и в этот момент в литературной мастерской идет разбор ваших поэтических творений. Это, право, такая ерунда. Выеденного яйца не стоит.
Просто надо просто помнить всегда, что рядом с Поэтом хорошо отрабатывать кармические задачи. Например, заповедь «Не осуди». При этом хорошо бы еще осознавать силу и величие Поэта перед Жизнью. Я, к примеру, вообще не понимаю, как Поэты управляются с жизнью. С флюорографией, глистами у кота, оплатой коммуналки. Да, особенно с коммуналкой.
Счетчики. Я не могу вообразить Поэта и счетчик ночного расхода электроэнергии в одной плоскости. А Поэты, однако, справляются. И только за одно это их стоит любить.
…А вот еще. Один Поэт был переводчик. И переводил примерно с любого языка на любой. Например, с древнегреческого на венгерский. Я радовалась за венгров. Жалела только, что не могу по достоинству оценить перевод. Все звучно, ничего не понятно. Но зато другой Поэт-переводчик был немного бразилец и потому осознанно переводил поэзию исключительно с русского на португальский. И обратно.
Этот Поэт так читал Максимилиана Волошина на португальском, что мне тут же захотелось назвать сына Максом.
Все шло нормально, пока я не вспомнила, что зарекалась кого-то еще рожать. Они вырастают, эти сладкие младенчики, и превращаются в басящих дядек, пахнущих потом, пивом и пылью дорог. И по этому дядьке окружающие легко смогут догадаться, что тебе уж не осьмнадцать.
…Хорошо быть Поэтом. У тебя всегда есть индульгенция быть собой. Собой тех времен, когда ты лежал на мраморном полу в Мавзолее и требовал, чтоб Ленин встал и ушел.
Ленин тогда не встал. Ушел ты. Точнее, мама вынесла тебя из Мавзолея на руках – дрыгающего ногами, задыхающегося от обиды и несправедливости мира. Мама тогда вытерла тебе слезы и купила мороженое.
С тех пор ничего не изменилось. Ленин так и лежит в костюме GUCCI.
У тебя никогда не было GUCCI, но ты по-прежнему требуешь от мира быть таким, каким ты его видишь.
Правда, мороженое испортилось. И мама постарела. Зато мир плотно стоит на трех китах. И ты смотришь с издевкой на тех приматов, что рифмуют «любовь» и «кровь». И рифмуешь только то, что тебе диктует Господь. Ну, или Енисей. Благо, ширина Енисея в пять километров позволяет ему диктовать рифмы и нерифмы. Ну или даже в три.
…Вот еще, вспомнилось. Я видела очень тонкого Поэта. Если б такому Поэту заклинило спину, я б не рискнула к нему приближаться. Не дай Бог, переломится. Веточка, тростиночка, стебелек. Если соединить большие и указательные пальцы рук – примерно таков был Поэт в охвате - в районе талии. Про секс с этим Поэтом даже думать опасно. Тут хороша для проработки заповедь «Не прелюбу сотвори». А когда так - значит, и к стихам не стоит приближаться. Все равно ничем хорошим не закончится.
Поэт рождал у меня в сердце жалость и любовь. Тем более на талии Поэта вольготно разместился пояс. Широкий такой. Пояс уходил вверх и вниз, подчеркивая, что у Поэта нет никаких изъянов, изгибов, излишков. Все было ровно и четко. Как у Маяковского, когда в зале сидит Есенин. Тревожно, короче.
Потом я увидела этого Поэта в сети. Поэт выложил свое лучшее селфи и приписал политическую декларацию: «Была самой красивой на Дементьевском фестивале. Теперь самая красивая на Волошинском».
Я выдохнула. Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. И в себя тоже.
…Красиво прошел по литературе Поэт по имени Ёж. Ёж вспорол брюхо книги стихов своей жены в районе скрепок. (Жена Поэта Ежа тоже Поэт. Но еще и Прозаик – для устойчивости).
Ёж вставил в книгу новые страницы. Страницы не совпали по размеру с книгой стихов жены, но кому это важно. Ёж взял красную ручку и зачеркнул часть стихов жены в книге. И на обновленных страницах красной же ручкой написал опровержение и правильные стихи. Ёж ссылался стрелками на страницу 14 и на страницу 27. Вставлял стихотворные цитаты и делал сноски.
Когда работа была закончена, Ёж опустошил свои карманы, вывернув их на ближайшую горизонталь. Я посмотрела на потроха карманов, вздрогнула. Там был раритетный кохинор длиной 2 см, гайки, болты, огрызки цивилизации, камни с души и пропуск в рай. Ну или членский билет Союза писателей.
Кроме последнего, все остальное я видела в карманах моего сына в возрасте трех лет. В сына я верила всегда, даже когда специалисты сомневались, назначая ему очередную комиссию и жонглируя очередными диагнозами.
По итогам супервизии Поэт Ёж достал откуда-то из-за пазухи ручку, деловито заправил ее под суперобложку ближайшей книги.
Суперобложка сочно треснула.
Стало ясно: с тайным ритуалом покончено.
Откуда-то из архивов памяти всплыло: «Ель на ежика похожа. Еж в иголках, елка тоже».
«Все города похожи друг на друга как две капли воды, - в такт мне выдохнул Поэт, что стоял рядом с Ежом. - Различаются только елки. Я в каждом городе хожу обниматься с елками, только это и дает силы. И понимание города». Я кивнула.
Я подумала про жену Ежа. Ее спасало то, что она была не только Поэтом (она писала прозу в столбик, это и называлось стихами), но и основательным Прозаиком. Причем, как прозаика Жену Ежа благословил Солженицын. И над прозаическим «Сусликом» я плакала сильнее, чем над поэтическим «Вергилием-Ежом». Солженицыну и Жене Поэта Ежа я доверяла как-то больше, чем старику Державину и Пушкину. Наверное, пересечение на оси координат по времени сыграло свою роль.
Впрочем, у меня еще остались некоторые вопросы к Поэтам, которые одновременно Прозаики. Или наоборот. К Прозаикам, в которых вдруг проклюнулся Поэт. Но это - вопрос времени и моей зрелости. В моменте я смотрела на Прозаиков и думала: они же были почти нормальные. А тут такое.
В общем, я пока не разобралась. Но исправно благодарю Бога, что Он меня милует и не диктует рифм. И не вкладывает поэтических амбиций в мою истерзанную прозой душу.
Все шло гладко, пока не случилось непредвиденное. Среди поздравлений с днем рождения я прочла: «Ира. Благодарю вас за стихи. Они ложатся прямо в душу».
Ноги подогнулись, я осела на землю. Ё!
Написала сурово: «Спасибо. Вам тоже счастья. Я не пишу стихов».
Литературный критик по ту сторону интернетов не думал сдаваться. Настаивал: «Ваша проза – очень поэтична. В ней ритм и мелодика. Прочтите сами свой текст «В моей стране идет война». Когда в новом абзаце эта мысль заходит на рефрен, сами видите, что происходит. Происходит Поэзия.
Я захотела закурить. Вспомнила, что не курю. Шелков, органзы и резиновых сапог подходящего размера не было. И тут как раз подошел Поэт Елисей.
Поэт Елисей был родом с Енисея. Его звали Алексей. Но имя Елисей однозначно шло ему больше. Как бы создавая отсылку и к Енисею – нужно подправить всего одну букву, и к прекрасному царевичу.
Елисей начал издалека:
- Посмотрите на меня со спины.
Спина у Елисея была отличная. Такая… Лет тридцати восьми – сорока.
Я теперь все спины Поэтов сравнивала со спиной Самого Красивого Поэта. И эта спина была прям безопасная. Было видно – трастанешь – не сломается.
Спина была закована в латы черной кожанки. Не придраться.
- Видите следы когтей собаки?
Я пригляделась. Пожалуй, вижу.
- Ко мне подошла большая собака, - интимно начал Поэт Елисей. - Поставила лапы на спину. Схватила сумку с плеча и убежала.
Я покачала головой. Страшно, конечно. Хотя градус ужаса сильно зависит от того, что было в сумке - гамбургеры или ноутбук с последним романом в стихах, не скинутым на флешку.
- Вот и все, - безнадежно выдохнул Поэт Елисей. - Собака была настолько большая, что я не рискнул за ней бежать. Так я остался без сумки, - подытожил Елисей. - И с курткой теперь беда. Понимаете? Со мной навсегда та история и следы когтей той собаки.
Я кивала. То ли сочувственно, то ли восхищаясь отвагой Елисея.
Елисей уже прожил эту драму внутри себя настолько, что был готов без слез делиться ею с окружением.
Елисей почувствовал мою поддержку. Продолжил:
- Отсюда, из Красноярска, поеду в тайгу. Как раз за женой. Надумал жениться. Воздерживался. Молился. Познакомился со старообрядцами. Почувствовал духовное родство. Приметил жену. Она, конечно, старая уже по их меркам. Двадцать девять. Но зато отец невесты меня полюбил. И готов дочь за меня отдать. Но тут обстоятельства непреодолимой силы. Не знаю, что делать. Агафья звонит отцу невесты из тайги день и ночь. И запрещает ему выдавать дочь за меня.
Я вздрогнула. Мне было лет восемь, я читала в «Комсомолке» про Агафью Лыкову. Она была без связи в своей тайге. Увидела вертолет, долго молилась и не верила себе, когда оттуда вышли люди. Думала – с неба свалились. Выглядела так, будто ей лет сто. Зубов у нее не было тогда.
Наверное, Агафье сейчас уже сто сорок – ну, если по существу. И у нее теперь есть связь. И пока во всей стране глушится интернет, пока на Красноярск обрушиваются атаки дронов, Агафья знай, сквозь тайгу, непогоды и обеты не связываться с цивилизацией, названивает: «Прочь руки от старообрядческой дочери, Поэт Елисей!»
Поэт Елисей говорил, что он против школ и налогов. Я смотрела на Поэта, внимательно слушая его политическую программу – он был не в лаптях. Рыжая борода аккуратно пострижена. Вместо плетеной корзины у Поэта на плече висела сумка. Новую купил, видимо, вместо украденной собакой.
Тяжело в таком виде заявляться в тайгу, - думала я. Как он там будет, Елисей, среди старообрядцев? Или как будет в миру после тайги его пожилая двадцатидевятилетняя жена?
Я заглянула в интернет – жива ль Агафья? Или это ее призрак никак не может угомониться и дерзает волновать Поэта Елисея?
Агафья в интернете улыбалась беззубым ртом. А может, и не улыбалась. Может, это было ее обычное лицо. Не разберешь.
Чтоб не думать долго о Елисее и его невесте – пусть срифмуют сами как-нибудь свою жизнь, авось, не дети! - я пошла в Краеведческий музей. Подошла к охраннику – и, не желая бессмысленно бродить по неолитам, палеолитам, юртам хакасов, норам куниц, берлогам медведей, гнездовьям уток, сказала напрямик: «Нужен зуб мамонта».
Охранник будто этого и ждал. Махнул рукой как Гагарин – в направлении зала с оленями и косулями. Сказал пароль: «Передайте НинБорисовне, чтоб показала. Камеру я отключил». Похоже, принял меня за Поэта, что прославит Красноярск.
НинБорисовна поупрямилась, мол, нет таких компетенций, показывать зуб мамонта всяк входящему. (В связи с ремонтом в соседнем зале мамонт зябко ежился, закутанный в полиэтилен). Потом НинБорисовна обмякла, смилостивилась, открыла пластмассовый контейнер из Фикспрайса, ткнула пальцем в зуб: «Тяжелый. Наверное, килограмма два. Он выпал, конечно. Но ничего. У мамонта еще вырастет. У него всего четыре зуба, у мамонта. Два сверху. Два снизу. И когда зубы стачиваются, тут же вырастают новые».
Я с сомнением посмотрела на абрис мамонта в полиэтилене.
НинБорисовна продолжила: «По шесть смен зубов у мамонтов бывает за жизнь. Ну или по пять. Смотря, сколько проживешь».
Отчего-то в этот момент, именно в этот момент, я поняла, что отчаянно счастлива.
Отчаянно счастлива – и за себя, и за мамонта, и за Агафью – вдруг у нее там, в тайге, тоже вырастут зубы – как у мамонта. Просто потому, что прежние стерлись.
Когда я двинулась в сторону выхода, охранник мне подмигнул – ну, как?
Я многозначительно кивнула.
Вышла на набережную Енисея. Енисей нес свои холодные, тяжелые, вечные воды куда-то вперед, к Северному Ледовитому океану. А где-то там, позади, был богатырь Байкал, породивший триста тридцать шесть сыновей и всего одну дочь, красавицу Ангару. Ангару, что так любила Енисей, что слилась с ним воедино. И сейчас ни Ангаре, ни Енисею нет никакого дела до отвергнутого Ангарой Иркута.
Из этого всего мог бы получиться отличный стих, - подумала я.
Шла – и чуть жалела, что я не Поэт.
Зуб мамонта остался в музее.
И от грусти спасал только вечерний самолет. И то, что я оставляла здесь, на берегах Енисея, прекрасных и достойных этих мест Поэтов.
Я катала на губах сибирские строки:
«Сибирь рябиной на языке катается – не раскуси!
Желание загадай, в реку выплюни – так принято на Руси!»
Я смаковала на языке горькую рябиновую Сибирь и утешала себя – зато Прозаики – не такие шибанутые. Не такие отлетевшие. И вообще.
В аэропорту я посмотрела на себя в зеркало как-то по-новому. Будто стала иной. Будто напилась из Енисея силы. И взяла от Сибири крепости. И проза моя будто теперь станет иной. Будто сам Виктор Петрович дал мне веру в себя. Будто одобрил и сказал: «Пиши, девочка. Пиши».
В самолете я читала «Звездопад» Астафьева и понимала, что продолжение следует.
И слава Богу, что я не Поэт.
Поэты – шибанутые напрочь. Как есть. Ну, в смысле отлетевшие. Это я так думаю. Даль думал, что Поэт – это человек, одаренный от природы способностью чувствовать, сознавать поэзию, передавать ее словами и творить изящное. Нюансы Далю в голову не приходили.
Зато нюансы приходили в голову Евтушенко. «Поэт в России - больше, чем Поэт», - сказал Евтушенко. А я бы еще добавила, - и в разы больше, чем Прозаик.
Прозаик не может безнаказанно встать на пешеходном переходе и начать цитировать третий том своей прозы где-то с середины. Поэт может все.
Поэт в новейшей истории – ну чтоб вам было понятно – не обязан ничего рифмовать.
Рифма – это раньше. Елки-метелки, палки-копалки, голый – веселый. Сейчас можно писать свободные стихи. Без рифм. Верлибры. Как бы проза, но стихи.
Стихи при этом не перестанут быть стихами, а Поэт не перестанет быть Поэтом. Просто последующим поколениям будет сложнее, когда вдруг эти эксперименты станут классикой. Дети в школах замучаются и немного проклянут Поэта. Но это уже ерунда! Мы же с Горьким как-то справились, когда дошло до «глупый пингвин гордо прячет тело жирное в утесах». Так что и новые поколения как-нибудь приноровятся.
…У Довлатова, помню, было - Найман и Губин заспорили, кто из них менее нормальный: «До чего же ты стал нормальный!» Поэты этот негласный спор ведут всю дорогу.
Поэтам все можно. Сочетать зеленое, фиолетовое и васильковое. С нотками охры и панически-черного. Подвести глаза и губы одним карандашом. Впрочем, можно и ручкой.
Шелк, бархат, органза, стразы, национальная вышивка, аппликация на ткани, накинутый на плечи пододеяльник, резиновые шлепки – все это может быть деловым костюмом Поэта, никаких вопросов.
Если Поэт снял резиновые сапоги, не надо думать, что Поэт решил выйти на сцену в туфлях. Помилуй вас Бог так думать!
Поэт снял сапоги, чтоб спрятать в правом бутылку коньяка. Ну не в руках же держать на виду у всех. А в левом – плохая примета.
А на сцену… На сцену можно выйти и босиком! В смысле, в носках. Чтоб потом прихлебывать коньяк из сапога – все равно никто ничего не заметит.
…Я видела задумчивого Поэта около автобуса в Сибири в восемь утра. Автобус стоял у гостиницы, если это важно. В Сибири в восемь утра был сентябрь и градусник с натягом показывал около восьми же градусов жары.
Я сначала увидела голые ступни Поэта. Потом автобус. Потом других Поэтов.
Поэт видел только Божественный свет. Он мог бы еще увидеть Енисей, но автобус этот вид перекрывал.
…Поэт может, глядя вам в глаза, предложить почитать стихи. Даже если вы тоже немного Поэт, и в этот момент в литературной мастерской идет разбор ваших поэтических творений. Это, право, такая ерунда. Выеденного яйца не стоит.
Просто надо просто помнить всегда, что рядом с Поэтом хорошо отрабатывать кармические задачи. Например, заповедь «Не осуди». При этом хорошо бы еще осознавать силу и величие Поэта перед Жизнью. Я, к примеру, вообще не понимаю, как Поэты управляются с жизнью. С флюорографией, глистами у кота, оплатой коммуналки. Да, особенно с коммуналкой.
Счетчики. Я не могу вообразить Поэта и счетчик ночного расхода электроэнергии в одной плоскости. А Поэты, однако, справляются. И только за одно это их стоит любить.
…А вот еще. Один Поэт был переводчик. И переводил примерно с любого языка на любой. Например, с древнегреческого на венгерский. Я радовалась за венгров. Жалела только, что не могу по достоинству оценить перевод. Все звучно, ничего не понятно. Но зато другой Поэт-переводчик был немного бразилец и потому осознанно переводил поэзию исключительно с русского на португальский. И обратно.
Этот Поэт так читал Максимилиана Волошина на португальском, что мне тут же захотелось назвать сына Максом.
Все шло нормально, пока я не вспомнила, что зарекалась кого-то еще рожать. Они вырастают, эти сладкие младенчики, и превращаются в басящих дядек, пахнущих потом, пивом и пылью дорог. И по этому дядьке окружающие легко смогут догадаться, что тебе уж не осьмнадцать.
…Хорошо быть Поэтом. У тебя всегда есть индульгенция быть собой. Собой тех времен, когда ты лежал на мраморном полу в Мавзолее и требовал, чтоб Ленин встал и ушел.
Ленин тогда не встал. Ушел ты. Точнее, мама вынесла тебя из Мавзолея на руках – дрыгающего ногами, задыхающегося от обиды и несправедливости мира. Мама тогда вытерла тебе слезы и купила мороженое.
С тех пор ничего не изменилось. Ленин так и лежит в костюме GUCCI.
У тебя никогда не было GUCCI, но ты по-прежнему требуешь от мира быть таким, каким ты его видишь.
Правда, мороженое испортилось. И мама постарела. Зато мир плотно стоит на трех китах. И ты смотришь с издевкой на тех приматов, что рифмуют «любовь» и «кровь». И рифмуешь только то, что тебе диктует Господь. Ну, или Енисей. Благо, ширина Енисея в пять километров позволяет ему диктовать рифмы и нерифмы. Ну или даже в три.
…Вот еще, вспомнилось. Я видела очень тонкого Поэта. Если б такому Поэту заклинило спину, я б не рискнула к нему приближаться. Не дай Бог, переломится. Веточка, тростиночка, стебелек. Если соединить большие и указательные пальцы рук – примерно таков был Поэт в охвате - в районе талии. Про секс с этим Поэтом даже думать опасно. Тут хороша для проработки заповедь «Не прелюбу сотвори». А когда так - значит, и к стихам не стоит приближаться. Все равно ничем хорошим не закончится.
Поэт рождал у меня в сердце жалость и любовь. Тем более на талии Поэта вольготно разместился пояс. Широкий такой. Пояс уходил вверх и вниз, подчеркивая, что у Поэта нет никаких изъянов, изгибов, излишков. Все было ровно и четко. Как у Маяковского, когда в зале сидит Есенин. Тревожно, короче.
Потом я увидела этого Поэта в сети. Поэт выложил свое лучшее селфи и приписал политическую декларацию: «Была самой красивой на Дементьевском фестивале. Теперь самая красивая на Волошинском».
Я выдохнула. Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. И в себя тоже.
…Красиво прошел по литературе Поэт по имени Ёж. Ёж вспорол брюхо книги стихов своей жены в районе скрепок. (Жена Поэта Ежа тоже Поэт. Но еще и Прозаик – для устойчивости).
Ёж вставил в книгу новые страницы. Страницы не совпали по размеру с книгой стихов жены, но кому это важно. Ёж взял красную ручку и зачеркнул часть стихов жены в книге. И на обновленных страницах красной же ручкой написал опровержение и правильные стихи. Ёж ссылался стрелками на страницу 14 и на страницу 27. Вставлял стихотворные цитаты и делал сноски.
Когда работа была закончена, Ёж опустошил свои карманы, вывернув их на ближайшую горизонталь. Я посмотрела на потроха карманов, вздрогнула. Там был раритетный кохинор длиной 2 см, гайки, болты, огрызки цивилизации, камни с души и пропуск в рай. Ну или членский билет Союза писателей.
Кроме последнего, все остальное я видела в карманах моего сына в возрасте трех лет. В сына я верила всегда, даже когда специалисты сомневались, назначая ему очередную комиссию и жонглируя очередными диагнозами.
По итогам супервизии Поэт Ёж достал откуда-то из-за пазухи ручку, деловито заправил ее под суперобложку ближайшей книги.
Суперобложка сочно треснула.
Стало ясно: с тайным ритуалом покончено.
Откуда-то из архивов памяти всплыло: «Ель на ежика похожа. Еж в иголках, елка тоже».
«Все города похожи друг на друга как две капли воды, - в такт мне выдохнул Поэт, что стоял рядом с Ежом. - Различаются только елки. Я в каждом городе хожу обниматься с елками, только это и дает силы. И понимание города». Я кивнула.
Я подумала про жену Ежа. Ее спасало то, что она была не только Поэтом (она писала прозу в столбик, это и называлось стихами), но и основательным Прозаиком. Причем, как прозаика Жену Ежа благословил Солженицын. И над прозаическим «Сусликом» я плакала сильнее, чем над поэтическим «Вергилием-Ежом». Солженицыну и Жене Поэта Ежа я доверяла как-то больше, чем старику Державину и Пушкину. Наверное, пересечение на оси координат по времени сыграло свою роль.
Впрочем, у меня еще остались некоторые вопросы к Поэтам, которые одновременно Прозаики. Или наоборот. К Прозаикам, в которых вдруг проклюнулся Поэт. Но это - вопрос времени и моей зрелости. В моменте я смотрела на Прозаиков и думала: они же были почти нормальные. А тут такое.
В общем, я пока не разобралась. Но исправно благодарю Бога, что Он меня милует и не диктует рифм. И не вкладывает поэтических амбиций в мою истерзанную прозой душу.
Все шло гладко, пока не случилось непредвиденное. Среди поздравлений с днем рождения я прочла: «Ира. Благодарю вас за стихи. Они ложатся прямо в душу».
Ноги подогнулись, я осела на землю. Ё!
Написала сурово: «Спасибо. Вам тоже счастья. Я не пишу стихов».
Литературный критик по ту сторону интернетов не думал сдаваться. Настаивал: «Ваша проза – очень поэтична. В ней ритм и мелодика. Прочтите сами свой текст «В моей стране идет война». Когда в новом абзаце эта мысль заходит на рефрен, сами видите, что происходит. Происходит Поэзия.
Я захотела закурить. Вспомнила, что не курю. Шелков, органзы и резиновых сапог подходящего размера не было. И тут как раз подошел Поэт Елисей.
Поэт Елисей был родом с Енисея. Его звали Алексей. Но имя Елисей однозначно шло ему больше. Как бы создавая отсылку и к Енисею – нужно подправить всего одну букву, и к прекрасному царевичу.
Елисей начал издалека:
- Посмотрите на меня со спины.
Спина у Елисея была отличная. Такая… Лет тридцати восьми – сорока.
Я теперь все спины Поэтов сравнивала со спиной Самого Красивого Поэта. И эта спина была прям безопасная. Было видно – трастанешь – не сломается.
Спина была закована в латы черной кожанки. Не придраться.
- Видите следы когтей собаки?
Я пригляделась. Пожалуй, вижу.
- Ко мне подошла большая собака, - интимно начал Поэт Елисей. - Поставила лапы на спину. Схватила сумку с плеча и убежала.
Я покачала головой. Страшно, конечно. Хотя градус ужаса сильно зависит от того, что было в сумке - гамбургеры или ноутбук с последним романом в стихах, не скинутым на флешку.
- Вот и все, - безнадежно выдохнул Поэт Елисей. - Собака была настолько большая, что я не рискнул за ней бежать. Так я остался без сумки, - подытожил Елисей. - И с курткой теперь беда. Понимаете? Со мной навсегда та история и следы когтей той собаки.
Я кивала. То ли сочувственно, то ли восхищаясь отвагой Елисея.
Елисей уже прожил эту драму внутри себя настолько, что был готов без слез делиться ею с окружением.
Елисей почувствовал мою поддержку. Продолжил:
- Отсюда, из Красноярска, поеду в тайгу. Как раз за женой. Надумал жениться. Воздерживался. Молился. Познакомился со старообрядцами. Почувствовал духовное родство. Приметил жену. Она, конечно, старая уже по их меркам. Двадцать девять. Но зато отец невесты меня полюбил. И готов дочь за меня отдать. Но тут обстоятельства непреодолимой силы. Не знаю, что делать. Агафья звонит отцу невесты из тайги день и ночь. И запрещает ему выдавать дочь за меня.
Я вздрогнула. Мне было лет восемь, я читала в «Комсомолке» про Агафью Лыкову. Она была без связи в своей тайге. Увидела вертолет, долго молилась и не верила себе, когда оттуда вышли люди. Думала – с неба свалились. Выглядела так, будто ей лет сто. Зубов у нее не было тогда.
Наверное, Агафье сейчас уже сто сорок – ну, если по существу. И у нее теперь есть связь. И пока во всей стране глушится интернет, пока на Красноярск обрушиваются атаки дронов, Агафья знай, сквозь тайгу, непогоды и обеты не связываться с цивилизацией, названивает: «Прочь руки от старообрядческой дочери, Поэт Елисей!»
Поэт Елисей говорил, что он против школ и налогов. Я смотрела на Поэта, внимательно слушая его политическую программу – он был не в лаптях. Рыжая борода аккуратно пострижена. Вместо плетеной корзины у Поэта на плече висела сумка. Новую купил, видимо, вместо украденной собакой.
Тяжело в таком виде заявляться в тайгу, - думала я. Как он там будет, Елисей, среди старообрядцев? Или как будет в миру после тайги его пожилая двадцатидевятилетняя жена?
Я заглянула в интернет – жива ль Агафья? Или это ее призрак никак не может угомониться и дерзает волновать Поэта Елисея?
Агафья в интернете улыбалась беззубым ртом. А может, и не улыбалась. Может, это было ее обычное лицо. Не разберешь.
Чтоб не думать долго о Елисее и его невесте – пусть срифмуют сами как-нибудь свою жизнь, авось, не дети! - я пошла в Краеведческий музей. Подошла к охраннику – и, не желая бессмысленно бродить по неолитам, палеолитам, юртам хакасов, норам куниц, берлогам медведей, гнездовьям уток, сказала напрямик: «Нужен зуб мамонта».
Охранник будто этого и ждал. Махнул рукой как Гагарин – в направлении зала с оленями и косулями. Сказал пароль: «Передайте НинБорисовне, чтоб показала. Камеру я отключил». Похоже, принял меня за Поэта, что прославит Красноярск.
НинБорисовна поупрямилась, мол, нет таких компетенций, показывать зуб мамонта всяк входящему. (В связи с ремонтом в соседнем зале мамонт зябко ежился, закутанный в полиэтилен). Потом НинБорисовна обмякла, смилостивилась, открыла пластмассовый контейнер из Фикспрайса, ткнула пальцем в зуб: «Тяжелый. Наверное, килограмма два. Он выпал, конечно. Но ничего. У мамонта еще вырастет. У него всего четыре зуба, у мамонта. Два сверху. Два снизу. И когда зубы стачиваются, тут же вырастают новые».
Я с сомнением посмотрела на абрис мамонта в полиэтилене.
НинБорисовна продолжила: «По шесть смен зубов у мамонтов бывает за жизнь. Ну или по пять. Смотря, сколько проживешь».
Отчего-то в этот момент, именно в этот момент, я поняла, что отчаянно счастлива.
Отчаянно счастлива – и за себя, и за мамонта, и за Агафью – вдруг у нее там, в тайге, тоже вырастут зубы – как у мамонта. Просто потому, что прежние стерлись.
Когда я двинулась в сторону выхода, охранник мне подмигнул – ну, как?
Я многозначительно кивнула.
Вышла на набережную Енисея. Енисей нес свои холодные, тяжелые, вечные воды куда-то вперед, к Северному Ледовитому океану. А где-то там, позади, был богатырь Байкал, породивший триста тридцать шесть сыновей и всего одну дочь, красавицу Ангару. Ангару, что так любила Енисей, что слилась с ним воедино. И сейчас ни Ангаре, ни Енисею нет никакого дела до отвергнутого Ангарой Иркута.
Из этого всего мог бы получиться отличный стих, - подумала я.
Шла – и чуть жалела, что я не Поэт.
Зуб мамонта остался в музее.
И от грусти спасал только вечерний самолет. И то, что я оставляла здесь, на берегах Енисея, прекрасных и достойных этих мест Поэтов.
Я катала на губах сибирские строки:
«Сибирь рябиной на языке катается – не раскуси!
Желание загадай, в реку выплюни – так принято на Руси!»
Я смаковала на языке горькую рябиновую Сибирь и утешала себя – зато Прозаики – не такие шибанутые. Не такие отлетевшие. И вообще.
В аэропорту я посмотрела на себя в зеркало как-то по-новому. Будто стала иной. Будто напилась из Енисея силы. И взяла от Сибири крепости. И проза моя будто теперь станет иной. Будто сам Виктор Петрович дал мне веру в себя. Будто одобрил и сказал: «Пиши, девочка. Пиши».
В самолете я читала «Звездопад» Астафьева и понимала, что продолжение следует.
И слава Богу, что я не Поэт.
*В рассказе использованы стихи Евгении Наумкиной.



