Литературный журнал

№34
июн
июн
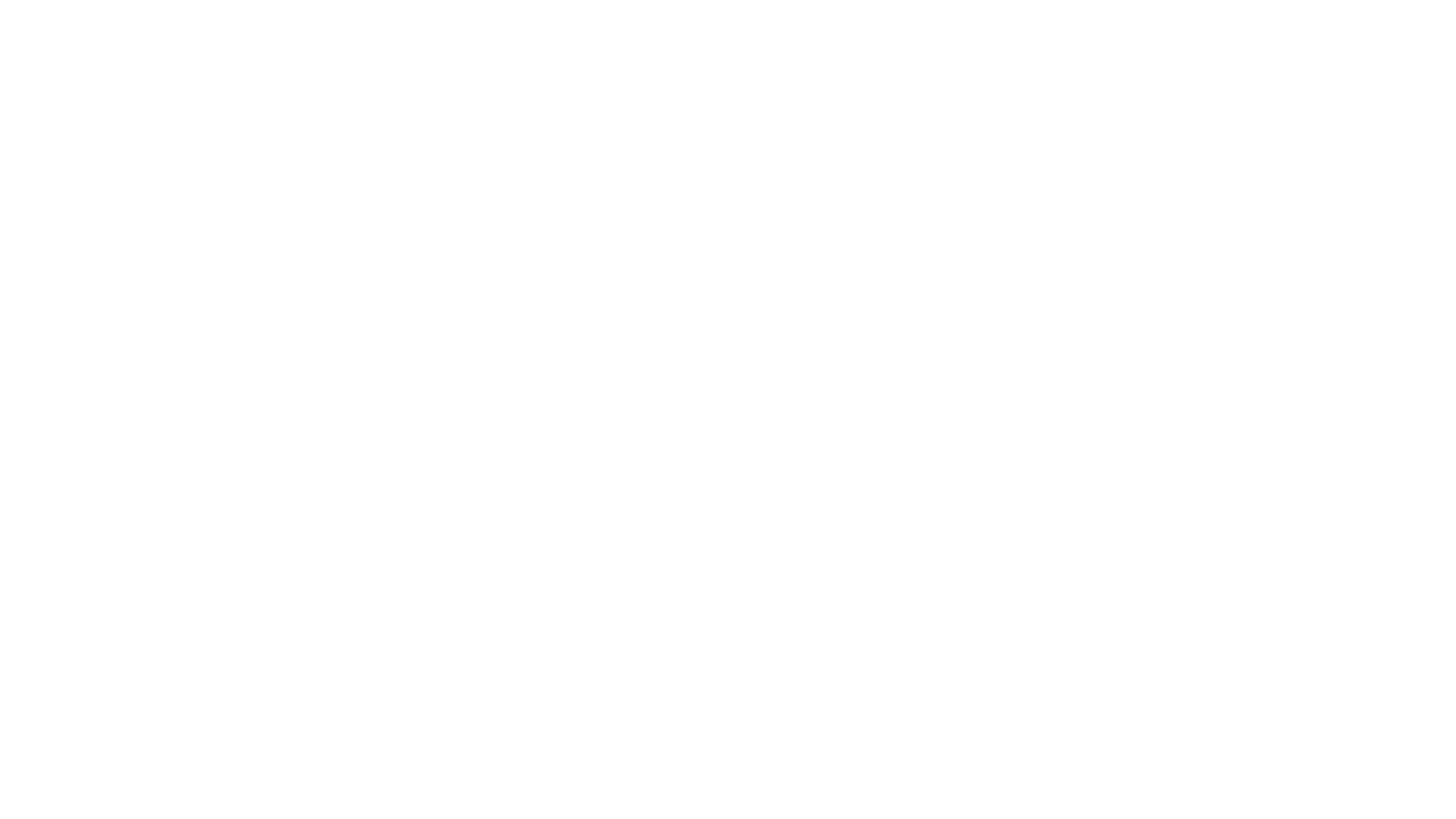
Александр Чанцев — Культура иной отмены
(о книге Ольги Балла «Дикоросль-5: две тысячи двадцать третий». Ганновер: Семь Искусств, 2024. 329 с.)
Александр Чанцев — литературный критик, литературовед-японовед, эссеист-культуролог, прозаик. Родился в Москве в 1978 году. Закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, стажировался в буддийском университете Рюкоку (Киото, Япония). Кандидат филологических наук, автор первой отечественной монографии о Юкио Мисиме. Автор семи книг, более 300 публикаций в российской и зарубежной периодике. В настоящее время – постоянный автор журналов «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Перемены». Произведения переведены на английский, японский, сербский и другие языки. Лауреат международного Волошинского конкурса (2008), премии журнала «Новый мир» (2011), премии Андрея Белого (2020), обладатель специального приза Международной премии им. Фазиля Искандера (2019), лауреат премии журнала «Дружба народов» (2021). Работает в сфере российско-японской бизнес-дипломатии.
Эти небольшие тексты (об их жанровой принадлежности под конец, простите) Ольги Балла регулярно и давно выходят в журнале «Семь искусств». Так же регулярно собираются они в книги. Та стабильность, которой можно только очень радоваться.
При этом здесь нужно немного подвернуть окуляры, пошире открыть двери восприятия и выпихнуть за них, как нашкодившего кота, читательскую привычку воспринимать подобные сборники как издание изданного, накопившегося, тем более и по итогам года. Перед нами — совершенно самостоятельная книга.
Тем более что регулярность этих текстов и их годовой характер – циклический, сезонный практически, так писали средневековые придворные японские дамы, вот и у Балла есть наблюдения над природными изменениями, медитации над преломлением света и воздуха из июльского в августовский – оборачивается лишь плюсом. Это та дисциплина письма и мысли, которая не ослабляет качество текста и мышления, но структурирует их, воспитывает и возгоняет, позволяет дойти до каких-то глубин, которые открываются за повседневными обязанностями, таятся в труде. «Свобода в служении». Да, и в постоянном, фултайм, так сказать, тоже. Даже тем более.
Так писал Георгий Гачев (упомянут здесь раз, по иному поводу). Садился каждое утро и «мыслил» в письме.
Тем более что, как сказано в книге несколько горько-шутливо-правдиво, «в любой насквозь и безальтернативно понятной ситуации пиши рецензию на книгу. <…> Во дни пустоты, отчаяния, влечения к небытию пиши рецензию на книгу». Балла и пишет. Здесь, по скромной автодефиниции, «дикоросль: растёт само и беззаконно, только собирай», «дневник мыслей и внутренних событий автора, максимально очищенных от суетных персональных подробностей и тяготеющих к как можно большей общечеловечности».
Но год и время таковы, что выстроить хоть какую-то гармонию в отношениях с миром или, после краха оных попыток, попытаться утаиться от него не удается. И входит частное (да и что же ему не входить?). Например, оправдание (ведь сейчас же, приучает нас новая этика, за все нужно оправдываться и извиняться, заранее, постфактум, а часто и вместо поступка-фразы), что все же подводит свои метафизические итоги года, когда как бдительные френды говорят, что трагедия и нельзя, ни-ни, не сметь. Не подводить, по Балла, это означает проявить «неблагодарность тому, что дает жить». Или о том, что (это же 2023 год, помните; собственно, и сейчас так, только чуть полегче) в одну запрещенную социальную сеть не зайти, такой там разгул праведников, канистру за канистрой постов в костры инквизиции подливающие. Несмотря на то, кстати, что каждый день возвещают публично о своем умирание от горя и невозможности всего («Почему-то, когда Ельцин Чечню воевал, все очень даже живенькие были. А тут вдруг взяли да померли»). «…Сейчас там слишком много горя и ненависти, — понятно к кому, я вычитала даже и то, что де наша страна должна быть проклята во всех без исключения отношениях, от автомата Калашникова до салата оливье; написал русский, много лет живущий за границей, очень умный человек. Наверно, у него есть на это какое-то право; если бы он проклинал власть, я бы поняла, но когда речь идёт о стране и её людях в целом во всех проявлениях, — честно сказать, меня это очень ожесточает, слишком, гораздо больше, чем я считаю допустимым, — скажем прямо: мне в голову бросается тёмная ярость». Что ж тут удивительного, «умному» человеку нужно там так писать, чтобы доказать, что он человек правильный, да и голова промыта пропагандой дико. Как мне давеча одна френдица написала, живу я в Мордоре, и искренне удивилась, когда я ее поправил, как, это же устоявшееся выражение, чего такого, названия других стран/фамилий коверкать да, грех, а тут естественное дело… Но оставим их.
Балла – как и я – тут тоже резки, проговариваем в текстах и книгах то, о чем стараемся молчать публично, во избежание скандала, нагнетания конфликта и разобщенности, из-за сомнения в своей правоте. Но ведь невозможно молчать всегда, оно зреет, томит и прорывается. Это как с ссорами с людьми, лучше высказать. Видимо.
Делает же из этого Балла — или не из этого, а просто приходит к нему — более глобальный, сложный, возвышенный даже переход. «Научил меня ушедший год — по крайней мере, развернул меня физиономией в эту сторону — принятию (сколько против неё не бунтуй) собственной непоправимой неправоты, невозможности (для меня — во всяком случае) такой позиции, которая была бы правильной и праведной. (Внутреннего бунта это, конечно, тоже не отменяет). Невозможности внутреннего успокоения на этом. Невозможности внутреннего успокоения. Невозможности». Выход же из этого, в частности, в такую практику – стараться признавать, признать правоту другого («отдать правоту другому»). Даже, тем более даже, когда он неправ. Когда он Другой и Чужой даже. Умалить себя, зачеркнуть, стать никем. О, такую праведную культуру отмены провозглашала Симона Вейль, тут достойно прислушаться!
Прежде всего, к интонации книги. К ее мудрости.
То есть книгу можно читать, ценить и любить за разное, поводов тут весьма много. Отдельные наблюдения и мысли ли: «читая книги, — мы их создаём. Выводим из существования в бытие» / «Если человек не боится, то он не чувствует ценности жизни» / «Старость наступает — в очередной раз из многих — ещё и тогда, когда само её наступление и вступание жизни в фазу угасания и свёртывания перестаёт вызывать изумление, оторопь и протест». Откровенность: «Запасаться материалом для самообразования поздно (а я всё по инерции продолжаю), вкладывать в него усилия и время — поздно. Это обречено на безрезультатность, это посевы, которые не взойдут». Настоящие афоризмы: «Человек — рана в бытии, которая в лучшем случае тщится залечить самое себя (и тем самым — бытие)» / «Человек выплетает себя из боли. Из неё состоит». Вообще стиль: «Разгораясь и догорая …превращаешься в пламя. Даже когда гаснешь — превращаешься в пламя. Просто в этом последнем случае пламя уже не видно. В том числе, в конечном счёте, и тебе самой».
Что в своем отточенном и горьком — такой отравленный грустью клинок — стиле Балла доходит до уровня Чорана, мне приходилось писать еще в отзыве на первую «Дикоросль»[1]. Сейчас — о горечи лучше (да, лучше). Балла пишет в книге о разном, о книгах, конечно, работе над ними (и собой, прежде всего, собой). О путешествиях. О возрасте. Старении. О страсти и тщете письма. О воспоминаниях юности, детства – и их преломлении в нынешней себе. О неминуемом приближении к смерти и смирении перед ней. О районах Москвы. О странах, где могла бы жить — и почему не могла. О разном очень пишет.
Но дело совсем в другом. В интонации. Она — очень сильно изменилась по сравнению с предыдущими книгами. Причина ли в тяжести этих отдельных годов, в этой рефлексии о старости или в том, что чем яснее взор от глазных капель ума, тем грустнее, обреченнее и безнадежнее этот мир. Но перед нами настоящий гербарий опавших листьев, они тлеют, скоро их скуют льды и снега, а после схода снега весной не останется и их следа.
«Всё больше — по мере того, как отношения мои с миром переходят из фазы встречи в фазу прощания, вернее (встреча ведь никогда не проходит, мир ведь слишком велик и нов для того, чтобы хоть когда-нибудь перестать с ним встречаться), по мере того, как разрастается — накладываясь на неисчерпаемое событие встречи, срастаясь с ним, — фаза прощания. Разумеется, цепляние за привычное и обжитое — как и тоска по детству и началу — форма страха смерти, приемлемая для сознания форма его проживания».
Все больше нужна тишина, молчание и бессобытийность[2]. «Очень похоже, что на ныне разворачивающемся этапе биографического развития (что противоположно развитию? свитие?) уединение, молчание и большие пространства неторопливой свободы вокруг нужны мне даже гораздо больше книг (и по сию минуту пребывающих в статусе аддикции и вызывающих, как аддикции и положено, неутолимый зуд, но тем не менее) и (сопутствующего им) расширения горизонтов. Впрочем, уединение и молчание — тоже расширение горизонтов, да ещё какое»[3]. Отступают – книги! И поездки. Те самые поездки, о которых только что – столько – в этой самой книге. «Вот наступает, да наступило уже время, когда приготовление борща (сосредоточение внимания вокруг этой собирающей, упорядочивающей, концентрирующей практики, — есть ведь практики собирающие и рассеивающие) стало чувствоваться содержательнее, смыслоноснее дальних поездок в неизведанные пространства; а сами эти поездки мнятся практикой рассеивающей». И – главное, главное, ибо мысль Балла идет все дальше, осмысляет все новое, встречает его и уходит за горизонт его (и даже мысли о нем) — осмысляется, подвергается сомнению мысль и поступок, подвергается — поступком мысли. «Это, разумеется, иллюзия, но характерно само её наличие и сама её настойчивость» — так продолжается и заканчивается этот пассаж, «пригожинским скачком».
И очень хорошо понятно по этой книге, после какого-то трудно определимого, но весьма ощутимого (это как аромат, вкус напитка или симпатия к человеку, чувствуется сразу, а попробуй сформулируй) прыжка в ней в качественное иное, что Ольга Балла – никакой не критик (то есть критик, и еще какой!) и даже не эссеист (тут можно в сотый раз, как в сети, дискутировать о терминах и предназначениях, но на любые споры в последние годы у меня лично выработалась стойкая идиосинкразия). А мыслитель и философ (опять же, кому как эти определения, даже самой Балла, но не суть). Из тех «частных мыслителей» — вольных, неинституционализированных и неконвенциональных в широком плане, в спектре от Симоны Вейль до Владимира Бибихина[4].
_____________________
[1] Чанцев А. Скромность познания, или Чоранески Великому Скриптору // Перемены. 2020. 27 мая (https://www.peremeny.ru/blog/24865).
[2] К созерцанию, безделию и скуке призывали, можно вспомнить, многие философы, от Катона и Цицерона до Арендт и Бён-Чхоль Хана. См., например: «Люди, как-то ориентирующиеся в опыте мысли, вряд ли не захотят согласиться с изречением Катона <…>: «Никогда ты не деятелен так, как когда на взгляд со стороны сидишь без дела, никогда не менее одинок чем в уединении с самим собой». Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. Бибихин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 401.
[3] Любопытно, что освобождающим от житейского выступают – кроме религии – вещи зачастую негативные. Приближение старости у Балла, болезнь у Ницше: «Болезнь мало-помалу приносила мне освобождение: она меня избавила от всякого рода разрывов, от всяких неистовых сомнительных начинаний. Она наделила меня правом коренным образом менять свои привычки». Цит. по: Делез Ж. Ницше. Пер. с фр. С. Фокина. СПб.: Axioma, 2001. C. 11
[4] Преподавание в научной институции тут не в счет, мы говорим об единственно важном - способе мышления.
При этом здесь нужно немного подвернуть окуляры, пошире открыть двери восприятия и выпихнуть за них, как нашкодившего кота, читательскую привычку воспринимать подобные сборники как издание изданного, накопившегося, тем более и по итогам года. Перед нами — совершенно самостоятельная книга.
Тем более что регулярность этих текстов и их годовой характер – циклический, сезонный практически, так писали средневековые придворные японские дамы, вот и у Балла есть наблюдения над природными изменениями, медитации над преломлением света и воздуха из июльского в августовский – оборачивается лишь плюсом. Это та дисциплина письма и мысли, которая не ослабляет качество текста и мышления, но структурирует их, воспитывает и возгоняет, позволяет дойти до каких-то глубин, которые открываются за повседневными обязанностями, таятся в труде. «Свобода в служении». Да, и в постоянном, фултайм, так сказать, тоже. Даже тем более.
Так писал Георгий Гачев (упомянут здесь раз, по иному поводу). Садился каждое утро и «мыслил» в письме.
Тем более что, как сказано в книге несколько горько-шутливо-правдиво, «в любой насквозь и безальтернативно понятной ситуации пиши рецензию на книгу. <…> Во дни пустоты, отчаяния, влечения к небытию пиши рецензию на книгу». Балла и пишет. Здесь, по скромной автодефиниции, «дикоросль: растёт само и беззаконно, только собирай», «дневник мыслей и внутренних событий автора, максимально очищенных от суетных персональных подробностей и тяготеющих к как можно большей общечеловечности».
Но год и время таковы, что выстроить хоть какую-то гармонию в отношениях с миром или, после краха оных попыток, попытаться утаиться от него не удается. И входит частное (да и что же ему не входить?). Например, оправдание (ведь сейчас же, приучает нас новая этика, за все нужно оправдываться и извиняться, заранее, постфактум, а часто и вместо поступка-фразы), что все же подводит свои метафизические итоги года, когда как бдительные френды говорят, что трагедия и нельзя, ни-ни, не сметь. Не подводить, по Балла, это означает проявить «неблагодарность тому, что дает жить». Или о том, что (это же 2023 год, помните; собственно, и сейчас так, только чуть полегче) в одну запрещенную социальную сеть не зайти, такой там разгул праведников, канистру за канистрой постов в костры инквизиции подливающие. Несмотря на то, кстати, что каждый день возвещают публично о своем умирание от горя и невозможности всего («Почему-то, когда Ельцин Чечню воевал, все очень даже живенькие были. А тут вдруг взяли да померли»). «…Сейчас там слишком много горя и ненависти, — понятно к кому, я вычитала даже и то, что де наша страна должна быть проклята во всех без исключения отношениях, от автомата Калашникова до салата оливье; написал русский, много лет живущий за границей, очень умный человек. Наверно, у него есть на это какое-то право; если бы он проклинал власть, я бы поняла, но когда речь идёт о стране и её людях в целом во всех проявлениях, — честно сказать, меня это очень ожесточает, слишком, гораздо больше, чем я считаю допустимым, — скажем прямо: мне в голову бросается тёмная ярость». Что ж тут удивительного, «умному» человеку нужно там так писать, чтобы доказать, что он человек правильный, да и голова промыта пропагандой дико. Как мне давеча одна френдица написала, живу я в Мордоре, и искренне удивилась, когда я ее поправил, как, это же устоявшееся выражение, чего такого, названия других стран/фамилий коверкать да, грех, а тут естественное дело… Но оставим их.
Балла – как и я – тут тоже резки, проговариваем в текстах и книгах то, о чем стараемся молчать публично, во избежание скандала, нагнетания конфликта и разобщенности, из-за сомнения в своей правоте. Но ведь невозможно молчать всегда, оно зреет, томит и прорывается. Это как с ссорами с людьми, лучше высказать. Видимо.
Делает же из этого Балла — или не из этого, а просто приходит к нему — более глобальный, сложный, возвышенный даже переход. «Научил меня ушедший год — по крайней мере, развернул меня физиономией в эту сторону — принятию (сколько против неё не бунтуй) собственной непоправимой неправоты, невозможности (для меня — во всяком случае) такой позиции, которая была бы правильной и праведной. (Внутреннего бунта это, конечно, тоже не отменяет). Невозможности внутреннего успокоения на этом. Невозможности внутреннего успокоения. Невозможности». Выход же из этого, в частности, в такую практику – стараться признавать, признать правоту другого («отдать правоту другому»). Даже, тем более даже, когда он неправ. Когда он Другой и Чужой даже. Умалить себя, зачеркнуть, стать никем. О, такую праведную культуру отмены провозглашала Симона Вейль, тут достойно прислушаться!
Прежде всего, к интонации книги. К ее мудрости.
То есть книгу можно читать, ценить и любить за разное, поводов тут весьма много. Отдельные наблюдения и мысли ли: «читая книги, — мы их создаём. Выводим из существования в бытие» / «Если человек не боится, то он не чувствует ценности жизни» / «Старость наступает — в очередной раз из многих — ещё и тогда, когда само её наступление и вступание жизни в фазу угасания и свёртывания перестаёт вызывать изумление, оторопь и протест». Откровенность: «Запасаться материалом для самообразования поздно (а я всё по инерции продолжаю), вкладывать в него усилия и время — поздно. Это обречено на безрезультатность, это посевы, которые не взойдут». Настоящие афоризмы: «Человек — рана в бытии, которая в лучшем случае тщится залечить самое себя (и тем самым — бытие)» / «Человек выплетает себя из боли. Из неё состоит». Вообще стиль: «Разгораясь и догорая …превращаешься в пламя. Даже когда гаснешь — превращаешься в пламя. Просто в этом последнем случае пламя уже не видно. В том числе, в конечном счёте, и тебе самой».
Что в своем отточенном и горьком — такой отравленный грустью клинок — стиле Балла доходит до уровня Чорана, мне приходилось писать еще в отзыве на первую «Дикоросль»[1]. Сейчас — о горечи лучше (да, лучше). Балла пишет в книге о разном, о книгах, конечно, работе над ними (и собой, прежде всего, собой). О путешествиях. О возрасте. Старении. О страсти и тщете письма. О воспоминаниях юности, детства – и их преломлении в нынешней себе. О неминуемом приближении к смерти и смирении перед ней. О районах Москвы. О странах, где могла бы жить — и почему не могла. О разном очень пишет.
Но дело совсем в другом. В интонации. Она — очень сильно изменилась по сравнению с предыдущими книгами. Причина ли в тяжести этих отдельных годов, в этой рефлексии о старости или в том, что чем яснее взор от глазных капель ума, тем грустнее, обреченнее и безнадежнее этот мир. Но перед нами настоящий гербарий опавших листьев, они тлеют, скоро их скуют льды и снега, а после схода снега весной не останется и их следа.
«Всё больше — по мере того, как отношения мои с миром переходят из фазы встречи в фазу прощания, вернее (встреча ведь никогда не проходит, мир ведь слишком велик и нов для того, чтобы хоть когда-нибудь перестать с ним встречаться), по мере того, как разрастается — накладываясь на неисчерпаемое событие встречи, срастаясь с ним, — фаза прощания. Разумеется, цепляние за привычное и обжитое — как и тоска по детству и началу — форма страха смерти, приемлемая для сознания форма его проживания».
Все больше нужна тишина, молчание и бессобытийность[2]. «Очень похоже, что на ныне разворачивающемся этапе биографического развития (что противоположно развитию? свитие?) уединение, молчание и большие пространства неторопливой свободы вокруг нужны мне даже гораздо больше книг (и по сию минуту пребывающих в статусе аддикции и вызывающих, как аддикции и положено, неутолимый зуд, но тем не менее) и (сопутствующего им) расширения горизонтов. Впрочем, уединение и молчание — тоже расширение горизонтов, да ещё какое»[3]. Отступают – книги! И поездки. Те самые поездки, о которых только что – столько – в этой самой книге. «Вот наступает, да наступило уже время, когда приготовление борща (сосредоточение внимания вокруг этой собирающей, упорядочивающей, концентрирующей практики, — есть ведь практики собирающие и рассеивающие) стало чувствоваться содержательнее, смыслоноснее дальних поездок в неизведанные пространства; а сами эти поездки мнятся практикой рассеивающей». И – главное, главное, ибо мысль Балла идет все дальше, осмысляет все новое, встречает его и уходит за горизонт его (и даже мысли о нем) — осмысляется, подвергается сомнению мысль и поступок, подвергается — поступком мысли. «Это, разумеется, иллюзия, но характерно само её наличие и сама её настойчивость» — так продолжается и заканчивается этот пассаж, «пригожинским скачком».
И очень хорошо понятно по этой книге, после какого-то трудно определимого, но весьма ощутимого (это как аромат, вкус напитка или симпатия к человеку, чувствуется сразу, а попробуй сформулируй) прыжка в ней в качественное иное, что Ольга Балла – никакой не критик (то есть критик, и еще какой!) и даже не эссеист (тут можно в сотый раз, как в сети, дискутировать о терминах и предназначениях, но на любые споры в последние годы у меня лично выработалась стойкая идиосинкразия). А мыслитель и философ (опять же, кому как эти определения, даже самой Балла, но не суть). Из тех «частных мыслителей» — вольных, неинституционализированных и неконвенциональных в широком плане, в спектре от Симоны Вейль до Владимира Бибихина[4].
_____________________
[1] Чанцев А. Скромность познания, или Чоранески Великому Скриптору // Перемены. 2020. 27 мая (https://www.peremeny.ru/blog/24865).
[2] К созерцанию, безделию и скуке призывали, можно вспомнить, многие философы, от Катона и Цицерона до Арендт и Бён-Чхоль Хана. См., например: «Люди, как-то ориентирующиеся в опыте мысли, вряд ли не захотят согласиться с изречением Катона <…>: «Никогда ты не деятелен так, как когда на взгляд со стороны сидишь без дела, никогда не менее одинок чем в уединении с самим собой». Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. Бибихин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 401.
[3] Любопытно, что освобождающим от житейского выступают – кроме религии – вещи зачастую негативные. Приближение старости у Балла, болезнь у Ницше: «Болезнь мало-помалу приносила мне освобождение: она меня избавила от всякого рода разрывов, от всяких неистовых сомнительных начинаний. Она наделила меня правом коренным образом менять свои привычки». Цит. по: Делез Ж. Ницше. Пер. с фр. С. Фокина. СПб.: Axioma, 2001. C. 11
[4] Преподавание в научной институции тут не в счет, мы говорим об единственно важном - способе мышления.


