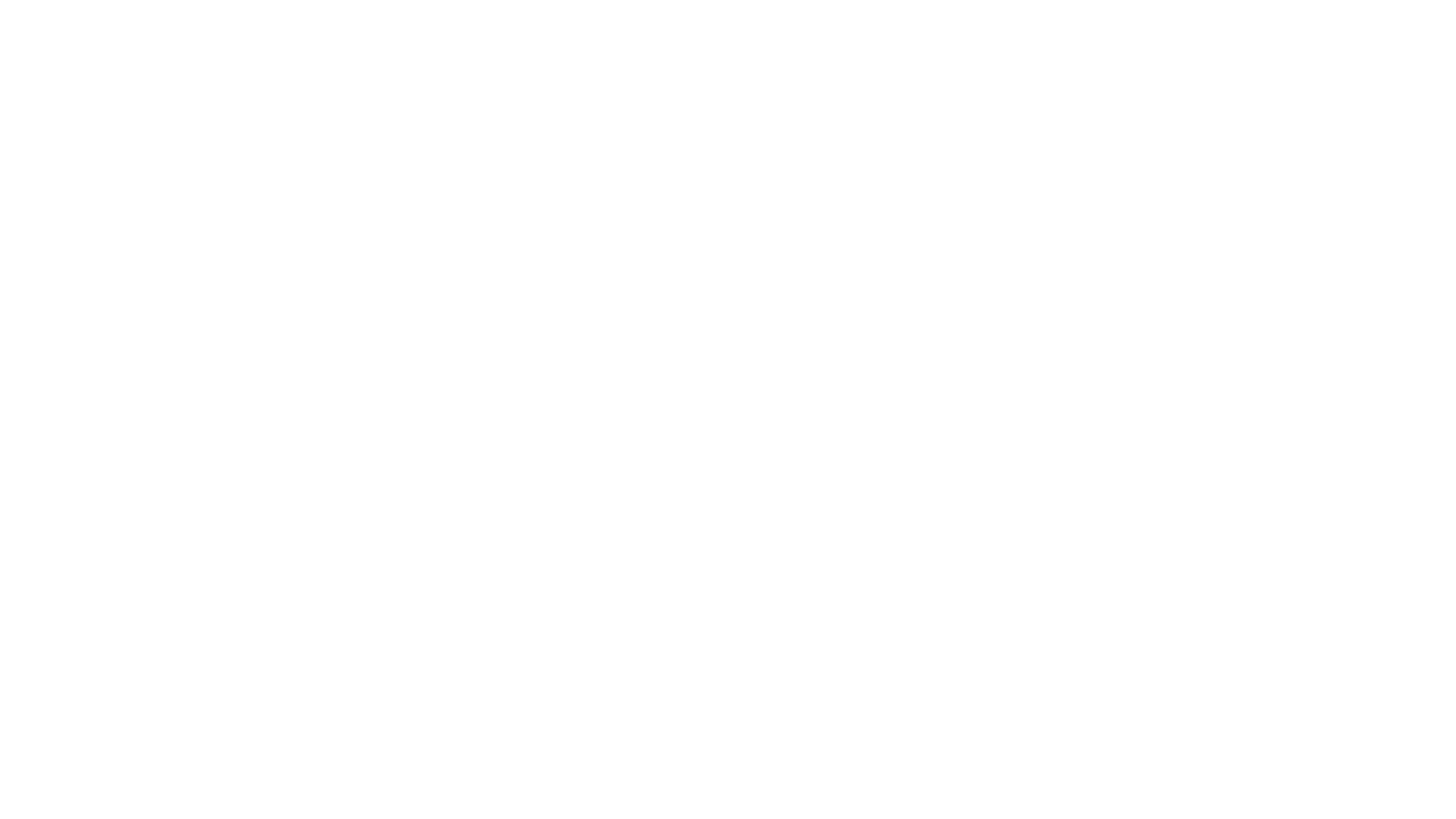
Александр Чанцев — Маршрутка идет за облака
Ольга Андреева. Децимы: Из записных книжек. [б. м.] : Издательские решения, 2024. 68 с.
Ольга Андреева, автор многих поэтических книг из Ростова-на-Дону, в предисловии переживает: «Предвижу упрёки — это же эклектика, калейдоскоп. <…> Буду рада, если вам будет интересно читать. Возможно, в наше клиповое время такая форма удобнее, живее, актуальнее, она чем-то напоминает твиттер». Эклектика вполне может гнездиться и в семейной хронике, тогда как я уже пару пятилеток убежден, что в традиционном романе практически невозможно сказать сейчас ничего нового, сердце он не успокоит, а вот подобная литература на грани нон-фикшна и всего – как раз может. И дело тут не в твиттере или иных блогах (разве мы не видели в том же Телеграме посты размаха графа Льва Толстого?), а в густой выжимке из реальности и мысли. Так, в конце концов, писали Паскаль и Розанов. Им, впрочем, и выступать в блогах, возможно, понравилось бы.
Децимы, объясняет (тоже кратко объясняет!) далее Андреева, потому что по десять блоков-записей в каждой из трех частей. А посвящены они соответственно – девяностым, нулевым и десятым. Что ж, вдвойне (втройне) интересно, потому что сколько о 90-х не пишут-вспоминают, а все равно ощущение, что мало, какой-то кусок сути еще не поняли, а про 10-е так и вообще, художественной аналитики в книжные почти и не завезли, считай.
Это к тому, что уже заочно эта случайная книга располагала к себе. Что ж, счет ожиданий выставлен, как там внутри? Действительно разно. Впрочем, и тут автор уже констатировал, отбив хлеб у рецензента – «жизнь у нас всего одна, поэтому в ней чередуются и объединяются в немыслимые конструкции как политика с философией, так и быт, и путешествия, и воспитание детей, и работа». Именно так работает жизнь, да и биохимия мозга с эмоциональными на него реакциями, а не какое-то искусственное вычленение в виде «произошла со мной такая необычная история».
Конечно, будет множество деталей времени. Безработица в маленьком – потом больше, тот самый Ростов – портовом южном городке во времена «первоначального накопления капитала» одними и полной утраты оного другими. Это интересно, грех не вспомнить. Шансон на улице, экстрасенсы в телевизоре и «большинство людей в недоумении — что делать с ваучерами». Кажется, что в каком-то смысле если не все это, то недоумение до сих пор не прошло, нет?
Но и юмор, без него не в светлое, хотя бы какое-то будущее точно не пробиться. Ростов. Немолодая кореянка, садясь в маршрутку, спрашивает водителя-дагестанца:
— До Родина довезёшь?
— До чией? (Есть у нас в городе кинотеатр «Родина»).
Есть иронические и почти классические афоризмы-бонмо. «СтройСтресс — хорошее название для фирмы», «Дно рождения» и «Омолаживающий крем “Дориан Грей”».
Присутствуют и наблюдения. Например, даже литературного свойства. Что «современная поэзия боится пафоса. Из-за этого впадает иногда в его жалкую противоположность — показное равнодушие», а мат – средство выражения невыразимого у тех, у кого более усложненный словесный аппарат не выработан и не артикулирован.
И сцены, в которых целый рассказ уже зашит, зачем что-то добавлять, и так все видишь: «На задней площадке троллейбуса небритый парень смял в руках банку от пива — до плоского состояния — и просовывал её на ходу в щель над дверью». Есть просто экфрасисы: «Деревья бывают трёхцветными, как кошки, они мурлычут, и ветер их по шёрстке гладит».
А есть настоящая благость. Когда автор смотрит не только на своих дочерей, как они растут, но и на мир их глазами: «Конечно, писать о весне — уже граничит с пошлостью. Но в свою двадцать шестую весну вдруг замечаю, что дом напротив опутан паутиной винограда, что на этой лозе держится-качается странной формы скворечник, в котором временно, без прописки — как мы — живут воробьи. Я всё это замечаю потому, что моя доченька всё это
видит в первый раз».
И здесь, как виноград на той супротивной стене, выступает для меня некоторая не общая тема, но общее чувство этой книги, что ли. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», то есть ехать на работу в ростовской маршрутке, где люди-то хороши, но хамы попадаются. И политика, и тот же шансон, и на работе обсуждают, зачем коллега пошла на Агутина, вот накопила бы денег, и пошла сразу на Киркорова. А еще – такая прямо фишка у автора, но об этом дальше – отдельно настоящий антиклерикализм, все, что связано с формальной ролью церкви в обычной жизни граждан, вызывает антипатию резкую: «Исповедь. Стоит очередь, священник подманивает пальцем впередистоящего, тот что-то суетливо бормочет, священник лениво и с лёгким отвращением кивает головой» / «Детям в школе гораздо полезнее познавать божий мир, а не церковные ритуалы» и дальше.
Неприятие всего этого нарастает, от него не сбежать, маршрутки так далеко за облака не ходят. «И ты опять, возясь в обмылках и грязи, готовишь ослепительно чистое Завтра, которого не будет». А будет это вечное сейчас, что «хуже средневековья. Тогда меньше было страдальцев. Население в целом было меньше, и его совокупная боль была меньше». И нарастает чувство богооставленности и человекострадания: «Теперь-то я уже знаю, что человеческая жизнь на такую двужильность не рассчитана».
Или все же можно сбежать? Потому что исповедь – и познание божьего мира – могут и иными быть совсем. Вот ребенок возится в саду:
— Ты что, сам с собой разговариваешь?
— Почему сам с собой?
— А с кем?
— Вон, ёжик.
И правда, в траве сидел ёжик, смотрел Мише в глаза и внимательно слушал его исповедь.
Не сбежать, а почувствовать и обрести в себе иное основание, настоящей, а не общественно-государевой, веры. Перестать считать, назначать себя жертвой: «Считать себя жертвой чего-то — иногда это уже агрессивность. Зачастую агрессор искренне считает себя жертвой, а свой гнев — праведным». Утратить не веру, а разочарование: «Нет большей пошлости, чем демонстрировать разочарованность. Это твоя вина, если ты не находишь радости там, куда сам пришёл». Да и «это мертвое чувство предельной вины» (С. Калугин) в себе, от себя отбросить. Обрести «спокойное достоинство».
Стать тем ребенком, что верит открыто, как дети верят. «Свою жизнь она считает вполне хорошей. Так считают все дети. Они не сравнивают свою жизнь с чужими, с идеалом. Двойственность их не гнетет». Об этом писал в дневниках Иоанн Кронштадтский: «Вот кому только легко достается Царство Небесное – невинным детям, если они, не испортившись от душетленного дыхания мира, перейдут в будущий век чистыми и простыми».
Можно и попытаться не испортиться. То есть испортиться, конечно, но не до конца. Тем более если ребенок внутри еще умер не весь:
Звонит телефон. Алло, говорю. В ответ — «позови кого-нибудь из взрослых». Я от неожиданности — «да, сейчас мужа позову».
Впрочем, автор слишком прозорлив и деликатен, чтобы чему-то учить: «Познавший все и прозревший все не смешон. Но смешон юный и неопытный, поверивший ему на слово».
Децимы, объясняет (тоже кратко объясняет!) далее Андреева, потому что по десять блоков-записей в каждой из трех частей. А посвящены они соответственно – девяностым, нулевым и десятым. Что ж, вдвойне (втройне) интересно, потому что сколько о 90-х не пишут-вспоминают, а все равно ощущение, что мало, какой-то кусок сути еще не поняли, а про 10-е так и вообще, художественной аналитики в книжные почти и не завезли, считай.
Это к тому, что уже заочно эта случайная книга располагала к себе. Что ж, счет ожиданий выставлен, как там внутри? Действительно разно. Впрочем, и тут автор уже констатировал, отбив хлеб у рецензента – «жизнь у нас всего одна, поэтому в ней чередуются и объединяются в немыслимые конструкции как политика с философией, так и быт, и путешествия, и воспитание детей, и работа». Именно так работает жизнь, да и биохимия мозга с эмоциональными на него реакциями, а не какое-то искусственное вычленение в виде «произошла со мной такая необычная история».
Конечно, будет множество деталей времени. Безработица в маленьком – потом больше, тот самый Ростов – портовом южном городке во времена «первоначального накопления капитала» одними и полной утраты оного другими. Это интересно, грех не вспомнить. Шансон на улице, экстрасенсы в телевизоре и «большинство людей в недоумении — что делать с ваучерами». Кажется, что в каком-то смысле если не все это, то недоумение до сих пор не прошло, нет?
Но и юмор, без него не в светлое, хотя бы какое-то будущее точно не пробиться. Ростов. Немолодая кореянка, садясь в маршрутку, спрашивает водителя-дагестанца:
— До Родина довезёшь?
— До чией? (Есть у нас в городе кинотеатр «Родина»).
Есть иронические и почти классические афоризмы-бонмо. «СтройСтресс — хорошее название для фирмы», «Дно рождения» и «Омолаживающий крем “Дориан Грей”».
Присутствуют и наблюдения. Например, даже литературного свойства. Что «современная поэзия боится пафоса. Из-за этого впадает иногда в его жалкую противоположность — показное равнодушие», а мат – средство выражения невыразимого у тех, у кого более усложненный словесный аппарат не выработан и не артикулирован.
И сцены, в которых целый рассказ уже зашит, зачем что-то добавлять, и так все видишь: «На задней площадке троллейбуса небритый парень смял в руках банку от пива — до плоского состояния — и просовывал её на ходу в щель над дверью». Есть просто экфрасисы: «Деревья бывают трёхцветными, как кошки, они мурлычут, и ветер их по шёрстке гладит».
А есть настоящая благость. Когда автор смотрит не только на своих дочерей, как они растут, но и на мир их глазами: «Конечно, писать о весне — уже граничит с пошлостью. Но в свою двадцать шестую весну вдруг замечаю, что дом напротив опутан паутиной винограда, что на этой лозе держится-качается странной формы скворечник, в котором временно, без прописки — как мы — живут воробьи. Я всё это замечаю потому, что моя доченька всё это
видит в первый раз».
И здесь, как виноград на той супротивной стене, выступает для меня некоторая не общая тема, но общее чувство этой книги, что ли. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», то есть ехать на работу в ростовской маршрутке, где люди-то хороши, но хамы попадаются. И политика, и тот же шансон, и на работе обсуждают, зачем коллега пошла на Агутина, вот накопила бы денег, и пошла сразу на Киркорова. А еще – такая прямо фишка у автора, но об этом дальше – отдельно настоящий антиклерикализм, все, что связано с формальной ролью церкви в обычной жизни граждан, вызывает антипатию резкую: «Исповедь. Стоит очередь, священник подманивает пальцем впередистоящего, тот что-то суетливо бормочет, священник лениво и с лёгким отвращением кивает головой» / «Детям в школе гораздо полезнее познавать божий мир, а не церковные ритуалы» и дальше.
Неприятие всего этого нарастает, от него не сбежать, маршрутки так далеко за облака не ходят. «И ты опять, возясь в обмылках и грязи, готовишь ослепительно чистое Завтра, которого не будет». А будет это вечное сейчас, что «хуже средневековья. Тогда меньше было страдальцев. Население в целом было меньше, и его совокупная боль была меньше». И нарастает чувство богооставленности и человекострадания: «Теперь-то я уже знаю, что человеческая жизнь на такую двужильность не рассчитана».
Или все же можно сбежать? Потому что исповедь – и познание божьего мира – могут и иными быть совсем. Вот ребенок возится в саду:
— Ты что, сам с собой разговариваешь?
— Почему сам с собой?
— А с кем?
— Вон, ёжик.
И правда, в траве сидел ёжик, смотрел Мише в глаза и внимательно слушал его исповедь.
Не сбежать, а почувствовать и обрести в себе иное основание, настоящей, а не общественно-государевой, веры. Перестать считать, назначать себя жертвой: «Считать себя жертвой чего-то — иногда это уже агрессивность. Зачастую агрессор искренне считает себя жертвой, а свой гнев — праведным». Утратить не веру, а разочарование: «Нет большей пошлости, чем демонстрировать разочарованность. Это твоя вина, если ты не находишь радости там, куда сам пришёл». Да и «это мертвое чувство предельной вины» (С. Калугин) в себе, от себя отбросить. Обрести «спокойное достоинство».
Стать тем ребенком, что верит открыто, как дети верят. «Свою жизнь она считает вполне хорошей. Так считают все дети. Они не сравнивают свою жизнь с чужими, с идеалом. Двойственность их не гнетет». Об этом писал в дневниках Иоанн Кронштадтский: «Вот кому только легко достается Царство Небесное – невинным детям, если они, не испортившись от душетленного дыхания мира, перейдут в будущий век чистыми и простыми».
Можно и попытаться не испортиться. То есть испортиться, конечно, но не до конца. Тем более если ребенок внутри еще умер не весь:
Звонит телефон. Алло, говорю. В ответ — «позови кого-нибудь из взрослых». Я от неожиданности — «да, сейчас мужа позову».
Впрочем, автор слишком прозорлив и деликатен, чтобы чему-то учить: «Познавший все и прозревший все не смешон. Но смешон юный и неопытный, поверивший ему на слово».



