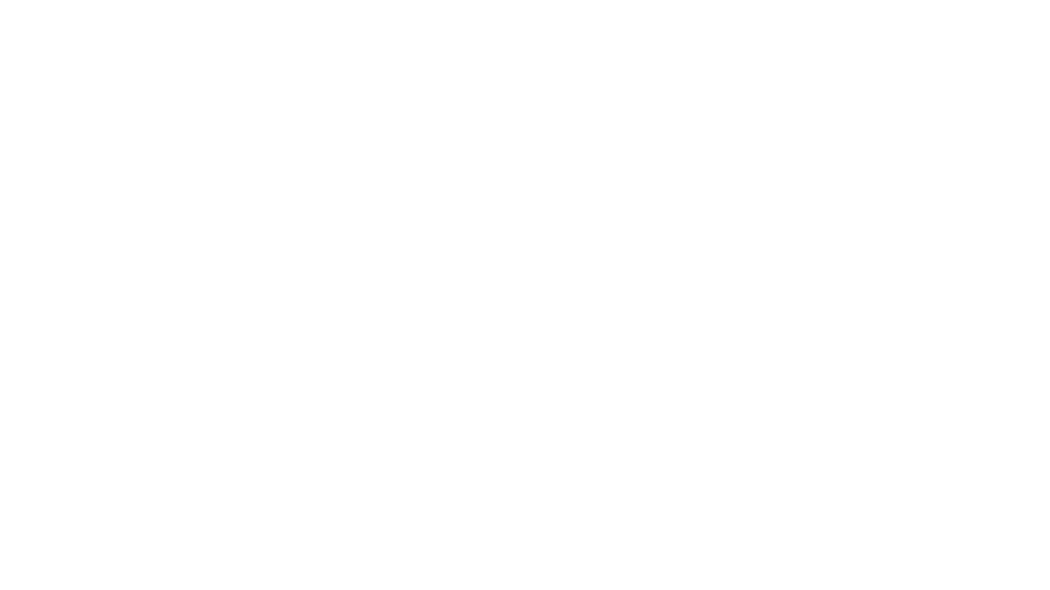
Полина Делия — Отпечатки
И тогда я полюбил рассматривать облицовочные плиты на станциях московского метро. Не сами плиты, конечно, а вмурованные в холодный камень оттиски допотопной жизни. За короткое время ожидания поезда я успевал представить безвестного аммонита, что копошился в солоноватой воде неисчислимую бездну лет назад — прожил ли он отпущенный ему срок или, быть может, пал жертвой какого-нибудь доисторического гиганта, и его извитая раковина окончательно погрузилась на дно кипящего от населявших его тогда существ бульона Тетис…
А потом подходил поезд, я заходил в вагон и тут же забывал о том причудливом завитке на известняке стены, что на пару минут отправлял меня вглубь времен. Да и был ли тот завиток отпечатком древнего моллюска, а не игрой тени, излома породы и моего воображения.
Все закончилось, когда я перебрался в Петербург. Я снял комнатку в коммуналке в Басковом переулке, недалеко от Московского вокзала, и надолго забыл о существовании метро. Ирочка, у которой я переснимал эту комнату, поведала мне по секрету, что хозяйка не любит москвичей.
— Откуда будешь? — без лишних вступлений спросила та меня, едва я появился на пороге.
— Реутов, — ответил я.
Обманывать я не умел, впрочем, мне даже и не пришлось это делать — Москва начиналась через дорогу от моего дома, а сам я жил в области.
— Это Россия хоть? — строго спросила хозяйка, сощурив левый глаз.
Не ожидая такого вопроса, я только успел кивнуть.
Она мельком пролистала мой паспорт, задержав взгляд только на фотографии круглолицего парня в очках, коим когда-то был я, посмотрела в упор на меня, и будто сославшись на отсутствие сходства, сказала, что без очков все равно не разберет, но верит Ирочке, ведь Ирочка — хорошая девочка и плохого она не посоветует. Ирочка все это время загадочно улыбалась за ее спиной: меня она видела впервые, впрочем, как и я ее; я просто ответил на ее объявление о свободной комнате, которое репостнул кто-то из наших общих знакомых. Была и третья причина — хозяйка избегала уплаты налогов и сдавала комнату только по знакомству, будто только знакомство могло гарантировать ей ежемесячную арендную плату.
Комната была небольшой: скрипучий раскладной диван от стены до стены, трехногий стол у дивана, продавленный табурет под столом, дребезжащий старенький холодильник в углу и пыльное окно, глазеющее в замкнутое пространство двора. Я провел пальцем по стеклу, думая собрать слой прошлогодней пыли, но то, что я принял за пыль, было мутными стеклянными разводами, и я еще долго вглядывался в них и в искажения колодца за ними. Когда за хозяйкой захлопнулась дверь, я почувствовал себя головоногим моллюском, обосновавшимся в раковине по своему размеру — большее бы я не потянул. Теперь мне предстояло копошиться в тепловатых питерских водах.
Кроме меня здесь жили еще двое — неопределенного возраста старуха и такого же рода занятости мужик. К Ирочке они относились с той коммунальной нелюбовью, что граничит одновременно с презрением и услужливостью. Например, они как-то щедро пересыпали хлоркой Ирочкины сапожки, дабы туда не нагадила кошка. Кошка не нагадила, но сапожки пришлось выбросить. Ирочка съехала, а я унаследовал за ней не сколько эти добрососедские подвохи, сколько их ожидание, и с первого дня не оставлял за пределами своей раковины ничего — ни ботинок, ни куртки, ни кружки. Впрочем, ту кошку я так и не встретил.
Уходя, я запирал свою дверь на ключ, изнутри — на щеколду. И всегда прислушивался к шорохам в коридоре. Но меры предосторожности не всегда спасали, и стоило мне выйти на кухню, как туда подтягивались и они — обитатели коммунальных нор. И пока я возился с макаронами к ужину, старуха ставила на плитку ковшик с молоком, а мужик поджаривал на раскаленной сковороде головку лука целиком.
— Ты хотя бы знаешь, на какой улице живешь? — в первый же вечер спросила старуха.
Я ждал каких угодно вопросов от своих новоявленных соседей, готовый выдать придуманную загодя историю о себе, своей жизни и о том, как я оказался здесь с ними на одной кухне, но к такому странному в своей нелепости вопросу готов не был.
— Басков переулок? — я неуклюже сполз в вопросительную интонацию.
— На этой улице, — важно сказала она, — между прочим, вырос Владимир Владимирович. Стыдно, молодой человек, не знать этого.
И она с шумом втянула в себя молочную пенку с ложки так, что мне стало дурно.
— На кого учимся, студент? — гаркнул мне в ухо сосед.
Шум скворчащей луковицы на раскаленной сковородке заглушал остатки вежливости на этой кухне.
— На политолога, — прокричал я в ответ.
И мужик многозначительно гыкнул.
За неполный месяц соседства я узнал, как он бьет себя кулаком в грудь, когда говорит о службе в армии, и как снисходительно смотрит на меня, когда я отвечаю, что не прошел туда по состоянию здоровья. По его раскатистому «вечер в хату» я предполагал, что его прошлое ограничилось не только службой, но его ловкое цитирование Дюркгейма вперемешку с Марксом ставило под сомнение все мои догадки. Иногда он уходил из дома рано утром, а приходил поздно вечером, иной раз мог безвылазно сидеть в своей комнате несколько дней, обкладывая дверь пустыми бутылками, словно возводя вокруг баррикады. Нельзя было и разобрать, чем он занимается и на что живет, а узнать не представлялось возможным, так виртуозно он уходил от любых вопросов, которые я задавал в ответ на его любопытство о моей жизни.
Старуха же не спрашивала обо мне ничего, но изредка пускалась в воспоминания, в которых путалась в пространстве и времени, и ее истории о голодном блокадном детстве вдруг чередовались с тем, что она танцевала на выпускном вечере с Гагариным, а потом и вовсе ухали в пропасть дореволюционных годов.
— Ты хотя бы знаешь, на какой улице живешь? — повторила она как-то заданный в первую нашу встречу вопрос.
— На улице, где жил Владимир Владимирович? — ответил я, припоминая первый вечер.
— Поэт Кольцов, художница Ермолаева, публицист Анненский, академик Лихачев, — она называла фамилии, будто чеканила шаг, а в конце добавила, — стыдно, молодой человек, быть таким ограниченным.
Стащив с плиты ковшик со стремительно тающей шапкой молочной пены, она поспешила в комнату кормить кошку.
— Студент, а ты точно политолог? — гаркнул мужик и, не дожидаясь ответа, громко захрустел очередной жареной луковицей.
Я старался реже бывать дома, проводя дни напролет в аудиториях, библиотеках, читальных залах и бесконечных прогулках по городу, лишь бы не сталкиваться с мужиком и старухой, но все же радовался тому, что эта коммуналка была малонаселена, хотя и предполагал, что в многокомнатных лабиринтах некогда доходных домов, я чувствовал бы себя одним из, а не третьим лишним.
После того последнего разговора я специально полез в архив, дабы узнать, кто жил не просто на этой улице, а именно в этом доме. Оказалось, что прямо в этой квартире жил некий Карл Якович Ранд, некогда машинист парохода «Обь» Балтийского пароходства, после — репрессированный, и я долго смотрел на три буквы ВМН напротив его фамилии, не сразу сообразив, что именно они значат. А когда сообразил, то сразу представил, как смотрел Карл Якович в тот же дворик-колодец через пыльное стекло в муаровых разводах прямо из моей комнаты.
Так я понял, что мои аммониты никуда не делись, только приобрели новую форму. В шорохе шин я слышал отчетливый перестук деревянных колес и лошадиных копыт, в шагах прохожих — шелест пышных юбок, на вывесках проступала невидимая ять; как и прежде, я погружался в собственные мысли, а чтобы не утонуть в них совсем, воображал, что снимаю слои с окружающего меня пространства, как моток пленки разматываю годичные кольца у деревьев, как опытный геолог поднимаю пласты с земли: парадная тротуарная плитка, изъеденный временем асфальт, дробленая брусчатка мостовой, насыпная порода, зыбкая почва, болотистая топь…
А потом появилась Вера. Среди магистрантов, исповедующих науку, найти единоверца легко и одновременно сложно. Вы говорите на одном языке, используете одну и ту же терминологию, читаете одни и те же книги, ходите на одни и те же лекции, присутствуете на одних и тех же семинарах, а потом оказывается, что одному близки принципы капитализма, а другому — коммунизма. Вот и не сложилась дружба. Вера же смотрела на все эти споры через призму истории, не вставая ни на одну из сторон. А еще Вера изучала Революцию.
— Вер, а Вер, а ты за красных или за белых? — подшучивали над ней на конференциях.
— Не придерживаюсь оценочных суждений, — гордо отвечала Вера.
В этом и была вся она. Это мне в ней и нравилось.
Мы стали общаться после того, как у нее полетел ноутбук. Вернуть машину в строй было просто, но Вера так искренне меня благодарила, что я, давно отвыкший от доброго слова, был смущен.
— Работал когда-то сисадмином, — сказал я, запуская систему.
— Серьезно? — удивилась она.
Ее удивляло, что я переехал из Москвы в Петербург, променял крепкое офисное кресло на шаткий статус вольного слушателя, ушел от перспективного программного обеспечения в абстрактную науку… А я только отшучивался, не зная, как рассказать ей об истинных причинах этих перемен, хотя и понимал, что рано или поздно мне придется или сделать это, или свести общение к минимуму.
— Знаешь, — говорила мне Вера, — в жизни не пошла бы в науку, умей я что-нибудь другое. Но я не тяну ничего, кроме истории, вот и стараюсь изо всех сил.
В тот же вечер я провожал ее до Васильевского острова, где она жила. И Вера говорила так красиво, будто понаписанному или, наоборот, записывать хотелось за ней.
— Помнишь кадры из фильма Эйзенштейна? — спросила она, когда мы пересекали Дворцовую площадь. — Эти великолепные сцены штурма Зимнего! А ведь их многие принимали за документальную хронику…
Перед моими глазами отчетливо встали кадры с матросом, отважно карабкающимся по решетке главных ворот.
— Не было никакого штурма, — развела она руками, — задние входы дворца практически не охранялись, толпа просочилась через них и еще долго слонялась по залам, разыскивая комнату, где заседали министры, а те сидели в столовой…
Так я понял, что мы с Верой были на одной волне. В выходные мы долго слонялись с ней по залам Эрмитажа, где Вера рассказывала мне вовсе не об искусстве, а я смотрел совсем не на картины и явственно видел отпечатки ваксовых грубых сапог на холеной красной ковровой коже мраморных лестниц.
И на выходе я сказал Вере:
— Меня всегда удивляло то, с какой гордостью Александр III называл армию и флот единственными нашими верными союзниками. Ведь потом все вышло так, что его сына предал сначала флот, а потом и армия.
И Вера посмотрела на меня такими глазами, что я тут же получил негласный пропуск в ее «когорту избранных». Это была компания из тех ребят и девчат, что переехали в Питер не по расчету, а по любви. Их не связывало с этим городом ровным счетом ничего — ни семейные узы, ни высокооплачиваемая работа, ни радужные перспективы — но одновременно связывало столько, что они готовы были терпеть и затхлые чужие коммуналки, и извечную сырость колодцев, и околополярные ночи, и все остальное ради его призрачных, как утренний туман над Невой, иллюзий.
Они слушали песни известных только им исполнителей, смотрели фильмы, которые даже в категории арт-хауса считались нишевыми, читали все подряд, лишь бы иметь на то собственное мнение, и выглядели так, будто одним своим видом творили революцию над обыденностью. Таня работала вахтами на метеорологической станции в Шпицбергене, а в остальное время лечилась от депрессии. Степан с утра подрабатывал дворником, а после обеда писал диссертацию. Надежда учила музыке слабовидящих детей, пела в церковном хоре и одновременно в панк-рок группе. Дима рисовал детские мультики, периодически кодировался от алкоголизма и страдал по бывшей жене. Ильяс владел пушту, понимал хинди и перебивался случайными заработками. Сабина занималась благотворительностью и танцевала гоу-гоу. Артем работал на полставки декоратором в театре для души, клал плитку для заработка на жизнь. Каждый из них был по-своему счастлив и несчастен, богат и беден, одинок и одновременно нет. Должно быть, и я был одним из них.
А потом подходил поезд, я заходил в вагон и тут же забывал о том причудливом завитке на известняке стены, что на пару минут отправлял меня вглубь времен. Да и был ли тот завиток отпечатком древнего моллюска, а не игрой тени, излома породы и моего воображения.
Все закончилось, когда я перебрался в Петербург. Я снял комнатку в коммуналке в Басковом переулке, недалеко от Московского вокзала, и надолго забыл о существовании метро. Ирочка, у которой я переснимал эту комнату, поведала мне по секрету, что хозяйка не любит москвичей.
— Откуда будешь? — без лишних вступлений спросила та меня, едва я появился на пороге.
— Реутов, — ответил я.
Обманывать я не умел, впрочем, мне даже и не пришлось это делать — Москва начиналась через дорогу от моего дома, а сам я жил в области.
— Это Россия хоть? — строго спросила хозяйка, сощурив левый глаз.
Не ожидая такого вопроса, я только успел кивнуть.
Она мельком пролистала мой паспорт, задержав взгляд только на фотографии круглолицего парня в очках, коим когда-то был я, посмотрела в упор на меня, и будто сославшись на отсутствие сходства, сказала, что без очков все равно не разберет, но верит Ирочке, ведь Ирочка — хорошая девочка и плохого она не посоветует. Ирочка все это время загадочно улыбалась за ее спиной: меня она видела впервые, впрочем, как и я ее; я просто ответил на ее объявление о свободной комнате, которое репостнул кто-то из наших общих знакомых. Была и третья причина — хозяйка избегала уплаты налогов и сдавала комнату только по знакомству, будто только знакомство могло гарантировать ей ежемесячную арендную плату.
Комната была небольшой: скрипучий раскладной диван от стены до стены, трехногий стол у дивана, продавленный табурет под столом, дребезжащий старенький холодильник в углу и пыльное окно, глазеющее в замкнутое пространство двора. Я провел пальцем по стеклу, думая собрать слой прошлогодней пыли, но то, что я принял за пыль, было мутными стеклянными разводами, и я еще долго вглядывался в них и в искажения колодца за ними. Когда за хозяйкой захлопнулась дверь, я почувствовал себя головоногим моллюском, обосновавшимся в раковине по своему размеру — большее бы я не потянул. Теперь мне предстояло копошиться в тепловатых питерских водах.
Кроме меня здесь жили еще двое — неопределенного возраста старуха и такого же рода занятости мужик. К Ирочке они относились с той коммунальной нелюбовью, что граничит одновременно с презрением и услужливостью. Например, они как-то щедро пересыпали хлоркой Ирочкины сапожки, дабы туда не нагадила кошка. Кошка не нагадила, но сапожки пришлось выбросить. Ирочка съехала, а я унаследовал за ней не сколько эти добрососедские подвохи, сколько их ожидание, и с первого дня не оставлял за пределами своей раковины ничего — ни ботинок, ни куртки, ни кружки. Впрочем, ту кошку я так и не встретил.
Уходя, я запирал свою дверь на ключ, изнутри — на щеколду. И всегда прислушивался к шорохам в коридоре. Но меры предосторожности не всегда спасали, и стоило мне выйти на кухню, как туда подтягивались и они — обитатели коммунальных нор. И пока я возился с макаронами к ужину, старуха ставила на плитку ковшик с молоком, а мужик поджаривал на раскаленной сковороде головку лука целиком.
— Ты хотя бы знаешь, на какой улице живешь? — в первый же вечер спросила старуха.
Я ждал каких угодно вопросов от своих новоявленных соседей, готовый выдать придуманную загодя историю о себе, своей жизни и о том, как я оказался здесь с ними на одной кухне, но к такому странному в своей нелепости вопросу готов не был.
— Басков переулок? — я неуклюже сполз в вопросительную интонацию.
— На этой улице, — важно сказала она, — между прочим, вырос Владимир Владимирович. Стыдно, молодой человек, не знать этого.
И она с шумом втянула в себя молочную пенку с ложки так, что мне стало дурно.
— На кого учимся, студент? — гаркнул мне в ухо сосед.
Шум скворчащей луковицы на раскаленной сковородке заглушал остатки вежливости на этой кухне.
— На политолога, — прокричал я в ответ.
И мужик многозначительно гыкнул.
За неполный месяц соседства я узнал, как он бьет себя кулаком в грудь, когда говорит о службе в армии, и как снисходительно смотрит на меня, когда я отвечаю, что не прошел туда по состоянию здоровья. По его раскатистому «вечер в хату» я предполагал, что его прошлое ограничилось не только службой, но его ловкое цитирование Дюркгейма вперемешку с Марксом ставило под сомнение все мои догадки. Иногда он уходил из дома рано утром, а приходил поздно вечером, иной раз мог безвылазно сидеть в своей комнате несколько дней, обкладывая дверь пустыми бутылками, словно возводя вокруг баррикады. Нельзя было и разобрать, чем он занимается и на что живет, а узнать не представлялось возможным, так виртуозно он уходил от любых вопросов, которые я задавал в ответ на его любопытство о моей жизни.
Старуха же не спрашивала обо мне ничего, но изредка пускалась в воспоминания, в которых путалась в пространстве и времени, и ее истории о голодном блокадном детстве вдруг чередовались с тем, что она танцевала на выпускном вечере с Гагариным, а потом и вовсе ухали в пропасть дореволюционных годов.
— Ты хотя бы знаешь, на какой улице живешь? — повторила она как-то заданный в первую нашу встречу вопрос.
— На улице, где жил Владимир Владимирович? — ответил я, припоминая первый вечер.
— Поэт Кольцов, художница Ермолаева, публицист Анненский, академик Лихачев, — она называла фамилии, будто чеканила шаг, а в конце добавила, — стыдно, молодой человек, быть таким ограниченным.
Стащив с плиты ковшик со стремительно тающей шапкой молочной пены, она поспешила в комнату кормить кошку.
— Студент, а ты точно политолог? — гаркнул мужик и, не дожидаясь ответа, громко захрустел очередной жареной луковицей.
Я старался реже бывать дома, проводя дни напролет в аудиториях, библиотеках, читальных залах и бесконечных прогулках по городу, лишь бы не сталкиваться с мужиком и старухой, но все же радовался тому, что эта коммуналка была малонаселена, хотя и предполагал, что в многокомнатных лабиринтах некогда доходных домов, я чувствовал бы себя одним из, а не третьим лишним.
После того последнего разговора я специально полез в архив, дабы узнать, кто жил не просто на этой улице, а именно в этом доме. Оказалось, что прямо в этой квартире жил некий Карл Якович Ранд, некогда машинист парохода «Обь» Балтийского пароходства, после — репрессированный, и я долго смотрел на три буквы ВМН напротив его фамилии, не сразу сообразив, что именно они значат. А когда сообразил, то сразу представил, как смотрел Карл Якович в тот же дворик-колодец через пыльное стекло в муаровых разводах прямо из моей комнаты.
Так я понял, что мои аммониты никуда не делись, только приобрели новую форму. В шорохе шин я слышал отчетливый перестук деревянных колес и лошадиных копыт, в шагах прохожих — шелест пышных юбок, на вывесках проступала невидимая ять; как и прежде, я погружался в собственные мысли, а чтобы не утонуть в них совсем, воображал, что снимаю слои с окружающего меня пространства, как моток пленки разматываю годичные кольца у деревьев, как опытный геолог поднимаю пласты с земли: парадная тротуарная плитка, изъеденный временем асфальт, дробленая брусчатка мостовой, насыпная порода, зыбкая почва, болотистая топь…
А потом появилась Вера. Среди магистрантов, исповедующих науку, найти единоверца легко и одновременно сложно. Вы говорите на одном языке, используете одну и ту же терминологию, читаете одни и те же книги, ходите на одни и те же лекции, присутствуете на одних и тех же семинарах, а потом оказывается, что одному близки принципы капитализма, а другому — коммунизма. Вот и не сложилась дружба. Вера же смотрела на все эти споры через призму истории, не вставая ни на одну из сторон. А еще Вера изучала Революцию.
— Вер, а Вер, а ты за красных или за белых? — подшучивали над ней на конференциях.
— Не придерживаюсь оценочных суждений, — гордо отвечала Вера.
В этом и была вся она. Это мне в ней и нравилось.
Мы стали общаться после того, как у нее полетел ноутбук. Вернуть машину в строй было просто, но Вера так искренне меня благодарила, что я, давно отвыкший от доброго слова, был смущен.
— Работал когда-то сисадмином, — сказал я, запуская систему.
— Серьезно? — удивилась она.
Ее удивляло, что я переехал из Москвы в Петербург, променял крепкое офисное кресло на шаткий статус вольного слушателя, ушел от перспективного программного обеспечения в абстрактную науку… А я только отшучивался, не зная, как рассказать ей об истинных причинах этих перемен, хотя и понимал, что рано или поздно мне придется или сделать это, или свести общение к минимуму.
— Знаешь, — говорила мне Вера, — в жизни не пошла бы в науку, умей я что-нибудь другое. Но я не тяну ничего, кроме истории, вот и стараюсь изо всех сил.
В тот же вечер я провожал ее до Васильевского острова, где она жила. И Вера говорила так красиво, будто понаписанному или, наоборот, записывать хотелось за ней.
— Помнишь кадры из фильма Эйзенштейна? — спросила она, когда мы пересекали Дворцовую площадь. — Эти великолепные сцены штурма Зимнего! А ведь их многие принимали за документальную хронику…
Перед моими глазами отчетливо встали кадры с матросом, отважно карабкающимся по решетке главных ворот.
— Не было никакого штурма, — развела она руками, — задние входы дворца практически не охранялись, толпа просочилась через них и еще долго слонялась по залам, разыскивая комнату, где заседали министры, а те сидели в столовой…
Так я понял, что мы с Верой были на одной волне. В выходные мы долго слонялись с ней по залам Эрмитажа, где Вера рассказывала мне вовсе не об искусстве, а я смотрел совсем не на картины и явственно видел отпечатки ваксовых грубых сапог на холеной красной ковровой коже мраморных лестниц.
И на выходе я сказал Вере:
— Меня всегда удивляло то, с какой гордостью Александр III называл армию и флот единственными нашими верными союзниками. Ведь потом все вышло так, что его сына предал сначала флот, а потом и армия.
И Вера посмотрела на меня такими глазами, что я тут же получил негласный пропуск в ее «когорту избранных». Это была компания из тех ребят и девчат, что переехали в Питер не по расчету, а по любви. Их не связывало с этим городом ровным счетом ничего — ни семейные узы, ни высокооплачиваемая работа, ни радужные перспективы — но одновременно связывало столько, что они готовы были терпеть и затхлые чужие коммуналки, и извечную сырость колодцев, и околополярные ночи, и все остальное ради его призрачных, как утренний туман над Невой, иллюзий.
Они слушали песни известных только им исполнителей, смотрели фильмы, которые даже в категории арт-хауса считались нишевыми, читали все подряд, лишь бы иметь на то собственное мнение, и выглядели так, будто одним своим видом творили революцию над обыденностью. Таня работала вахтами на метеорологической станции в Шпицбергене, а в остальное время лечилась от депрессии. Степан с утра подрабатывал дворником, а после обеда писал диссертацию. Надежда учила музыке слабовидящих детей, пела в церковном хоре и одновременно в панк-рок группе. Дима рисовал детские мультики, периодически кодировался от алкоголизма и страдал по бывшей жене. Ильяс владел пушту, понимал хинди и перебивался случайными заработками. Сабина занималась благотворительностью и танцевала гоу-гоу. Артем работал на полставки декоратором в театре для души, клал плитку для заработка на жизнь. Каждый из них был по-своему счастлив и несчастен, богат и беден, одинок и одновременно нет. Должно быть, и я был одним из них.
И всякий раз, переступая порог их гостеприимной коммуналки на Васильевском острове, я еле скрывал свое восхищение этой свободой проживать выбранные роли, но сам занимал позицию наблюдателя; и хотя панцирь моей раковины был по-прежнему крепок, я был благодарен Вере за то, что хотя бы внешне не выгляжу одиноким.
Вера же чувствовала себя в своей стихии. Они постоянно что-то обсуждали и о чем-то спорили, много шутили, смеялись, были искренни и неподдельны, и походили то ли на героев молодежного фильма, то ли на участников ток-шоу, за которыми я мог наблюдать вечно, будто всякий раз узнавая их с новой стороны. И в первую очередь — саму Веру.
Вера была родом откуда-то из-под Вологды, название ее малой родины вылетело у меня из головы, оставив только то чувство безысходности, которое сквозило в ее голосе, когда она рассказывала о своей жизни там. Изредка она переходила при разговоре на свой вологодский говор, будто россыпью метала скачущие круглые бусины, и тут же снова стелила мягко по-петербургски, мол, смотрите, я могу и так, и так. Даже внешне она отличалась от всех остальных — приземистая, с крепкими лодыжками и круглыми плотными икрами — она не подходила под стандарты красоты, но была дико привлекательна, даже без макияжа и с выбивающимися прядями волос; она вся будто пышила солнцем и походила на девушек с картин Дейнеки.
Когда я понял, что больше не могу столько думать о Вере, то решил признаться ей, но она опередила меня, рассказав о Елисее. Елисей учился на факультете истории искусств, изучал монументальную живопись, специализировался на мексиканском мурализме, стажировался при галереях и писал статьи в журналы о современном искусстве. А еще у него были длинные и тонкие пальцы. Вера с таким придыханием рассказывала о нем, что мне сразу стало все ясно.
— Что бы ты подумал о девушке, которая призналась бы в своих чувствах первой? — мечтательно спросила она меня.
— Не знаю, — только и буркнул я.
— Ты такой забавный! — тысячей колокольчиков засмеялась Вера. - Старше меня, а жизни совсем не знаешь!
И хотя я был расстроен, но где-то внутри себя был рад, что мое признание не стало предметом конфуза между нами, и мы можем продолжать общаться, как раньше. Ну, а я переживу. Неразделенные чувства — не самое страшное, что случалось со мной. И лучше показаться забавным, чем оказаться некстати.
В ту пятницу Елисей был приглашен на гостеприимную кухню. Все было как всегда. Я грелся в разговорах ставшей мне привычной компании, изредка присоединяясь к неспешным беседам о религиозном фундаментализме или политическом радикализме, которые самым невероятным образом трансформировались в разговоры о классической японской живописи или нео-органической архитектуре. На кухне стоял насыщенный запах глинтвейна, который, впрочем, уже успел кончиться, а ароматы корицы и гвоздики еще долго висели в воздухе, но кто-то уже бежал за портвейном, кто-то вспоминал про початую бутылку коньяка и обещал пустить в ход оставленную прошлыми жильцами перцовку. В своей прежней жизни я приобрел весьма сомнительный для теплых компаний навык — пить и не пьянеть. Замаскировавшись портвейном на дне стакана, я наблюдал за всеми, словно сквозь толщу воды.
Вера и Елисей сидели на противоположном от меня углу стола.
— Знаешь, — говорила она ему, — меня всегда удивляли эти причудливые переплетения судьбы. Даже не то, как изгнанный из страны революционер добрался до берегов Мексики, где нашел свое временное пристанище в доме художника-муралиста, а то, с какой легкостью и простотой он умудрился закрутить роман с его женой — Фридой Кало. Ведь сложно было бы выдумать что-то более полярное, чем сюрреализм и социализм, коммунизм и примитивизм…
— Ничего удивительного, — отвечал Елисей, — Троцкий же был таким интересным харизматичным мужчиной.
И мне вдруг стало все ясно. Я мог поделиться своей догадкой с Верой, подать ей тайный знак, предостеречь от неловкости, но вместо этого пошел за портвейном.
Когда я вернулся, то все уже начали играть в странную игру, возможную только в порядком разгоряченной компании: каждый по очереди называет факт о себе, а остальные по трем наводящим вопросам должны догадаться — правда это или выдумка. Когда градус достигает нужной отметки, нельзя отделаться простыми историями о том, что прыгал с парашютом, был покусан бешеной собакой или тонул в бочке воды на даче. И в ход идут истории разной степени стыдливости — угнал мотоцикл старшего брата, занимался сексом втроем, выносил из магазина пельмени в шапке — то, что на трезвую голову и вспоминать не захочешь.
— Сколько пельменей?
— Пачка!
И кухня взрывалась дружным хохотом, мол, не мог бы соврать правдоподобнее?
А потом очередь дошла до меня.
— Я убил человека, — сказал я.
— Как? — тут же кинул кто-то вопрос.
— Задушил. Нет, утопил.
И кухня снова взорвалась дружным хохотом, мол, не мог бы придумать легенду заранее?
Громче всех тысячей колокольчиков звенела Вера.
— Ну какой же ты забавный! — воскликнула она.
Еще несколько сомнительных историй за общим столом — сожгла свадебное платье своей сестры, целовал на спор жабу, спустил всю зарплату в покер — вопросы в лоб и нелепые догадки могло ли это быть правдой или неудачной шуткой, ложью, вымыслом. А потом очередь дошла до Елисея.
— Мне никогда не нравились девушки, — сказал он.
И кто-то в углу закашлялся, будто поперхнулся.
— Ты говоришь это, чтобы привлечь женское внимание? — кокетливо спросила Вера.
— Нет.
Ту тишину, повисшую в только что искрящемся от шуток и смеха воздухе, можно было потрогать пальцами, настолько она заполнила собой кухню, и я тут же набрал ее полные карманы, чтобы всегда носить с собой про запас, держать при себе на всякий пожарный случай. А потом вечер снова потек по своему прежнему руслу, и только Вера, видимо перебрав портвейна, зачем-то долго шептала Елисею, прильнув к его плечу, что тот ее обманул, обманул, обманул, а он только кивал в ответ и гладил солнечные пряди ее волос своими длинными тонкими пальцами.
Я шел домой пешком через весь центр, рассчитывая тут же забраться в свою раковину и проспать там до полудня, но на пороге меня встретил мужик, будто ждал все это время специально, и долго и некрасиво уговаривал выпить с ним водки. Он был уже датый, и мне было неловко ему отказать, и я сел напротив него и даже отпил из рюмки, а потом отпил еще и еще, но в голове моей не помутилось ровным счетом ничего, и только запах выдал бы меня, да обжигающая горечь во рту. А когда я сел за стол, то увидел, что напротив меня сидит и разухабистый дембель, и незадавшийся бизнесмен, и понурый уголовник, немного философ и много поэт от прозы жизни, и говорит, говорит, говорит мне о том, как все может идти сначала легко и правильно, а потом пойти трагично и нелепо. Он смотрел на меня с таким выжиданием, будто передал мне эту эстафету хмельной откровенности, и ждал моей очереди изливаться и вскрывать свою жизнь, как нарыв. Но вместо этого я вспомнил вдруг о старухе. Окажись она на той гостеприимной кухне со своей не укладывающейся в пространственно-временной континуум жизнью, ее бы тут же рассекретили, раскрыли, выяснили всю подноготную, как есть. А меня — нет. И, значит, я еще держусь.
Но только я успел это подумать, как мужик гаркнул мне в ухо.
— Ну же, студент, ну! Я же знаю, ты что-то скрываешь!
И я, сославшись на усталость, ушел к себе в нору, закрыв на щеколду дверь.
— Зато ты не спился! — слышал я его отчаянное уже из-за закрытой двери.
Мне не спалось. Я смотрел в бездну нависающего потолка с тем смятением, с которым вглядываются в горизонт моряки сбившегося с курса корабля. Мой корабль сбился с курса два года назад, февральским вечером, когда я возвращался домой.
В тот день я задержался на работе допоздна, а до дома так и не добрался. Когда я повернул к пустырю, расчищенному под будущую стройку, то почувствовал, будто мне плеснули в затылок кипятка, а потом окунули в ледяную воду. И тут же чье-то сбивчивое дыхание ударило мне в лицо, чьи-то руки стали обшаривать мою куртку, чьи-то пальцы настойчиво копошились в моих карманах. Мои очки слетели в эту февральскую жидкую грязь, перемешанную пополам со снегом, и я не мог разглядеть его лица, но он не знал об этом. Пыхтя и ворочаясь, он вытащил что-то из своего кармана, а я пытался одновременно и вскочить, и выхватить у него это что-то из рук, но чувствовал только как горячо и липко становится пальцам. А когда мне показалось, что все уже кончено, он вдруг податливо поскользнулся, и я тут же неуклюже повалил его в ту самую лужу, где только что лежал сам. И взгромоздился сверху и, боясь упустить это жизненно необходимое превосходство, уперся коленом в его хрипящее горло, и давил обеими руками его ворочающуюся голову, и вдавливал его лицо, черты которого так и не смог разглядеть, в эту оттаявшую жижу. И тогда все действительно кончилось. Только не для меня, а для него. А для меня только началось.
Но даже когда он затих и перестал дергаться, я боялся выпустить его из рук, позвать на помощь, вызвать полицию, сделать, наконец, хоть что-то, и только смотрел, как расплываются в грязной воде красные пятна, не сразу сообразив, что это кровь с моих израненных пальцев. И даже когда приехала патрульная машина, и надо мной склонился сержант, я все равно боялся выпустить из рук и эту холодеющую голову, и это оказавшееся вдруг таким хрупким горло. Будто бы от того, разожму я свои, побелевшие от напряжения костяшки пальцев могло что-то зависеть, хотя с этого момента от меня не зависело уже ничего. Сержант что-то говорил мне и о чем-то спрашивал, а фельдшер из подоспевшей скорой помощи разжимал мои пальцы, тормошил, оттаскивал от этой лужи и этого лежащего в ней горой тела и снова тормошил, но я не понимал ничего и только смотрел на свои ладони, по которым сочилось густо и красно. И тогда меня вырвало. А потом еще и еще. Рвало, пока внутри не стало пусто, но не легче. Я слышал, как сержант, кивая в мою сторону, спрашивает у фельдшера, а не сотрясение ли это, а тот буднично кивает в ответ, мол, сначала зашить пальцы, а потом уже все остальное.
Заезженной пластинкой крутилось в голове ненужное и пошлое «я буду разговаривать только в присутствии своего адвоката», подслушанное давно в каком-то американском фильме, но вместо телефона адвоката, которого у меня никогда прежде не было, я набрал дрожащими руками единственно возможный номер. Будто только там меня могли понять, простить, спасти, найти и укрыть теплым одеялом, пока все это не покажется мне страшным сном.
— Мама, я убил человека.
И мама сначала ничего не поняла, а потом закричала натужно и дико.
Все, что было потом, смешалось в один огромный ком, утягивающим меня на дно моего персонального ада. Косые крестики швов поперек изрезанных пальцев, бесконечные длинные коридоры, нудные и методичные допросы, освидетельствования и экспертизы. Свидетель давал показания, что видел потасовку двоих у пустыря и вызвал полицию. Следователь переводил на человеческий язык заключение патологоанатома: грязь в носоглотке, вода в легких, перебит кадык. И раз за разом вставая, пятясь, защищаясь, падая и давя, я показывал на следствии, как же все это было.
— Иначе бы он убил меня.
Всем было очевидно, что это было убийство при превышении самообороны, но мне все равно светил срок. Я приучал себя к мысли, что он пролетит незаметно. Ведь я не чувствовал, как закончился этот роковой февраль, прошла долгожданная весна, кануло лето в лету, а расследование все шло. А за пределами его все шло еще хуже. Увольнение с работы задним числом. Девушка ушла, бросив напоследок, что не сможет делить постель с убийцей. Друзья все реже стали появляться в моей жизни. Отвернулись дальние, а потом и близкие родственники. И даже мама. В ее глазах страх за меня сменился страхом меня.
— Нам всем было бы проще, если бы на его месте был ты.
И когда расследование было завершено, мне вынесли приговор по 108-й статье и назначили полтора года лишения свободы. Но я подал апелляцию. И на следующем судебном заседании приговор был внезапно отменен.
Было учтено, что я защищался. Угроза жизни от удара кирпичом по затылку и ножевых ран была признана реальной, даже несмотря на то, что я отделался ушибом мягких тканей головы и изрезанными пальцами. Но самая главная моя защита крылась в нападавшем. Он вел меня от метро, еще с пересадки на Кольцевой. Был судим за кражу, но выпущен раньше срока по амнистии. И в момент нападения находился в состоянии наркотического опьянения.
Я остался на свободе, но у меня не осталось ни работы, ни друзей, ни семьи. Тот пустырь давно огородили строительным забором, за ним высился скелет монолита, шумела стройка. Жизнь вокруг шла своим чередом, моя же — осталась на дне той лужи. Я пробовал пить, но быстро перестал пьянеть. Ходил к психотерапевту, но тот назначал мне препараты, от которых я не чувствовал ничего, кроме апатии ко всему, а не только к тому, что случилось. Я обращался в церковь, но слышал там только то, что Бог не дает испытаний не по силам, и мне досталось испытание взять на себя чужой грех. А еще, что нужно уметь прощать. Я простил всех, кто предал меня, но прощать меня самого было некому. Ни алкоголь, ни психотерапевт, ни церковь не открывали пути возврата к прежней жизни. А еще мне упрямо казалось, что каждый в этом городе знает, что я — убийца.
Каждый день я ездил тем роковым маршрутом и обратно только затем, чтобы заново воспроизвести события того последнего дня моей прежней жизни, будто хотел вышибить клин клином. И каждый раз я думал о той доли вероятности, что предопределила исход. Я мог не задержаться на работе. Мог промедлить и не успеть на тот поезд. Мог зайти не в тот вагон. Мог пойти другой дорогой. Мог, мог, мог.
Параллельно в голове всплывали слова следователя, мол, парень, тебе еще повезло, кирпич задел тебя по касательной. Повезло, он поскользнулся и упал. Повезло, он был под наркотой. Повезло, сработала апелляция. Повезло, повезло, повезло.
И всякий раз, когда я прокручивал все это в голове, две линии вероятностного «мог» и случайного «повезло» вдруг сходились в одной точке — «на его месте мог быть я», координаты которой были озвучены не мной.
Вот и сейчас, разорвав ту череду повторений и вырвавшись из тех воспоминаний, я снова вернулся к ним уже в этой своей псевдо-новой жизни, которую я так наивно пытался построить, сбежав от всего, что напоминало мне о том времени, но только продолжаю раз за разом прокручивать все, что случилось со мной.
В комнате было так пронзительно тихо, что я открыл глаза, пораженный этой внезапной тишиной, расплескавшейся посреди привычного коммунального шума. В углу у дребезжащего старенького холодильника на продавленном табурете сидел мужчина в чистой опрятной форме со знаком двуглавого орла на груди. И я сразу узнал его.
— Зато ты остался жив, — сказал мне Карл Якович.
Не отличая яви от наваждения, я провалился в сон. Мне снилась та станция метро и отпечаток раковины древнего моллюска на ней, так напоминавший мне отпечатки собственных пальцев, которые снимали, не церемонясь, сразу после того, как наложили швы. Тогда я так и не придумал, что случилось с тем аммонитом, и как он оказался на дне под грудой осадочных пород. А я плыл и плыл, пытаясь выбраться со своего дна, куда так стремительно успел погрузиться. И только сейчас надо мной забрезжил слабый свет.
Я проснулся от звука гудка, будто рядом со мной проплыл пароход. Коммуналка была полна привычными звуками: громко спорил с кем-то мужик, гремела кастрюлями на кухне старуха, гудел вскипающий чайник. Мне говорили, что нужно уметь прощать. Но не сказали, что простить, в первую очередь, нужно самого себя. Даже за то, что остался жив.
Вера же чувствовала себя в своей стихии. Они постоянно что-то обсуждали и о чем-то спорили, много шутили, смеялись, были искренни и неподдельны, и походили то ли на героев молодежного фильма, то ли на участников ток-шоу, за которыми я мог наблюдать вечно, будто всякий раз узнавая их с новой стороны. И в первую очередь — саму Веру.
Вера была родом откуда-то из-под Вологды, название ее малой родины вылетело у меня из головы, оставив только то чувство безысходности, которое сквозило в ее голосе, когда она рассказывала о своей жизни там. Изредка она переходила при разговоре на свой вологодский говор, будто россыпью метала скачущие круглые бусины, и тут же снова стелила мягко по-петербургски, мол, смотрите, я могу и так, и так. Даже внешне она отличалась от всех остальных — приземистая, с крепкими лодыжками и круглыми плотными икрами — она не подходила под стандарты красоты, но была дико привлекательна, даже без макияжа и с выбивающимися прядями волос; она вся будто пышила солнцем и походила на девушек с картин Дейнеки.
Когда я понял, что больше не могу столько думать о Вере, то решил признаться ей, но она опередила меня, рассказав о Елисее. Елисей учился на факультете истории искусств, изучал монументальную живопись, специализировался на мексиканском мурализме, стажировался при галереях и писал статьи в журналы о современном искусстве. А еще у него были длинные и тонкие пальцы. Вера с таким придыханием рассказывала о нем, что мне сразу стало все ясно.
— Что бы ты подумал о девушке, которая призналась бы в своих чувствах первой? — мечтательно спросила она меня.
— Не знаю, — только и буркнул я.
— Ты такой забавный! — тысячей колокольчиков засмеялась Вера. - Старше меня, а жизни совсем не знаешь!
И хотя я был расстроен, но где-то внутри себя был рад, что мое признание не стало предметом конфуза между нами, и мы можем продолжать общаться, как раньше. Ну, а я переживу. Неразделенные чувства — не самое страшное, что случалось со мной. И лучше показаться забавным, чем оказаться некстати.
В ту пятницу Елисей был приглашен на гостеприимную кухню. Все было как всегда. Я грелся в разговорах ставшей мне привычной компании, изредка присоединяясь к неспешным беседам о религиозном фундаментализме или политическом радикализме, которые самым невероятным образом трансформировались в разговоры о классической японской живописи или нео-органической архитектуре. На кухне стоял насыщенный запах глинтвейна, который, впрочем, уже успел кончиться, а ароматы корицы и гвоздики еще долго висели в воздухе, но кто-то уже бежал за портвейном, кто-то вспоминал про початую бутылку коньяка и обещал пустить в ход оставленную прошлыми жильцами перцовку. В своей прежней жизни я приобрел весьма сомнительный для теплых компаний навык — пить и не пьянеть. Замаскировавшись портвейном на дне стакана, я наблюдал за всеми, словно сквозь толщу воды.
Вера и Елисей сидели на противоположном от меня углу стола.
— Знаешь, — говорила она ему, — меня всегда удивляли эти причудливые переплетения судьбы. Даже не то, как изгнанный из страны революционер добрался до берегов Мексики, где нашел свое временное пристанище в доме художника-муралиста, а то, с какой легкостью и простотой он умудрился закрутить роман с его женой — Фридой Кало. Ведь сложно было бы выдумать что-то более полярное, чем сюрреализм и социализм, коммунизм и примитивизм…
— Ничего удивительного, — отвечал Елисей, — Троцкий же был таким интересным харизматичным мужчиной.
И мне вдруг стало все ясно. Я мог поделиться своей догадкой с Верой, подать ей тайный знак, предостеречь от неловкости, но вместо этого пошел за портвейном.
Когда я вернулся, то все уже начали играть в странную игру, возможную только в порядком разгоряченной компании: каждый по очереди называет факт о себе, а остальные по трем наводящим вопросам должны догадаться — правда это или выдумка. Когда градус достигает нужной отметки, нельзя отделаться простыми историями о том, что прыгал с парашютом, был покусан бешеной собакой или тонул в бочке воды на даче. И в ход идут истории разной степени стыдливости — угнал мотоцикл старшего брата, занимался сексом втроем, выносил из магазина пельмени в шапке — то, что на трезвую голову и вспоминать не захочешь.
— Сколько пельменей?
— Пачка!
И кухня взрывалась дружным хохотом, мол, не мог бы соврать правдоподобнее?
А потом очередь дошла до меня.
— Я убил человека, — сказал я.
— Как? — тут же кинул кто-то вопрос.
— Задушил. Нет, утопил.
И кухня снова взорвалась дружным хохотом, мол, не мог бы придумать легенду заранее?
Громче всех тысячей колокольчиков звенела Вера.
— Ну какой же ты забавный! — воскликнула она.
Еще несколько сомнительных историй за общим столом — сожгла свадебное платье своей сестры, целовал на спор жабу, спустил всю зарплату в покер — вопросы в лоб и нелепые догадки могло ли это быть правдой или неудачной шуткой, ложью, вымыслом. А потом очередь дошла до Елисея.
— Мне никогда не нравились девушки, — сказал он.
И кто-то в углу закашлялся, будто поперхнулся.
— Ты говоришь это, чтобы привлечь женское внимание? — кокетливо спросила Вера.
— Нет.
Ту тишину, повисшую в только что искрящемся от шуток и смеха воздухе, можно было потрогать пальцами, настолько она заполнила собой кухню, и я тут же набрал ее полные карманы, чтобы всегда носить с собой про запас, держать при себе на всякий пожарный случай. А потом вечер снова потек по своему прежнему руслу, и только Вера, видимо перебрав портвейна, зачем-то долго шептала Елисею, прильнув к его плечу, что тот ее обманул, обманул, обманул, а он только кивал в ответ и гладил солнечные пряди ее волос своими длинными тонкими пальцами.
Я шел домой пешком через весь центр, рассчитывая тут же забраться в свою раковину и проспать там до полудня, но на пороге меня встретил мужик, будто ждал все это время специально, и долго и некрасиво уговаривал выпить с ним водки. Он был уже датый, и мне было неловко ему отказать, и я сел напротив него и даже отпил из рюмки, а потом отпил еще и еще, но в голове моей не помутилось ровным счетом ничего, и только запах выдал бы меня, да обжигающая горечь во рту. А когда я сел за стол, то увидел, что напротив меня сидит и разухабистый дембель, и незадавшийся бизнесмен, и понурый уголовник, немного философ и много поэт от прозы жизни, и говорит, говорит, говорит мне о том, как все может идти сначала легко и правильно, а потом пойти трагично и нелепо. Он смотрел на меня с таким выжиданием, будто передал мне эту эстафету хмельной откровенности, и ждал моей очереди изливаться и вскрывать свою жизнь, как нарыв. Но вместо этого я вспомнил вдруг о старухе. Окажись она на той гостеприимной кухне со своей не укладывающейся в пространственно-временной континуум жизнью, ее бы тут же рассекретили, раскрыли, выяснили всю подноготную, как есть. А меня — нет. И, значит, я еще держусь.
Но только я успел это подумать, как мужик гаркнул мне в ухо.
— Ну же, студент, ну! Я же знаю, ты что-то скрываешь!
И я, сославшись на усталость, ушел к себе в нору, закрыв на щеколду дверь.
— Зато ты не спился! — слышал я его отчаянное уже из-за закрытой двери.
Мне не спалось. Я смотрел в бездну нависающего потолка с тем смятением, с которым вглядываются в горизонт моряки сбившегося с курса корабля. Мой корабль сбился с курса два года назад, февральским вечером, когда я возвращался домой.
В тот день я задержался на работе допоздна, а до дома так и не добрался. Когда я повернул к пустырю, расчищенному под будущую стройку, то почувствовал, будто мне плеснули в затылок кипятка, а потом окунули в ледяную воду. И тут же чье-то сбивчивое дыхание ударило мне в лицо, чьи-то руки стали обшаривать мою куртку, чьи-то пальцы настойчиво копошились в моих карманах. Мои очки слетели в эту февральскую жидкую грязь, перемешанную пополам со снегом, и я не мог разглядеть его лица, но он не знал об этом. Пыхтя и ворочаясь, он вытащил что-то из своего кармана, а я пытался одновременно и вскочить, и выхватить у него это что-то из рук, но чувствовал только как горячо и липко становится пальцам. А когда мне показалось, что все уже кончено, он вдруг податливо поскользнулся, и я тут же неуклюже повалил его в ту самую лужу, где только что лежал сам. И взгромоздился сверху и, боясь упустить это жизненно необходимое превосходство, уперся коленом в его хрипящее горло, и давил обеими руками его ворочающуюся голову, и вдавливал его лицо, черты которого так и не смог разглядеть, в эту оттаявшую жижу. И тогда все действительно кончилось. Только не для меня, а для него. А для меня только началось.
Но даже когда он затих и перестал дергаться, я боялся выпустить его из рук, позвать на помощь, вызвать полицию, сделать, наконец, хоть что-то, и только смотрел, как расплываются в грязной воде красные пятна, не сразу сообразив, что это кровь с моих израненных пальцев. И даже когда приехала патрульная машина, и надо мной склонился сержант, я все равно боялся выпустить из рук и эту холодеющую голову, и это оказавшееся вдруг таким хрупким горло. Будто бы от того, разожму я свои, побелевшие от напряжения костяшки пальцев могло что-то зависеть, хотя с этого момента от меня не зависело уже ничего. Сержант что-то говорил мне и о чем-то спрашивал, а фельдшер из подоспевшей скорой помощи разжимал мои пальцы, тормошил, оттаскивал от этой лужи и этого лежащего в ней горой тела и снова тормошил, но я не понимал ничего и только смотрел на свои ладони, по которым сочилось густо и красно. И тогда меня вырвало. А потом еще и еще. Рвало, пока внутри не стало пусто, но не легче. Я слышал, как сержант, кивая в мою сторону, спрашивает у фельдшера, а не сотрясение ли это, а тот буднично кивает в ответ, мол, сначала зашить пальцы, а потом уже все остальное.
Заезженной пластинкой крутилось в голове ненужное и пошлое «я буду разговаривать только в присутствии своего адвоката», подслушанное давно в каком-то американском фильме, но вместо телефона адвоката, которого у меня никогда прежде не было, я набрал дрожащими руками единственно возможный номер. Будто только там меня могли понять, простить, спасти, найти и укрыть теплым одеялом, пока все это не покажется мне страшным сном.
— Мама, я убил человека.
И мама сначала ничего не поняла, а потом закричала натужно и дико.
Все, что было потом, смешалось в один огромный ком, утягивающим меня на дно моего персонального ада. Косые крестики швов поперек изрезанных пальцев, бесконечные длинные коридоры, нудные и методичные допросы, освидетельствования и экспертизы. Свидетель давал показания, что видел потасовку двоих у пустыря и вызвал полицию. Следователь переводил на человеческий язык заключение патологоанатома: грязь в носоглотке, вода в легких, перебит кадык. И раз за разом вставая, пятясь, защищаясь, падая и давя, я показывал на следствии, как же все это было.
— Иначе бы он убил меня.
Всем было очевидно, что это было убийство при превышении самообороны, но мне все равно светил срок. Я приучал себя к мысли, что он пролетит незаметно. Ведь я не чувствовал, как закончился этот роковой февраль, прошла долгожданная весна, кануло лето в лету, а расследование все шло. А за пределами его все шло еще хуже. Увольнение с работы задним числом. Девушка ушла, бросив напоследок, что не сможет делить постель с убийцей. Друзья все реже стали появляться в моей жизни. Отвернулись дальние, а потом и близкие родственники. И даже мама. В ее глазах страх за меня сменился страхом меня.
— Нам всем было бы проще, если бы на его месте был ты.
И когда расследование было завершено, мне вынесли приговор по 108-й статье и назначили полтора года лишения свободы. Но я подал апелляцию. И на следующем судебном заседании приговор был внезапно отменен.
Было учтено, что я защищался. Угроза жизни от удара кирпичом по затылку и ножевых ран была признана реальной, даже несмотря на то, что я отделался ушибом мягких тканей головы и изрезанными пальцами. Но самая главная моя защита крылась в нападавшем. Он вел меня от метро, еще с пересадки на Кольцевой. Был судим за кражу, но выпущен раньше срока по амнистии. И в момент нападения находился в состоянии наркотического опьянения.
Я остался на свободе, но у меня не осталось ни работы, ни друзей, ни семьи. Тот пустырь давно огородили строительным забором, за ним высился скелет монолита, шумела стройка. Жизнь вокруг шла своим чередом, моя же — осталась на дне той лужи. Я пробовал пить, но быстро перестал пьянеть. Ходил к психотерапевту, но тот назначал мне препараты, от которых я не чувствовал ничего, кроме апатии ко всему, а не только к тому, что случилось. Я обращался в церковь, но слышал там только то, что Бог не дает испытаний не по силам, и мне досталось испытание взять на себя чужой грех. А еще, что нужно уметь прощать. Я простил всех, кто предал меня, но прощать меня самого было некому. Ни алкоголь, ни психотерапевт, ни церковь не открывали пути возврата к прежней жизни. А еще мне упрямо казалось, что каждый в этом городе знает, что я — убийца.
Каждый день я ездил тем роковым маршрутом и обратно только затем, чтобы заново воспроизвести события того последнего дня моей прежней жизни, будто хотел вышибить клин клином. И каждый раз я думал о той доли вероятности, что предопределила исход. Я мог не задержаться на работе. Мог промедлить и не успеть на тот поезд. Мог зайти не в тот вагон. Мог пойти другой дорогой. Мог, мог, мог.
Параллельно в голове всплывали слова следователя, мол, парень, тебе еще повезло, кирпич задел тебя по касательной. Повезло, он поскользнулся и упал. Повезло, он был под наркотой. Повезло, сработала апелляция. Повезло, повезло, повезло.
И всякий раз, когда я прокручивал все это в голове, две линии вероятностного «мог» и случайного «повезло» вдруг сходились в одной точке — «на его месте мог быть я», координаты которой были озвучены не мной.
Вот и сейчас, разорвав ту череду повторений и вырвавшись из тех воспоминаний, я снова вернулся к ним уже в этой своей псевдо-новой жизни, которую я так наивно пытался построить, сбежав от всего, что напоминало мне о том времени, но только продолжаю раз за разом прокручивать все, что случилось со мной.
В комнате было так пронзительно тихо, что я открыл глаза, пораженный этой внезапной тишиной, расплескавшейся посреди привычного коммунального шума. В углу у дребезжащего старенького холодильника на продавленном табурете сидел мужчина в чистой опрятной форме со знаком двуглавого орла на груди. И я сразу узнал его.
— Зато ты остался жив, — сказал мне Карл Якович.
Не отличая яви от наваждения, я провалился в сон. Мне снилась та станция метро и отпечаток раковины древнего моллюска на ней, так напоминавший мне отпечатки собственных пальцев, которые снимали, не церемонясь, сразу после того, как наложили швы. Тогда я так и не придумал, что случилось с тем аммонитом, и как он оказался на дне под грудой осадочных пород. А я плыл и плыл, пытаясь выбраться со своего дна, куда так стремительно успел погрузиться. И только сейчас надо мной забрезжил слабый свет.
Я проснулся от звука гудка, будто рядом со мной проплыл пароход. Коммуналка была полна привычными звуками: громко спорил с кем-то мужик, гремела кастрюлями на кухне старуха, гудел вскипающий чайник. Мне говорили, что нужно уметь прощать. Но не сказали, что простить, в первую очередь, нужно самого себя. Даже за то, что остался жив.



