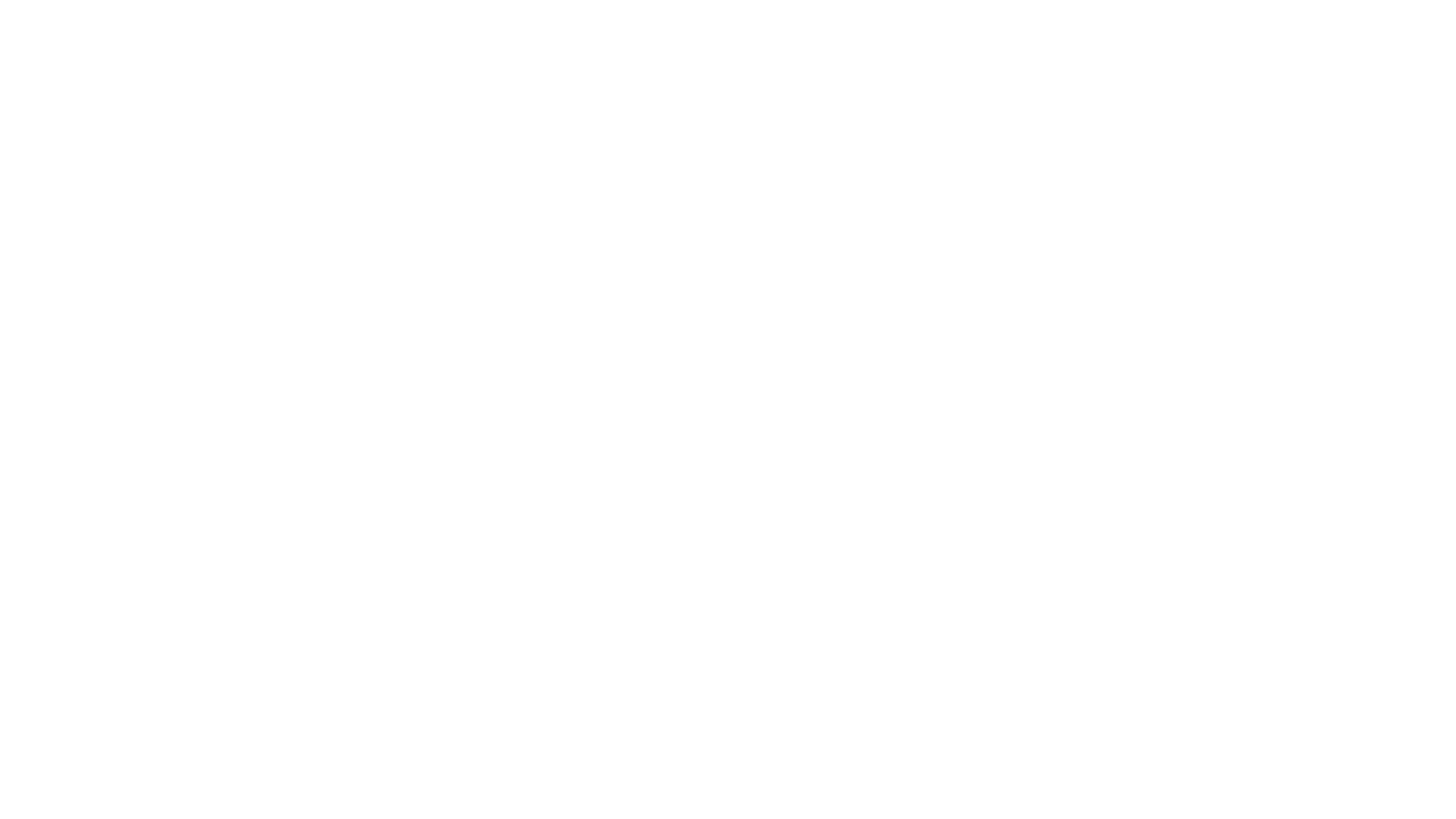
Ольга Денега — Дымка
Ольга Денега — редактор, копирайтер. Бронзовый призёр Кубка Балтии по русской поэзии. Призёр Международного Волошинского конкурса.Шорт-листер конкурса 45-я параллель. Шорт-листер конкурса "Русский Гофман". Золотой призёр Кубков Поэмбука. Публикации в журналах "Урал", "Юность", "Иностранец", региональной прессе. Участвовала в проекте "Русское безрубежье". Многодетная мать, лауреат ордена "Родительская слава". Живёт в Москве.
Ленка, наткнувшаяся босой ногой на велюровое и мёртвое, взвизгнула и вскочила, опрокинув чашку с кофе.
Мать заглянула под стол. Под столом лежала упитанная мышь брюхом кверху.
— Дымка! — рассердилась мать. — Опять за своё?!!
Дымка, крупная серая кошка, прекратила вылизывать лапу, недобро зыркнула на мать глазами цвета подгнившего крыжовника — и прошествовала к двери, задрав роскошный хвост.
— Мам, — Лена зашуровала тряпкой по мокрому столу, — нельзя ей как-то... запретить? Тащит и тащит. То мышей, то синиц. А дети хоронят и хоронят. То мышей, то синиц. То лягушек. У нас скоро будет не дачный участок, пятнадцать соток, а «Клатбище домашних животных» Стивена Кинга.
— Как я могу запретить? У неё охотничий инстинкт, — мать подошла к плите, перевернула гренки, проверила омлет, — и она, наверное, чувствует, что я её не люблю, и откупается. Дань несёт. Туда, где я чаще всего бываю. Позавчера в теплице задушенного крота нашла. Хочешь ещё греночку? Нет? Не буди детей, пускай ещё поспят. Я в огород, к помидорам, — и ушла, слегка закашлявшись на пороге.
Сквозь полураскрытые пейзанские занавесочки в летнюю кухню лезло июньское солнце. Возле оконного стекла трепетала прелестная хилая лимонница. Звенели птицы, жужжала газонокосилка. День обещал быть светлым и длинным, как в детстве. Ленка зажмурилась, потянулась, шикнула на Дымку, невесть как оказавшуюся на холодильнике, и насыпала: в свою чашку — дряни от Нескафе, в плошку Дымки — дряни от Вискаса. Дымка понюхала воздух возле Вискаса и презрительно фыркнула.
— Ну и дура, — сказала Ленка и отпила кофе.
Дымку маме подарила пожилая взбалмошная приятельница. В международный женский день ворвалась в квартиру с бутылкой домашней смородиновой наливки и обувной коробкой, в которой шебуршало и пищало.
— Нет, — сказала мама коробке, — нет и ещё раз — нет.
— Наташа! — страстно заговорила приятельница. — Ты только взгляни: дивное дитя! Моя девственная, моя святая Астория согрешила с дворовым мужчиной. А она, Астория, между прочим, русская голубая!
— Да хоть африканская фиолетовая. Нет.
— Да ты взгляни! — приятельница приоткрыла коробку. Из коробки высунулась маленькая треугольная морда, посередине — белая звезда, как у телёнка на ферме.
— А?! — восторженно воскликнула приятельница. — Девка! Красавица! Дитя порока! Почти русская, почти голубая! Неси рюмки, выпьем за нас, красавиц!
Мама обречённо полезла в сервант.
Она была нормальной женщиной. Она любила покойного мужа, дочку Ленку, внуков — Тёму и Марусю. Даже шебутную подругу-кошатницу любила. Дымку, со временем выросшую в красивую характерную кошку, она полюбить не смогла. Покупала корм и наполнитель для лотка, вычёсывала колтуны, гладила между ушей, когда Дымка — изредка — мягко вспрыгивала на хозяйские колени. Преодолевая колоссальное сопротивление, трамбовала в переноску, везла на дачу. Всё механически.
...Приближался июль. Ленка стала замечать, что мама сильно устаёт, почти постоянно сухо кашляет, вечерами шуршит таинственными блистерами с таблетками.
— Мам, — как-то решилась Ленка, — ты плохо себя чувствуешь? Вон бледная какая. Весь день на воздухе, а бледная.
— Не выдумывай.
На мамину терраску просочилась Дымка, потёрлась спиной о мамины ноги, затарахтела. Мама машинально поднесла к Дымкиной спине руку — и тут же отдёрнула, пробормотав: «Вся в репьях, не вычешешь — только выстригать; по каким оврагам тебя носит, наказанье божье?»
— Мама! — Ленка возвысила голос. — Я записала тебя к терапевту, послезавтра поедем. Анализы, кардиограмма, КТ... Детей Валера заберёт, они по отцу соскучились.
— Я здорова, — упрямо сказала мать и сипло закашлялась, прикрывая рот ладонью.
— Как корова, — мрачно констатировала Ленка, — никаких возражений, послезавтра едем в город.
— А если я?.. а её куда?.. с собой взять? Её-то Валера не сможет забрать, не справится: она ему глаза выцарапает, хотя, наверное, поделом, — вдруг всполошилась мать, отпихивая от себя Дымку.
— Мама!! Я тебе про Фому — ты мне про Дыму! «Если, если»... не помрёт твоя кошка! Оставим ей ведро воды и ведро Вискаса. А ведро кротов на десерт она себе сама накопает!
Болезнь с несерьёзным куцым названием, полгода назад казавшаяся чушью несусветной родом из
Поднебесной и газетной уткой по-пекински... незнакомая болезнь циркулем чертила малые круги внутри большого, каждый новый круг — меньше предыдущего. Сначала болели люди за семью морями. Затем — соотечественники с противоположного берега реки. Затем — соседи по дому из соседнего подъезда. Ленка, узнав о смерти одноклассника — тот, блондинистый Майк Тайсон с железной мускулатурой и перманентным ЗОЖ, сгорел от ковида за две недели — побежала вакцинироваться, прихватив и безвольного Валеру. Мать, не жалующая официальную медицину, долго ругалась на двух идиотов, добровольно нанёсших непоправимый вред своему здоровью.
Спустя несколько месяцев угрюмый рентгенолог сообщил, что у матери поражены и правое, и левое лёгкое, правое — на сорок процентов, левое — на десять, но тоже ничего хорошего. Чуть позже не менее угрюмый терапевт помахал перед Ленкиным носом бланком с положительным тестом на ковид и сказал: «Что ж вы, милочка, так родственницу запустили? Надо было обращаться при первых признаках! Госпитализируем».
Ленка, глотая слёзы, доехала до городской квартиры матери, собрала какой‐то её нехитрый скарб: ночнушку, носки, халат, сборник судоку; забежала в супермаркет в цоколе, накупила продуктов как на роту солдат — и вернулась в больницу, в приёмное ковидного отделения,
где медсестра в космическом костюме приняла у Ленки две объёмных сумки, на каждой стикер: фамилия и номер палаты. Избавившись от баулов, Ленка на негнущихся ногах вышла на больничное крыльцо. Цвела липа: нежно и странно пахло дезинфекцией, пылью, липовым цветом, выхлопным газом.
— Мам, — сказала Ленка в смартфон, — меня к тебе не пускают. Ты как?
— Нормально, — слабым голосом ответила мать, — но температура тридцать восемь и пять. Наверное, оттого, что в палате душно. Мы Дымке ни одного ведра не оставили.
Ленка чертыхнулась и побежала к машине.
Дача встретила ватной тишиной. Даже птицы почему-то молчали. Может, к дождю. Лена долго ходила по участку, кискиская и приговаривая на материнский манер: «По каким оврагам тебя носит?!» Дымка не откликалась. Ленка притащила с кухни и веранды Дымкины плошки, подумав, добавила к плошкам старых негодных тарелок — и, наполнив все ёмкости сухим кормом и колодезной водой, расставила их там и сям по огороду и по газону. Мелькнула мысль «а вдруг дождь или соседский кот?», но Ленка шуганула эту мысль, как, собственно, гипотетического соседского кота, проверила все замки и запоры и завела машину.
От маминой квартиры до горбольницы — полторы минуты. От маминой дачи до горбольницы — полтора часа.
Следующие пару недель Ленка жила в материнской подмосковной квартире, по несколько раз на дню мотаясь в больницу с творожком из фермерской лавки, булочкой из пекарни, журналом, полными светских сплетен и рецептов лечо из перца болгарского и моркови каротель. Палатные врачи постоянно менялись — но каждый из них в телефонных разговорах касательно состояния больной такой-то был неоптимистичен. Ленка звонила матери и с ужасом понимала: из мамы будто бы постепенно выкручивают лампочки: сначала стоваттные, уличного формата, затем сорокаваттные — для настольных ламп; и, если так дальше пойдёт, скоро и слабенькие восковые свечи зачадят и потухнут. Ленка дежурила у больницы, дожидаясь, когда из ковидного выйдет дежурный врач; дождавшись, хватала за руки, заглядывала в глаза, лепетала о лучших лекарствах и о любых деньгах, выслушивала отрезвляющее «девушка, не мешайте работать» — и следующим вечером снова заступала на безнадёжное дежурство.
Валера взял официальный отпуск (в отличие от дистанционной Ленки он работал очно) и сидел с детьми. Раз в три дня он, мужик сугубо урбанистический, нехотя ездил на тёщину дачу — проверял, проветривал, поливал. Ломая выпестованные плети, собирал огурцы. Рапортовал: «Маруська прыгает на батуте, Тёма лезет на яблоню, смородина осыпалась, перец болгарский сдох, я не знаю, что такое каротель, Лен; Маруська и Тёмка ищут кошку, нет, не нашли, наверняка сбежала. Лен, мы поехали домой, ты же знаешь — я не люблю здесь ночевать; завтра идём в Парк Горького, каникулы всё-таки». И с облегчением возвращался в Москву.
Однажды мать не взяла трубку. «Спит», — решила Ленка. Безрезультатно перезвонила через час. Набрала номер ординаторской. «В реанимации, на ИВЛ, стабильно тяжёлая», — ответили ей.
Ленка опустилась на скамейку. Посмотрела вверх. По высокому небу, обрамлённому кружевом начинающей жухнуть листвы, головокружительно медленно двигался маленький самолётик. Ленка некстати вспомнила, что давно хотела свозить маму в Турцию: чтобы мама, вырядившись в слитный купальник в милую полоску и забыв про трёхлитровые банки для консервации, осторожно входила в прозрачное море, потом долго и красиво плыла до буйков и обратно, потом, нахлобучив соломенную шляпу и сетуя на обгоревший нос, ела горячие гёзлеме, запивая их холодным вином. Господи, какое холодное слово — ивээл.
Позвонил Валера с жалобой на карданный вал:
«Ленусь, я машину в сервис ставлю, на дачу ездить в ближайшее время не смогу: на электричке не наездишься». «Какой вал, — заорала Ленка, — когда и-вэ-эл!!! и-вэ-эл!!! мама в реанимации!!!» И нажала отбой. Притащившись домой, Ленка перезвонила Валере, сухо извинилась, поболтала с детьми о пустяках, и зачем-то начала тереть губкой с порошком настенную плитку; смахнула на пол стеклянный контейнер с крупой, поранила ногу, посмотрела на кровь, пунктирными каплями кропящую рис — и запрыгала на одной ноге в поисках перекиси и пластыря. Потом подумала: я ещё ничего; если я дам охраннику, может, он пустит в реанимацию? Потом подумала: маму скоро — да! скоро! — выпишут, ей будет приятна идеально убранная квартира. Нашла в интернете телефон местного клининга. Договорилась. Открыла рабочие файлы, посчитала смету, не очень соображая, что за смета и кого ею следует осчастливить. Вникла, пересчитала, отправила. В очередной раз мысленно поблагодарила работодателя: не будь в эти дни рабочей рутины, свихнулась бы. Кое-как подмела пол, нашла на дверце холодильника едва початую бутылку — тетьКать, вечно ты со своей алкогольной самодеятельностью! — отхлебнула крепкого, пахнущего черноплодкой, пойла. Сморщилась и выпила залпом почти полбутылки. Вспомнила про охранника, заржала, отпила из бутылки ещё пару глотков. Рухнула на диван, задрав пораненную ногу на диванную подушку. Нырнула в телефонную галерею: мама с пионами, мама с Маруськой, Тёма, улыбаясь щербатым ртом, держит на напряжённо вытянутых руках Дымку: Тёмка Дымку обожал, она не отвечала ему взаимностью, но изредка позволяла некоторые вольности. Лена отбросила телефон, всхлипнула: «Ещё и ты! ты, ты, сучка хвостатая! где ты шляешься?!» — и заснула мутным сном.
И несколько дней существовала словно бы в похмельном полусне: поругалась и помирилась с клининговой тёткой, съездила в Москву, к своим, — наготовила кастрюль, сводила Тёмку в парикмахерскую, Марусю — к стоматологу, доделала отчёт для строительной компании... всё в полупохмелье, в полусне, отчаянно боясь пяти часов пополудни: с пяти до шести надо было звонить в реанимацию. В реанимации стандартно отвечали: стабильно тяжёлая. И, предупреждая лепет, стандартно отрезали: девушка, не мешайте работать. Ленка выдыхала: жива. И проваливалась в вечер, и так по кругу, по кругу, по малому кругу, обозначенному стальным циркулем.
Пока в реанимации не ответили: нормализовали, перевели в палату.
Ленка на мгновение умерла от счастья. Подышала открытым ртом, как собака. Досчитала до десяти и набрала мамин номер.
— Мама, как ты?
— Ленка? — голос был предельно минорный и тихий, как шелест липовой листвы в распахнутом окне; в Ленкиной башке сразу возникла прописная истина — «мама мыла раму».
Ленка прочистила горло и сказала:
— Мам, мы рамы... окна помыли. Сначала баба из клининга, потом я. Потому что после бабы остались разводы.
— Лена? Какие бабы, какие разводы? Что ты мелешь? Ты не в себе?
— Не в себе. Мам, я волновалась. Очень.
— Нечего волноваться. Вытащили с того света — и ладно. Кстати, много новых слов выучила. Например, альвеола и сатурация. Надо было Дымку Сатурацией назвать. Мать — Астория, дочь — Сатурация. И бабка — Катерина Ивановна, господи прости. Дымку кормили? Дети здоровы?
— Дети здоровы. Дымку, — Лена осеклась, — кормили. Дымка тоже здорова. Мамочка, отдыхай. Я попозже позвоню.
Ленка метнулась в кладовку — при уборке они с бабой обнаружили в кладовке мешок кошачьей еды. Выскочила к машине, бросила мешок на заднее сиденье. Резко крутанула ключ зажигания. Машина
драматично молчала. «Давай, давай, колымага», — злобно шептала Ленка, поворачивая и поворачивая ключ. Машина наконец чихнула и отозвалась.
До дачи Ленка донеслась за полчаса, нарушив все возможные ПДД и заработав штрафов на немыслимые тыщи рублей.
Дачный участок одичал, распоясался, зарос сорной травой. Но на клумбе дистрофичные мальвы тянули ввысь шеи, готовясь зацвести. И по перголам полз клематис, и к корявым рукам яблонь жались похожие на кукиши яблоки, кислые даже на вид. Ленка сглотнула слюну и на всякий случай заглянула внутрь клумбы: вдруг именно там спряталась чёртова Сатурация.
Дымки в клумбе не было.
Лена побрела по участку, тряся мешком (голодная кошка иногда прибегала на шорох гранул) и выкрикивая на все лады: «Дыма? Дымка! Сучка хвостатая, кс-кс-кс-кс! Дымка!» Споткнувшись о скрытую травой кошачью плошку, неловко, боком упала на мокрый после недавнего дождя газон. Встала, с отвращением отряхнулась. Из-за забора высунулась любопытная бальзаковская соседка:
— Ленок? Давно твоих не было. Маму выписали?
— Скоро выпишут, — пообещала Ленка, потирая ушибленный бок, — ты кошку нашу не видела?
— Фурию-то? Не, как она моему Тишке задницу надрала — с тех пор и не видела. А Тишку после к ветеринару возили. Почти месяц и не видела, значит.
— Она не фурия, — горько усмехнулась Ленка, — она Сатурация.
И похромала на задний двор, к теплице: мамины помидорные кусты наверняка погибли, но, может быть, удастся спасти хотя бы толику урожая.
Дохромала и обомлела: цементный приступок теплицы был завален гниющими звериными трупиками. Ленка, борясь с тошнотой, всмотрелась: несколько мышей, крыса, небольшой ёж, какие-то полуразложившиеся птички...
— Дымка? — севшим голосом позвала Ленка. И потрясла мешком.
И из-за теплицы выглянула Дымка. Принюхалась, приблизилась. И затарахтела.
Ленка глядела на вившуюся у её коленок грязную, худую, постаревшую на несколько веков кошку с порванным ухом и всклокоченной шерстью — и рыдала:
— Дымочка. Ты знала. Знала. Ты, сучка, дань носила. Жертвенную дань. Вот же дууура... Дымочка моя. Сатурация чёртова. Наказанье божье. Дура.... дууура моя родная.
Мать заглянула под стол. Под столом лежала упитанная мышь брюхом кверху.
— Дымка! — рассердилась мать. — Опять за своё?!!
Дымка, крупная серая кошка, прекратила вылизывать лапу, недобро зыркнула на мать глазами цвета подгнившего крыжовника — и прошествовала к двери, задрав роскошный хвост.
— Мам, — Лена зашуровала тряпкой по мокрому столу, — нельзя ей как-то... запретить? Тащит и тащит. То мышей, то синиц. А дети хоронят и хоронят. То мышей, то синиц. То лягушек. У нас скоро будет не дачный участок, пятнадцать соток, а «Клатбище домашних животных» Стивена Кинга.
— Как я могу запретить? У неё охотничий инстинкт, — мать подошла к плите, перевернула гренки, проверила омлет, — и она, наверное, чувствует, что я её не люблю, и откупается. Дань несёт. Туда, где я чаще всего бываю. Позавчера в теплице задушенного крота нашла. Хочешь ещё греночку? Нет? Не буди детей, пускай ещё поспят. Я в огород, к помидорам, — и ушла, слегка закашлявшись на пороге.
Сквозь полураскрытые пейзанские занавесочки в летнюю кухню лезло июньское солнце. Возле оконного стекла трепетала прелестная хилая лимонница. Звенели птицы, жужжала газонокосилка. День обещал быть светлым и длинным, как в детстве. Ленка зажмурилась, потянулась, шикнула на Дымку, невесть как оказавшуюся на холодильнике, и насыпала: в свою чашку — дряни от Нескафе, в плошку Дымки — дряни от Вискаса. Дымка понюхала воздух возле Вискаса и презрительно фыркнула.
— Ну и дура, — сказала Ленка и отпила кофе.
Дымку маме подарила пожилая взбалмошная приятельница. В международный женский день ворвалась в квартиру с бутылкой домашней смородиновой наливки и обувной коробкой, в которой шебуршало и пищало.
— Нет, — сказала мама коробке, — нет и ещё раз — нет.
— Наташа! — страстно заговорила приятельница. — Ты только взгляни: дивное дитя! Моя девственная, моя святая Астория согрешила с дворовым мужчиной. А она, Астория, между прочим, русская голубая!
— Да хоть африканская фиолетовая. Нет.
— Да ты взгляни! — приятельница приоткрыла коробку. Из коробки высунулась маленькая треугольная морда, посередине — белая звезда, как у телёнка на ферме.
— А?! — восторженно воскликнула приятельница. — Девка! Красавица! Дитя порока! Почти русская, почти голубая! Неси рюмки, выпьем за нас, красавиц!
Мама обречённо полезла в сервант.
Она была нормальной женщиной. Она любила покойного мужа, дочку Ленку, внуков — Тёму и Марусю. Даже шебутную подругу-кошатницу любила. Дымку, со временем выросшую в красивую характерную кошку, она полюбить не смогла. Покупала корм и наполнитель для лотка, вычёсывала колтуны, гладила между ушей, когда Дымка — изредка — мягко вспрыгивала на хозяйские колени. Преодолевая колоссальное сопротивление, трамбовала в переноску, везла на дачу. Всё механически.
...Приближался июль. Ленка стала замечать, что мама сильно устаёт, почти постоянно сухо кашляет, вечерами шуршит таинственными блистерами с таблетками.
— Мам, — как-то решилась Ленка, — ты плохо себя чувствуешь? Вон бледная какая. Весь день на воздухе, а бледная.
— Не выдумывай.
На мамину терраску просочилась Дымка, потёрлась спиной о мамины ноги, затарахтела. Мама машинально поднесла к Дымкиной спине руку — и тут же отдёрнула, пробормотав: «Вся в репьях, не вычешешь — только выстригать; по каким оврагам тебя носит, наказанье божье?»
— Мама! — Ленка возвысила голос. — Я записала тебя к терапевту, послезавтра поедем. Анализы, кардиограмма, КТ... Детей Валера заберёт, они по отцу соскучились.
— Я здорова, — упрямо сказала мать и сипло закашлялась, прикрывая рот ладонью.
— Как корова, — мрачно констатировала Ленка, — никаких возражений, послезавтра едем в город.
— А если я?.. а её куда?.. с собой взять? Её-то Валера не сможет забрать, не справится: она ему глаза выцарапает, хотя, наверное, поделом, — вдруг всполошилась мать, отпихивая от себя Дымку.
— Мама!! Я тебе про Фому — ты мне про Дыму! «Если, если»... не помрёт твоя кошка! Оставим ей ведро воды и ведро Вискаса. А ведро кротов на десерт она себе сама накопает!
Болезнь с несерьёзным куцым названием, полгода назад казавшаяся чушью несусветной родом из
Поднебесной и газетной уткой по-пекински... незнакомая болезнь циркулем чертила малые круги внутри большого, каждый новый круг — меньше предыдущего. Сначала болели люди за семью морями. Затем — соотечественники с противоположного берега реки. Затем — соседи по дому из соседнего подъезда. Ленка, узнав о смерти одноклассника — тот, блондинистый Майк Тайсон с железной мускулатурой и перманентным ЗОЖ, сгорел от ковида за две недели — побежала вакцинироваться, прихватив и безвольного Валеру. Мать, не жалующая официальную медицину, долго ругалась на двух идиотов, добровольно нанёсших непоправимый вред своему здоровью.
Спустя несколько месяцев угрюмый рентгенолог сообщил, что у матери поражены и правое, и левое лёгкое, правое — на сорок процентов, левое — на десять, но тоже ничего хорошего. Чуть позже не менее угрюмый терапевт помахал перед Ленкиным носом бланком с положительным тестом на ковид и сказал: «Что ж вы, милочка, так родственницу запустили? Надо было обращаться при первых признаках! Госпитализируем».
Ленка, глотая слёзы, доехала до городской квартиры матери, собрала какой‐то её нехитрый скарб: ночнушку, носки, халат, сборник судоку; забежала в супермаркет в цоколе, накупила продуктов как на роту солдат — и вернулась в больницу, в приёмное ковидного отделения,
где медсестра в космическом костюме приняла у Ленки две объёмных сумки, на каждой стикер: фамилия и номер палаты. Избавившись от баулов, Ленка на негнущихся ногах вышла на больничное крыльцо. Цвела липа: нежно и странно пахло дезинфекцией, пылью, липовым цветом, выхлопным газом.
— Мам, — сказала Ленка в смартфон, — меня к тебе не пускают. Ты как?
— Нормально, — слабым голосом ответила мать, — но температура тридцать восемь и пять. Наверное, оттого, что в палате душно. Мы Дымке ни одного ведра не оставили.
Ленка чертыхнулась и побежала к машине.
Дача встретила ватной тишиной. Даже птицы почему-то молчали. Может, к дождю. Лена долго ходила по участку, кискиская и приговаривая на материнский манер: «По каким оврагам тебя носит?!» Дымка не откликалась. Ленка притащила с кухни и веранды Дымкины плошки, подумав, добавила к плошкам старых негодных тарелок — и, наполнив все ёмкости сухим кормом и колодезной водой, расставила их там и сям по огороду и по газону. Мелькнула мысль «а вдруг дождь или соседский кот?», но Ленка шуганула эту мысль, как, собственно, гипотетического соседского кота, проверила все замки и запоры и завела машину.
От маминой квартиры до горбольницы — полторы минуты. От маминой дачи до горбольницы — полтора часа.
Следующие пару недель Ленка жила в материнской подмосковной квартире, по несколько раз на дню мотаясь в больницу с творожком из фермерской лавки, булочкой из пекарни, журналом, полными светских сплетен и рецептов лечо из перца болгарского и моркови каротель. Палатные врачи постоянно менялись — но каждый из них в телефонных разговорах касательно состояния больной такой-то был неоптимистичен. Ленка звонила матери и с ужасом понимала: из мамы будто бы постепенно выкручивают лампочки: сначала стоваттные, уличного формата, затем сорокаваттные — для настольных ламп; и, если так дальше пойдёт, скоро и слабенькие восковые свечи зачадят и потухнут. Ленка дежурила у больницы, дожидаясь, когда из ковидного выйдет дежурный врач; дождавшись, хватала за руки, заглядывала в глаза, лепетала о лучших лекарствах и о любых деньгах, выслушивала отрезвляющее «девушка, не мешайте работать» — и следующим вечером снова заступала на безнадёжное дежурство.
Валера взял официальный отпуск (в отличие от дистанционной Ленки он работал очно) и сидел с детьми. Раз в три дня он, мужик сугубо урбанистический, нехотя ездил на тёщину дачу — проверял, проветривал, поливал. Ломая выпестованные плети, собирал огурцы. Рапортовал: «Маруська прыгает на батуте, Тёма лезет на яблоню, смородина осыпалась, перец болгарский сдох, я не знаю, что такое каротель, Лен; Маруська и Тёмка ищут кошку, нет, не нашли, наверняка сбежала. Лен, мы поехали домой, ты же знаешь — я не люблю здесь ночевать; завтра идём в Парк Горького, каникулы всё-таки». И с облегчением возвращался в Москву.
Однажды мать не взяла трубку. «Спит», — решила Ленка. Безрезультатно перезвонила через час. Набрала номер ординаторской. «В реанимации, на ИВЛ, стабильно тяжёлая», — ответили ей.
Ленка опустилась на скамейку. Посмотрела вверх. По высокому небу, обрамлённому кружевом начинающей жухнуть листвы, головокружительно медленно двигался маленький самолётик. Ленка некстати вспомнила, что давно хотела свозить маму в Турцию: чтобы мама, вырядившись в слитный купальник в милую полоску и забыв про трёхлитровые банки для консервации, осторожно входила в прозрачное море, потом долго и красиво плыла до буйков и обратно, потом, нахлобучив соломенную шляпу и сетуя на обгоревший нос, ела горячие гёзлеме, запивая их холодным вином. Господи, какое холодное слово — ивээл.
Позвонил Валера с жалобой на карданный вал:
«Ленусь, я машину в сервис ставлю, на дачу ездить в ближайшее время не смогу: на электричке не наездишься». «Какой вал, — заорала Ленка, — когда и-вэ-эл!!! и-вэ-эл!!! мама в реанимации!!!» И нажала отбой. Притащившись домой, Ленка перезвонила Валере, сухо извинилась, поболтала с детьми о пустяках, и зачем-то начала тереть губкой с порошком настенную плитку; смахнула на пол стеклянный контейнер с крупой, поранила ногу, посмотрела на кровь, пунктирными каплями кропящую рис — и запрыгала на одной ноге в поисках перекиси и пластыря. Потом подумала: я ещё ничего; если я дам охраннику, может, он пустит в реанимацию? Потом подумала: маму скоро — да! скоро! — выпишут, ей будет приятна идеально убранная квартира. Нашла в интернете телефон местного клининга. Договорилась. Открыла рабочие файлы, посчитала смету, не очень соображая, что за смета и кого ею следует осчастливить. Вникла, пересчитала, отправила. В очередной раз мысленно поблагодарила работодателя: не будь в эти дни рабочей рутины, свихнулась бы. Кое-как подмела пол, нашла на дверце холодильника едва початую бутылку — тетьКать, вечно ты со своей алкогольной самодеятельностью! — отхлебнула крепкого, пахнущего черноплодкой, пойла. Сморщилась и выпила залпом почти полбутылки. Вспомнила про охранника, заржала, отпила из бутылки ещё пару глотков. Рухнула на диван, задрав пораненную ногу на диванную подушку. Нырнула в телефонную галерею: мама с пионами, мама с Маруськой, Тёма, улыбаясь щербатым ртом, держит на напряжённо вытянутых руках Дымку: Тёмка Дымку обожал, она не отвечала ему взаимностью, но изредка позволяла некоторые вольности. Лена отбросила телефон, всхлипнула: «Ещё и ты! ты, ты, сучка хвостатая! где ты шляешься?!» — и заснула мутным сном.
И несколько дней существовала словно бы в похмельном полусне: поругалась и помирилась с клининговой тёткой, съездила в Москву, к своим, — наготовила кастрюль, сводила Тёмку в парикмахерскую, Марусю — к стоматологу, доделала отчёт для строительной компании... всё в полупохмелье, в полусне, отчаянно боясь пяти часов пополудни: с пяти до шести надо было звонить в реанимацию. В реанимации стандартно отвечали: стабильно тяжёлая. И, предупреждая лепет, стандартно отрезали: девушка, не мешайте работать. Ленка выдыхала: жива. И проваливалась в вечер, и так по кругу, по кругу, по малому кругу, обозначенному стальным циркулем.
Пока в реанимации не ответили: нормализовали, перевели в палату.
Ленка на мгновение умерла от счастья. Подышала открытым ртом, как собака. Досчитала до десяти и набрала мамин номер.
— Мама, как ты?
— Ленка? — голос был предельно минорный и тихий, как шелест липовой листвы в распахнутом окне; в Ленкиной башке сразу возникла прописная истина — «мама мыла раму».
Ленка прочистила горло и сказала:
— Мам, мы рамы... окна помыли. Сначала баба из клининга, потом я. Потому что после бабы остались разводы.
— Лена? Какие бабы, какие разводы? Что ты мелешь? Ты не в себе?
— Не в себе. Мам, я волновалась. Очень.
— Нечего волноваться. Вытащили с того света — и ладно. Кстати, много новых слов выучила. Например, альвеола и сатурация. Надо было Дымку Сатурацией назвать. Мать — Астория, дочь — Сатурация. И бабка — Катерина Ивановна, господи прости. Дымку кормили? Дети здоровы?
— Дети здоровы. Дымку, — Лена осеклась, — кормили. Дымка тоже здорова. Мамочка, отдыхай. Я попозже позвоню.
Ленка метнулась в кладовку — при уборке они с бабой обнаружили в кладовке мешок кошачьей еды. Выскочила к машине, бросила мешок на заднее сиденье. Резко крутанула ключ зажигания. Машина
драматично молчала. «Давай, давай, колымага», — злобно шептала Ленка, поворачивая и поворачивая ключ. Машина наконец чихнула и отозвалась.
До дачи Ленка донеслась за полчаса, нарушив все возможные ПДД и заработав штрафов на немыслимые тыщи рублей.
Дачный участок одичал, распоясался, зарос сорной травой. Но на клумбе дистрофичные мальвы тянули ввысь шеи, готовясь зацвести. И по перголам полз клематис, и к корявым рукам яблонь жались похожие на кукиши яблоки, кислые даже на вид. Ленка сглотнула слюну и на всякий случай заглянула внутрь клумбы: вдруг именно там спряталась чёртова Сатурация.
Дымки в клумбе не было.
Лена побрела по участку, тряся мешком (голодная кошка иногда прибегала на шорох гранул) и выкрикивая на все лады: «Дыма? Дымка! Сучка хвостатая, кс-кс-кс-кс! Дымка!» Споткнувшись о скрытую травой кошачью плошку, неловко, боком упала на мокрый после недавнего дождя газон. Встала, с отвращением отряхнулась. Из-за забора высунулась любопытная бальзаковская соседка:
— Ленок? Давно твоих не было. Маму выписали?
— Скоро выпишут, — пообещала Ленка, потирая ушибленный бок, — ты кошку нашу не видела?
— Фурию-то? Не, как она моему Тишке задницу надрала — с тех пор и не видела. А Тишку после к ветеринару возили. Почти месяц и не видела, значит.
— Она не фурия, — горько усмехнулась Ленка, — она Сатурация.
И похромала на задний двор, к теплице: мамины помидорные кусты наверняка погибли, но, может быть, удастся спасти хотя бы толику урожая.
Дохромала и обомлела: цементный приступок теплицы был завален гниющими звериными трупиками. Ленка, борясь с тошнотой, всмотрелась: несколько мышей, крыса, небольшой ёж, какие-то полуразложившиеся птички...
— Дымка? — севшим голосом позвала Ленка. И потрясла мешком.
И из-за теплицы выглянула Дымка. Принюхалась, приблизилась. И затарахтела.
Ленка глядела на вившуюся у её коленок грязную, худую, постаревшую на несколько веков кошку с порванным ухом и всклокоченной шерстью — и рыдала:
— Дымочка. Ты знала. Знала. Ты, сучка, дань носила. Жертвенную дань. Вот же дууура... Дымочка моя. Сатурация чёртова. Наказанье божье. Дура.... дууура моя родная.



