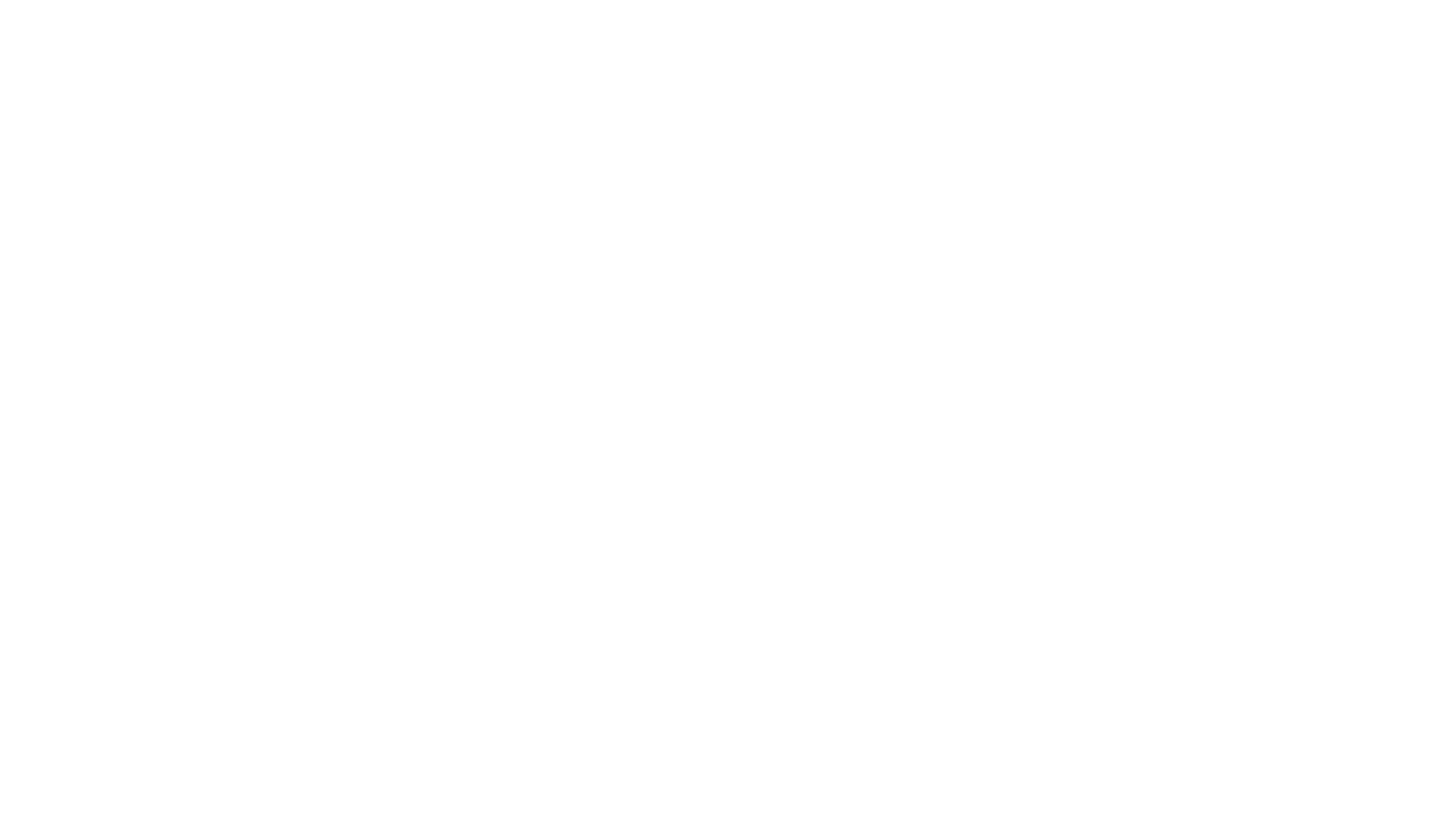
Елена Долгопят - Любовь
Елена Долгопят родилась 28 декабря 1963 года в г. Муроме Владимирской области в семье учительницы и военнослужащего. После окончания Московского института инженеров железнодорожного транспорта (специальность «Прикладная математика») до 1989 года работала программистом на военном объекте в Московской области. В 1993 году окончила сценарный факультет ВГИКа. С 1994 года по сегодняшний день работает научным сотрудником рукописного отдела Музея кино в Москве.
Автор 6 книг. Рассказы регулярно публикуются в ведущих литературных журналах ("Знамя", "Дружба народов", "Новый мир"). В 2017 году книга "Родина" вошла в шорт-лист премии "Национальный бестселлер". В 2020 году Елена Долгопят стала лауреатом Одесской международной литературной премии им. Исаака Бабеля, заняв второе место за рассказ "Объект". Книга "Чужая жизнь" (АСТ, редакция Елены Шубиной, 2019), в которой представлен этот рассказ, была включена в лонг-лист премии «Ясная поляна» (2020 г.). По сценариям Елены Долгопят сняты 4 полнометражных фильма и мини-сериал ("Неопалимая купина", 1 канал, 2021 г.)
Автор 6 книг. Рассказы регулярно публикуются в ведущих литературных журналах ("Знамя", "Дружба народов", "Новый мир"). В 2017 году книга "Родина" вошла в шорт-лист премии "Национальный бестселлер". В 2020 году Елена Долгопят стала лауреатом Одесской международной литературной премии им. Исаака Бабеля, заняв второе место за рассказ "Объект". Книга "Чужая жизнь" (АСТ, редакция Елены Шубиной, 2019), в которой представлен этот рассказ, была включена в лонг-лист премии «Ясная поляна» (2020 г.). По сценариям Елены Долгопят сняты 4 полнометражных фильма и мини-сериал ("Неопалимая купина", 1 канал, 2021 г.)
Жила бабка не одна, с внуком Егором. Внешность у него была приятная: лицо чистое, нос прямой, небольшой, глаза серые, внимательные, лоб высокий. Нижняя губа чуть больше верхней, в этом была какая-то прелесть, детскость, он и был, как дитя, и в двадцать восемь, и в тридцать три, когда приключилась эта история про воскресение.
Бабке и в голову бы не пришло воскрешать кого бы то ни было, думать об этом не пришло бы в голову, не то что пытаться, но очень уж она волновалась за внука, который и седым будет как доверчивый щенок. Она думала, как он один без нее проживет, кто за ним присмотрит, чтобы и сыт, и одет и чтоб никто не обидел. И хотя силы бабку не оставляли, о смерти она думала часто, а точнее, о жизни Егорушки после ее смерти. Вот и решила попробовать воскресить Егорушкину мать, женщину незлобивую, трудолюбивую.
Для начала следовало понять, а можно ли простому смертному этакое сотворить. В Лазаря бабка верила, верила и в Христа, а также верила снам и приметам.
Свои заговоры (от болезней, от дурного глаза) бабка всегда творила просто: садилась в темноте, в уединении, смотрела на пламя свечи, которую непременно надо было купить в церкви. Церковь стояла недалеко, вся белая, купола синие, кресты золотые, старинная, до Наполеона стояла и после нас будет. Вместо подсвечника бабке служила прозаическая банка из-под финского майонеза, он появился в продаже в 1980 году, к Олимпиаде. Банку со свечкой бабка ставила на верстак (память мужа-столяра, Царство ему Небесное, рано прибрал его Господь).
Садилась на колоду, смотрела на маленькое пламя и воображала: как черная туча болезнь рассеивается над человеком, как он согревается в мягком волшебном свете. И видения ее исполнялись, но не всегда. Что-то порой мешало: вой мотоцикла, чей-то близкий разговор, чье-то даже как будто дыхание.
Бабка дала себе зарок воображать только доброе, только победу света над тьмой и никак иначе. Она знала, что может совершить (накликать) и злое, был как-то раз грех, соседка Махалкинка (которую бабка называла Нахалкина) обидела Егорку, обозвала недоумком, Егорка не огорчился (хотя и понял), а у бабки от злости в глазах потемнело, она крикнула Нахалкиной: да провались ты! Соседка и провалилась в тот же день в подпол. Ничего не сломала, Бог миловал, но хромала еще долго и смотрела теперь мимо (а прежде захаживала, чай пила, трешку занимала до зарплаты, «Просто Марию» обсуждала).
В подпол живого человека столкнуть — это не мертвого из гроба живым поднять. А как поднять, как? Как и всегда, решила бабка. Закрыться в сарае, затеплить свечку, поставить невесткину фотографию, помолиться, отрешиться от суеты, сосредоточиться.
В сарай бабка отправилась ночью, когда Егорка уснул, а спал он всегда сладко, не беспокоился, чистая душа. Бабка чиркнула спичкой, и запахло горелым — прежде бабка не обращала на этот запах внимания, он быстро рассеивался, но в этот раз так и стоял в воздухе. На колоду бабка садиться не стала, опустилась на колени. Свечка сгорала и потрескивала, лицо невестки на черно-белой фотографии то виделось ясно, то уходило в тень, и оттого казалось почти живым, ночь текла глухая, никто не мешал, все точно умерли.
Помимо воли бабке вообразилось, что все и вправду умерли в эту ночь, все люди на земле, и все звери, и все птицы, и все мошки, и все твари, и не только на земле, но и в морях, и в реках, и в норах, и в гнездах. И только бабка почему-то еще жива и смотрит в неверном свете на черно-белое лицо одна одинешенька.
А пламя вдруг отделяется от свечки и плывет в темноте, манит, бабка поднимается с колен и следует за огоньком, не чувствуя под собой земли, как бы в пустоте. Страшно. Хочет бабка перекреститься, да не может. Как будто и рук нет.
Идет бабка за огоньком в пустоте, и вдруг огонек гаснет. Тьма кромешная, и дышать нечем, кричать хочется, и голоса нет. Бабка теряет сознание и приходит в себя уже в доме, на собственной кровати в маленькой комнате. Часы тикают, фонарь за окном тлеет, надо же, починили, сподобились. Слышны шаги из другой комнаты (в ней была печка, кухонный стол, буфет и диван, на котором спал Егорушка).
— Егорушка, ты? — окликает бабка.
— Я, — отзывается женский голос, — Шура.
Так звали Егоркину мать и бабкину невестку — Шура.
Шура. Покойница. Но разве покойники говорят? Или другой вопрос: разве мы их слышим?
Мы не слышим, а бабка услышала. Поднялась с кровати, пришла во вторую комнату. Егорки в ней не было, а была Шура, как живая. Сидела за столом у окна, задернутого белыми занавесками. На столе стояла черная сковородка с черными калеными семечками. Шура спросила:
— Хочешь семечки?
— Да нет.
Бабка села напротив Шуры и стала на нее смотреть.
— Ну что ты хотела от меня? — спросила Шура.
— Воскресить тебя думала. Чтобы за Егоркой присмотрела без меня.
— А ты куда собралась?
— Я никуда, но мало ли. Вот недавно стояла в очереди за молоком, у нас сейчас за всем очередь — и за молоком, и за хлебом, я стояла, а Егорка дома сидел, телевизор я ему включила, он любит телевизор смотреть, тут в дверь постучали, он пошел, открыл. Женщина молодая говорит: а нет ли у вас денег, а то нас обокрали на вокзале. Егорка говорит: есть. И отдал ей все деньги из коробочки, помнишь, коробка из-под халвы, жестяная?
— Не помню.
— Мы в ней всегда деньги хранили.
— Я не помню.
— Я тоже много забывать стала, ради Егорки держусь, но вдруг призовет меня Господь завтра, что тогда? Пропадет. Погибнет. Сынок твой.
Шура взяла горсть семечек со сковородки и высыпала на чистый белый стол.
— Шура. Ты меня слышишь?
— Слышу.
— Вернись к нам.
— Не хочу.
Бабка удивилась. Если бы Шура сказала «не могу», не удивилась бы.
— Как же не хочешь?
— Мне здесь хорошо.
— Егорку не жалко тебе?
— Егорку жалко.
Бабка уговаривала, уговаривала и замолчала наконец.
Шура спросила:
— Всё?
— Всё.
— Ну тогда прощай.
— Погоди. А вот если бы ты хотела, тогда бы воскресла?
— Конечно.
Шура поднялась из-за стола и ушла из комнаты в коридор (из коридора было два выхода: один в чулан, другой в терраску). Дверь за собой закрыла плотно. Потрогала бабка семечки на сковородке — они были теплые, на столе потрогала — уже остыли. И на этом проснулась. На полу в сарае. Свеча догорела и погасла, в щели сочился слабый утренний свет.
И стали они жить с Егоркой по-прежнему. А как по-прежнему? Да вот так:
бабка вставала рано, в пять примерно утра, надевала халат, надевала носки, надевала тапки или низко обрезанные валенки, в зависимости от погоды повязывала платок на голову. Молилась Николаю Угоднику (бумажная иконка в углу) и шла в другую комнату. Смотрела на мирно спящего Егорку, в холодное время растапливала печь (дрова, щепу и обрывки старых газет закладывала с вечера), а если случалось тепло, то сразу шла в коридор, к рукомойнику, плескала водой в лицо, утиралась полотенцем, затем шагала в чулан и зажигала там газовую плиту (газ поступал из красного железного баллона), ставила чайник, варила кашу, овсянку или манку, на молоке или на воде.
Бабка накрывала на стол, Егорка просыпался, но не вставал, смотрел на нее чистыми, всегда чистыми, ясными глазами, и его обросшее светлой щетиной лицо казалось детским.
Бриться Егорка не любил, жужжащую электрическую бритву принимал за игрушку, смеялся и бегал от нее, а бритвенного прибора с лезвием боялся и прятался, закрыв ладонями лицо, он и всегда так прятался, за собственные большие ладони. К слову говоря, морока была и стричь ему ногти — едва завидев маленькие, с кривыми лезвиями ножницы, Егорка начинал плакать и в руки не давался. Тогда бабка включала телевизор, движущиеся и говорящие тени на маленьком экране поглощали Егоркино внимание, и ему становилось все равно, что с ним делают. Бабка брала его ставшие покорными пальцы, смотрела на них сквозь толстые очки, обрезала ногти, обрезки падали на пол, бабка потом их собирала и бросала в печку. А вот брить Егорку, даже завороженного телевизором, не представлялось возможным — подойдешь с бритвой и непременно загородишь экран, Егорка очнется, и нападет на него страх. Так что бабка брила Егорку спящим, раз примерно в две-три недели давала ему сонный отвар. Егорка и без отвара спал крепко, безмятежно, а с отваром погружался в сон столь глубоко, что становился совсем нечувствительным, хоть режь его. Спал после отвара долго, просыпался с трудом и целый день потом ходил вялый, ничего не ел, пил понемногу воду, садился перед телевизором, но в экран смотрел пустыми невидящими глазами. Бабка его бы и вовсе не брила, но очень уж Егорка пугался самого себя в бороде, когда видел свое отражение в зеркале, пытался ее даже отодрать от лица. Такая вот забота.
Но по большей части он бывал спокоен, ласков, и бабка его таким любила (а впрочем, она его и всяким любила, только не терпела, чтобы он себя мучил). Да и все его любили в округе и даже чужие располагалась к нему. И Махалкина-Нахалкина жалела, что обозвала его недоумком, тем более что он не обиделся и продолжал ее любить, улыбался ей, как обычно, махал большой рукой, а если видел, что она идет на колонку за водой, то бежал следом, чтобы держать рычаг, пока вода толстой тугой струей бьет в ведро.
— Ну ладно, ладно, — говорила Махалкина-Нахалкина, — хватит, перельешь.
И он убирал руку, понимал, смеялся, радовался, хватался за ведро, чтобы нести, но соседка отбирала:
— Обольешься, а мне отвечать.
Неделю она терпела, а потом пришла к ним вечером с пирогами.
— Вот, — сказала, — с грибами. Витька набрал вчера. В Кондаково ездил.
Бабка сказала, что в Кондаково лес хороший, и поставила чайник.
— Суббота завтра. Баню топить для вас? Как всегда? С утра?
В баню Егорка ходил с Витькой, мужем Махалкиной-Нахалкиной (а звали ее, к слову сказать, Надеждой). Витька называл Егорку мужик, говорил с ним серьезно, а когда они отдыхали в предбаннике после парилки, рассуждал о таких вещах, в которых Егорка смыслить не умел, о политической обстановке, к примеру, или о ценах на бензин, или о соседе Крысенкове, который ходил с малолетним сыном на кладбище и собирал с могил конфеты.
— Жрут эти конфеты, и ничего, и здоровы, и хвалятся, скудоумные.
Витька говорил, Егорка слушал. Когда-то Витька работал помощником машиниста, но ушел на пенсию. Еще маленькому Егорке он подарил свисток, который свистел, точно как тепловоз, пришлось в конце концов у спящего Егорки этот свисток украсть и выбросить куда подальше, в реку Илевну, до того он этим тепловозным свистом всех замучил, включая ворон. Наутро Егорка поискал свисток, поплакал, а потом бабка показала ему стрекозу, и он отвлекся.
Так они мирно жили до тихого сентябрьского дня 1993 года, когда к ним в калитку постучала женщина средних лет, седая, строгая, как учительница, в очках. И одета она была строго: длинная черная юбка, свитер тоже черный, плащ защитного цвета, как военный, туфли на низком каблуке, в руке она несла черную лакированную сумку с желтым блестящим замком. Золотым.
У калитки случился Егорка и тут же ее перед женщиной отворил.
— Здравствуй, Егорка, — сказала женщина. Знала его имя.
Но Егорка ее имени не знал и сказал:
— Здравствуй, милая.
Нравилось ему это слово, милая. А понимал ли он его значение, не знаю. Во всяком случае, мужчин он милыми не называл.
— Бабушка дома?
— Баушка (так он называл свою бабку — баушка, а бабкой она себя сама называла) полы моет.
— Тогда давай посидим, подождем.
И они сели на крыльцо.
— Как у вас здесь поезда слышно, — сказала женщина.
Егорка взял ее за руку с одним серебряным кольцом на безымянном пальце и сказал:
— Не бойся.
— Я не боюсь.
Руки своей она от Егорки не отнимала.
Скоро отворилась дверь и на крыльцо вышла бабка с ведром грязной воды.
— Здравствуйте, — сказала женщина и хотела подняться, но Егорка ухватил ее за руку крепко.
— А вон, смотри, — показала бабка Егорке, — Тобик хвостом машет, поди поговори с ним.
Егорка забыл о женщине и отправился за калитку к Тобику, разговаривать. Тобик при виде Егорки лег на спину, подставил ему свое пузо для чесания.
— У меня к вам просьба, Анна Владимировна (так звали бабку), — сказала женщина.
Бабка женщину прекрасно знала. Римма Сергеевна тридцать лет проработала главврачом в железнодорожной поликлинике.
Бабка заранее испугалась еще невысказанной просьбы Риммы Сергеевны и медлила. Отжала половую тряпку и повесила на перекладину возле все еще цветущих поздних флоксов, грязную воду выплеснула под вишни, ведро положила набок, руки вымыла у водопровода, вытерла передником, и тогда уже вернулась к Римме Сергеевне, и села с ней рядом на ступеньку.
— Лучше бы нам в доме поговорить, — попросила Римма Сергеевна, — вдруг кто по тропинке пройдет, услышит.
— Ворона разве что. Или вон яблоня. Или вон Тобик с Егоркой. А больше некому, это здесь раньше проход был на Трудовую, и люди пользовались, а сейчас нет, Василь Иваныч заколотил калитку, потому что не только ходили, но и малину рвали, а один мерзавец кочан капусты выдрал, прямо на глазах Василь Иваныча, не постеснялся.
Помолчали. Бабка уже думала: да говори ты скорей, не тяни. А в дом она не позвала Римму Сергеевну, потому что не хотела остаться с ней наедине в доме, один на один — на крыльце спокойнее, глаза небо видят.
— Воскреси мне сына, — вымолвила наконец бывшая главврач.
— Так я и думала, — сказала бабка, — так я и думала, что Надежда разболтала, нет никакой надежды на эту Надежду, недаром фамилию носит Махалкина, я тоже дура, нашла кому рассказывать, да и рассказывать было нечего, кого я воскресила? — никого.
— Но ты сказала, что если бы Шура захотела воскреснуть, ты бы ее тогда смогла воскресить.
— Мало ли что я сказала. Нет у меня таких полномочий, людей с Того Света возвращать. Глупость была с моей стороны и ничего больше. Да если бы и могла. Ты, Римма, с ума сошла, раз такое просишь. Твой сын монстр, его нельзя возвращать, пусть остается там, где он есть, в аду.
У Риммы Сергеевны сами собой потекли слезы.
— Поплачь, поплачь, полегчает. Сама виновата, баловала его много.
— А ты своего не балуешь.
— Моего нельзя не баловать, он Богом обижен. Прости меня, Господи.
— Мой тоже обижен. Ты думаешь, это от воспитания? Нет, от рождения. Мне психиатр московский все объяснил, он с моим Славиком, когда его в тюрьму посадили, много разговаривал, он даже просил за Славика на суде, чтоб заменили высшую меру на пожизненное. И еще говорил, что мог бы его совсем вылечить, он таблетки придумал, испытания проводил. Это не Славик убивал, это болезнь убивала, вот я и хочу, чтобы он пожил нормальным человеком, без болезни, а таблетки я уже добыла, в сумке у меня, показать?
— Нет.
— А я покажу, смотри.
И она щелкнула блестящим замочком, открыла сумку, вынула пузырек из темного стекла, в нем угадывались таблетки, мелкие, круглые.
— Он как вернется ко мне, так я его увезу отсюда, никто не узнает, может быть, в Казахстан, а может быть, на Дальний Восток.
— И в Казахстане люди живут, и на Дальнем Востоке люди живут, никому не пожелаю своих детей мертвыми находить. Нечего и думать, что я убийцу воскрешать возьмусь, а в твои таблетки я не верю, тем более что они кончатся скоро.
— Мне будут присылать.
— Разговор окончен.
Помолчали. Посмотрели на Егорку, как он возится с Тобиком.
— Хорошо тебе, — сказала Римма Сергеевна и встала.
На другой день бабка пошла с Егоркой на станцию смотреть поезда. Скорые проходили мимо, пригородные останавливались. Егорка наблюдал и вел себя совсем тихо, поезда его завораживали так же, как телевизор. Ждать их появления он мог долго, терпеливо. Стояли они с бабкой на платформе, в самом конце, где народу почти не бывает.
Подкатила электричка, отворились двери, никто не вышел, двери отчего-то не закрывались, электричка стояла, в нескольких окнах виднелись люди. Бабке стало тревожно, и она попросила Егорку:
— Пойдем, Егорушка, — и посулила, — я тебе дома телевизор включу и киселя сварю.
Но Егорка как будто ее не слышал, смотрел в отворенные двери, в полумрак железного тамбура. Там светился красный огонек, кто-то стоял, курил. И бабка вдруг позавидовала неведомому, невидимому курильщику, словно бы он легко живет и нет у него забот, в этот, по крайней мере, миг. Всё-то мы придумываем про людей, и про себя, и про других.
Двери сомкнулись, электричка тронулась с места, и Егорка отправился за ней по платформе, а затем побежал, бабка его нагнала, схватила за руку, но он вырвался. Было это как во сне. Он бежал за электричкой до самого дальнего края, но прыгать не прыгнул, остановился, а когда бабка подбежала к нему, Егорка с ужасом смотрел с платформы вниз, на рельсы. Бабка зашептала:
— А ты отступи, отступи, вот так, молодец, вон лесенка, мы к ней, мы с нее и сойдем, и домой поплетемся, — и посулила вновь, — я киселя сварю.
День был вторник.
В среду бабка встала пораньше. Егорку напоила чаем с вареньем, включила ему телевизор, мультфильмы, взяла бидон, взяла деньги и отправилась к гастроному, за угол, туда по средам привозили бочку с молоком, народ занимал очередь спозаранку.
Дорого ей это молоко обошлась.
Ушла в семь, вернулась в девять, дверь оказалась заперта изнутри, на засов, в этом ничего необычного не было, Егорка умел (и любил) запирать, умел (и любил) отпирать, но оставаться запертым без возможности самому открыть дверь, это он не выносил, бился, плакал. И все обходилось нормально (за исключением той тетки-мошенницы) до этого страшного дня. После бабка говорила (Махалкиной, кому же еще), что пока стояла за молоком, когда уже привезли бочку и очередь стала понемногу продвигаться, почувствовала озноб. Тошно стало нет душе.
— До того тошно, что хоть беги назад, домой.
Но бабка дотерпела, взяла молоко, три литра, и тогда уже пошла домой, и то не бегом, чтобы драгоценное молоко не расплескать из бидона.
Бабка постучала в дверь, кто-то подошел с той стороны, шаги были не Егоркины, бабка сразу поняла. Подойти с той стороны подошли, но дверь отворять не спешили.
Бабка вновь постучала. И попросила осипшим голосом:
— Откройте.
И увидела выползший из-под двери, из-под нижнего ее края, белый конверт. Бабка его подняла. Почтовый конверт АВИА без надписей, внутри фотография молодого человека, сына Риммы Сергеевны, Славика.
— Иди в сарай, — сказал из-за двери голос, — воскрешай моего сына, иначе я сожгу твой дом вместе с твоим внуком и с собой, керосином оболью и сожгу.
— Где Егорка?
— Спит. Отваром твоим напоила, пока он про Чипа и Дейла смотрел. Свалился со стула и спит. Если хочешь, чтобы проснулся, иди и воскрешай. У тебя час. Если увижу, что мимо сарая идешь, к калитке, подожгу дом.
— Ты с собой керосин принесла? — задала бабка глупый вопрос.
— С собой. Канистру взяла. Егорку твоего первым полью, не пожалею, не надейся.
У бабки пересохло во рту.
Она вступила в сарай. Стояла, смотрела в темноту, в руках держала фотоснимок. Ни о чем не думала. Ничего не видела. Ничего не слышала. Была никем. Вдруг Славик вспомнился сам собой, точнее, вспомнилась давнишняя встреча с ним. Бабка шла с рынка, несла Егорке большие сливы, он их очень любил. На остановке толпился народ, бабка остановилась. Ждать или не ждать? Пешком идти никак не меньше часа, зато без толкотни. И даже если появится прямо сейчас автобус, не влезешь в него, не пробьешься.
Тут и в самом деле показался автобус. И бабка в него не полезла, пошла пешком. Через поле, через шоссе (темным жутким подземным переходом), через дачный поселок, через стадион (заросшее травой громадное поле, ворота по краям).
В пустом поле стоял Славик и делал зарядку, приседал, разводил руками. Бабка долго огибала поле по протоптанной пешеходами тропинке и все видела Славика, и даже позавидовала тогда его матери, что нормальный парень и даже не пьющий, а работал Славик таксистом.
Бабка огибала поле, смотрела на Славика, и он тоже посмотрел на нее, и вдруг бабка поняла, что он смотрит, но не видит, что он слепой. С чего вдруг такая напасть? Всегда был зрячим. Бабка остановилась, и он бросил свою зарядку, остановился. Как будто чувствовал ее присутствие. Бабка направилась к нему через поле. Зачем? Почему? Она не знала. Подошла, взяла за руку и повела. Солнце скрылось за облако, и стало темно, как в погребе (как-то раз девчонкой она забралась в погреб, чтобы понять, как оно мертвецам под землей). Дорога сама их вела, они шли, шли, и стало светлее, это в щели сарая просачивался свет.
Бабка вывела слепого Славика из сарая в сад.
— Где мы? — встревоженно спросил Славик.
Мать его уже бежала к ним из дома.
Бабке и в голову бы не пришло воскрешать кого бы то ни было, думать об этом не пришло бы в голову, не то что пытаться, но очень уж она волновалась за внука, который и седым будет как доверчивый щенок. Она думала, как он один без нее проживет, кто за ним присмотрит, чтобы и сыт, и одет и чтоб никто не обидел. И хотя силы бабку не оставляли, о смерти она думала часто, а точнее, о жизни Егорушки после ее смерти. Вот и решила попробовать воскресить Егорушкину мать, женщину незлобивую, трудолюбивую.
Для начала следовало понять, а можно ли простому смертному этакое сотворить. В Лазаря бабка верила, верила и в Христа, а также верила снам и приметам.
Свои заговоры (от болезней, от дурного глаза) бабка всегда творила просто: садилась в темноте, в уединении, смотрела на пламя свечи, которую непременно надо было купить в церкви. Церковь стояла недалеко, вся белая, купола синие, кресты золотые, старинная, до Наполеона стояла и после нас будет. Вместо подсвечника бабке служила прозаическая банка из-под финского майонеза, он появился в продаже в 1980 году, к Олимпиаде. Банку со свечкой бабка ставила на верстак (память мужа-столяра, Царство ему Небесное, рано прибрал его Господь).
Садилась на колоду, смотрела на маленькое пламя и воображала: как черная туча болезнь рассеивается над человеком, как он согревается в мягком волшебном свете. И видения ее исполнялись, но не всегда. Что-то порой мешало: вой мотоцикла, чей-то близкий разговор, чье-то даже как будто дыхание.
Бабка дала себе зарок воображать только доброе, только победу света над тьмой и никак иначе. Она знала, что может совершить (накликать) и злое, был как-то раз грех, соседка Махалкинка (которую бабка называла Нахалкина) обидела Егорку, обозвала недоумком, Егорка не огорчился (хотя и понял), а у бабки от злости в глазах потемнело, она крикнула Нахалкиной: да провались ты! Соседка и провалилась в тот же день в подпол. Ничего не сломала, Бог миловал, но хромала еще долго и смотрела теперь мимо (а прежде захаживала, чай пила, трешку занимала до зарплаты, «Просто Марию» обсуждала).
В подпол живого человека столкнуть — это не мертвого из гроба живым поднять. А как поднять, как? Как и всегда, решила бабка. Закрыться в сарае, затеплить свечку, поставить невесткину фотографию, помолиться, отрешиться от суеты, сосредоточиться.
В сарай бабка отправилась ночью, когда Егорка уснул, а спал он всегда сладко, не беспокоился, чистая душа. Бабка чиркнула спичкой, и запахло горелым — прежде бабка не обращала на этот запах внимания, он быстро рассеивался, но в этот раз так и стоял в воздухе. На колоду бабка садиться не стала, опустилась на колени. Свечка сгорала и потрескивала, лицо невестки на черно-белой фотографии то виделось ясно, то уходило в тень, и оттого казалось почти живым, ночь текла глухая, никто не мешал, все точно умерли.
Помимо воли бабке вообразилось, что все и вправду умерли в эту ночь, все люди на земле, и все звери, и все птицы, и все мошки, и все твари, и не только на земле, но и в морях, и в реках, и в норах, и в гнездах. И только бабка почему-то еще жива и смотрит в неверном свете на черно-белое лицо одна одинешенька.
А пламя вдруг отделяется от свечки и плывет в темноте, манит, бабка поднимается с колен и следует за огоньком, не чувствуя под собой земли, как бы в пустоте. Страшно. Хочет бабка перекреститься, да не может. Как будто и рук нет.
Идет бабка за огоньком в пустоте, и вдруг огонек гаснет. Тьма кромешная, и дышать нечем, кричать хочется, и голоса нет. Бабка теряет сознание и приходит в себя уже в доме, на собственной кровати в маленькой комнате. Часы тикают, фонарь за окном тлеет, надо же, починили, сподобились. Слышны шаги из другой комнаты (в ней была печка, кухонный стол, буфет и диван, на котором спал Егорушка).
— Егорушка, ты? — окликает бабка.
— Я, — отзывается женский голос, — Шура.
Так звали Егоркину мать и бабкину невестку — Шура.
Шура. Покойница. Но разве покойники говорят? Или другой вопрос: разве мы их слышим?
Мы не слышим, а бабка услышала. Поднялась с кровати, пришла во вторую комнату. Егорки в ней не было, а была Шура, как живая. Сидела за столом у окна, задернутого белыми занавесками. На столе стояла черная сковородка с черными калеными семечками. Шура спросила:
— Хочешь семечки?
— Да нет.
Бабка села напротив Шуры и стала на нее смотреть.
— Ну что ты хотела от меня? — спросила Шура.
— Воскресить тебя думала. Чтобы за Егоркой присмотрела без меня.
— А ты куда собралась?
— Я никуда, но мало ли. Вот недавно стояла в очереди за молоком, у нас сейчас за всем очередь — и за молоком, и за хлебом, я стояла, а Егорка дома сидел, телевизор я ему включила, он любит телевизор смотреть, тут в дверь постучали, он пошел, открыл. Женщина молодая говорит: а нет ли у вас денег, а то нас обокрали на вокзале. Егорка говорит: есть. И отдал ей все деньги из коробочки, помнишь, коробка из-под халвы, жестяная?
— Не помню.
— Мы в ней всегда деньги хранили.
— Я не помню.
— Я тоже много забывать стала, ради Егорки держусь, но вдруг призовет меня Господь завтра, что тогда? Пропадет. Погибнет. Сынок твой.
Шура взяла горсть семечек со сковородки и высыпала на чистый белый стол.
— Шура. Ты меня слышишь?
— Слышу.
— Вернись к нам.
— Не хочу.
Бабка удивилась. Если бы Шура сказала «не могу», не удивилась бы.
— Как же не хочешь?
— Мне здесь хорошо.
— Егорку не жалко тебе?
— Егорку жалко.
Бабка уговаривала, уговаривала и замолчала наконец.
Шура спросила:
— Всё?
— Всё.
— Ну тогда прощай.
— Погоди. А вот если бы ты хотела, тогда бы воскресла?
— Конечно.
Шура поднялась из-за стола и ушла из комнаты в коридор (из коридора было два выхода: один в чулан, другой в терраску). Дверь за собой закрыла плотно. Потрогала бабка семечки на сковородке — они были теплые, на столе потрогала — уже остыли. И на этом проснулась. На полу в сарае. Свеча догорела и погасла, в щели сочился слабый утренний свет.
И стали они жить с Егоркой по-прежнему. А как по-прежнему? Да вот так:
бабка вставала рано, в пять примерно утра, надевала халат, надевала носки, надевала тапки или низко обрезанные валенки, в зависимости от погоды повязывала платок на голову. Молилась Николаю Угоднику (бумажная иконка в углу) и шла в другую комнату. Смотрела на мирно спящего Егорку, в холодное время растапливала печь (дрова, щепу и обрывки старых газет закладывала с вечера), а если случалось тепло, то сразу шла в коридор, к рукомойнику, плескала водой в лицо, утиралась полотенцем, затем шагала в чулан и зажигала там газовую плиту (газ поступал из красного железного баллона), ставила чайник, варила кашу, овсянку или манку, на молоке или на воде.
Бабка накрывала на стол, Егорка просыпался, но не вставал, смотрел на нее чистыми, всегда чистыми, ясными глазами, и его обросшее светлой щетиной лицо казалось детским.
Бриться Егорка не любил, жужжащую электрическую бритву принимал за игрушку, смеялся и бегал от нее, а бритвенного прибора с лезвием боялся и прятался, закрыв ладонями лицо, он и всегда так прятался, за собственные большие ладони. К слову говоря, морока была и стричь ему ногти — едва завидев маленькие, с кривыми лезвиями ножницы, Егорка начинал плакать и в руки не давался. Тогда бабка включала телевизор, движущиеся и говорящие тени на маленьком экране поглощали Егоркино внимание, и ему становилось все равно, что с ним делают. Бабка брала его ставшие покорными пальцы, смотрела на них сквозь толстые очки, обрезала ногти, обрезки падали на пол, бабка потом их собирала и бросала в печку. А вот брить Егорку, даже завороженного телевизором, не представлялось возможным — подойдешь с бритвой и непременно загородишь экран, Егорка очнется, и нападет на него страх. Так что бабка брила Егорку спящим, раз примерно в две-три недели давала ему сонный отвар. Егорка и без отвара спал крепко, безмятежно, а с отваром погружался в сон столь глубоко, что становился совсем нечувствительным, хоть режь его. Спал после отвара долго, просыпался с трудом и целый день потом ходил вялый, ничего не ел, пил понемногу воду, садился перед телевизором, но в экран смотрел пустыми невидящими глазами. Бабка его бы и вовсе не брила, но очень уж Егорка пугался самого себя в бороде, когда видел свое отражение в зеркале, пытался ее даже отодрать от лица. Такая вот забота.
Но по большей части он бывал спокоен, ласков, и бабка его таким любила (а впрочем, она его и всяким любила, только не терпела, чтобы он себя мучил). Да и все его любили в округе и даже чужие располагалась к нему. И Махалкина-Нахалкина жалела, что обозвала его недоумком, тем более что он не обиделся и продолжал ее любить, улыбался ей, как обычно, махал большой рукой, а если видел, что она идет на колонку за водой, то бежал следом, чтобы держать рычаг, пока вода толстой тугой струей бьет в ведро.
— Ну ладно, ладно, — говорила Махалкина-Нахалкина, — хватит, перельешь.
И он убирал руку, понимал, смеялся, радовался, хватался за ведро, чтобы нести, но соседка отбирала:
— Обольешься, а мне отвечать.
Неделю она терпела, а потом пришла к ним вечером с пирогами.
— Вот, — сказала, — с грибами. Витька набрал вчера. В Кондаково ездил.
Бабка сказала, что в Кондаково лес хороший, и поставила чайник.
— Суббота завтра. Баню топить для вас? Как всегда? С утра?
В баню Егорка ходил с Витькой, мужем Махалкиной-Нахалкиной (а звали ее, к слову сказать, Надеждой). Витька называл Егорку мужик, говорил с ним серьезно, а когда они отдыхали в предбаннике после парилки, рассуждал о таких вещах, в которых Егорка смыслить не умел, о политической обстановке, к примеру, или о ценах на бензин, или о соседе Крысенкове, который ходил с малолетним сыном на кладбище и собирал с могил конфеты.
— Жрут эти конфеты, и ничего, и здоровы, и хвалятся, скудоумные.
Витька говорил, Егорка слушал. Когда-то Витька работал помощником машиниста, но ушел на пенсию. Еще маленькому Егорке он подарил свисток, который свистел, точно как тепловоз, пришлось в конце концов у спящего Егорки этот свисток украсть и выбросить куда подальше, в реку Илевну, до того он этим тепловозным свистом всех замучил, включая ворон. Наутро Егорка поискал свисток, поплакал, а потом бабка показала ему стрекозу, и он отвлекся.
Так они мирно жили до тихого сентябрьского дня 1993 года, когда к ним в калитку постучала женщина средних лет, седая, строгая, как учительница, в очках. И одета она была строго: длинная черная юбка, свитер тоже черный, плащ защитного цвета, как военный, туфли на низком каблуке, в руке она несла черную лакированную сумку с желтым блестящим замком. Золотым.
У калитки случился Егорка и тут же ее перед женщиной отворил.
— Здравствуй, Егорка, — сказала женщина. Знала его имя.
Но Егорка ее имени не знал и сказал:
— Здравствуй, милая.
Нравилось ему это слово, милая. А понимал ли он его значение, не знаю. Во всяком случае, мужчин он милыми не называл.
— Бабушка дома?
— Баушка (так он называл свою бабку — баушка, а бабкой она себя сама называла) полы моет.
— Тогда давай посидим, подождем.
И они сели на крыльцо.
— Как у вас здесь поезда слышно, — сказала женщина.
Егорка взял ее за руку с одним серебряным кольцом на безымянном пальце и сказал:
— Не бойся.
— Я не боюсь.
Руки своей она от Егорки не отнимала.
Скоро отворилась дверь и на крыльцо вышла бабка с ведром грязной воды.
— Здравствуйте, — сказала женщина и хотела подняться, но Егорка ухватил ее за руку крепко.
— А вон, смотри, — показала бабка Егорке, — Тобик хвостом машет, поди поговори с ним.
Егорка забыл о женщине и отправился за калитку к Тобику, разговаривать. Тобик при виде Егорки лег на спину, подставил ему свое пузо для чесания.
— У меня к вам просьба, Анна Владимировна (так звали бабку), — сказала женщина.
Бабка женщину прекрасно знала. Римма Сергеевна тридцать лет проработала главврачом в железнодорожной поликлинике.
Бабка заранее испугалась еще невысказанной просьбы Риммы Сергеевны и медлила. Отжала половую тряпку и повесила на перекладину возле все еще цветущих поздних флоксов, грязную воду выплеснула под вишни, ведро положила набок, руки вымыла у водопровода, вытерла передником, и тогда уже вернулась к Римме Сергеевне, и села с ней рядом на ступеньку.
— Лучше бы нам в доме поговорить, — попросила Римма Сергеевна, — вдруг кто по тропинке пройдет, услышит.
— Ворона разве что. Или вон яблоня. Или вон Тобик с Егоркой. А больше некому, это здесь раньше проход был на Трудовую, и люди пользовались, а сейчас нет, Василь Иваныч заколотил калитку, потому что не только ходили, но и малину рвали, а один мерзавец кочан капусты выдрал, прямо на глазах Василь Иваныча, не постеснялся.
Помолчали. Бабка уже думала: да говори ты скорей, не тяни. А в дом она не позвала Римму Сергеевну, потому что не хотела остаться с ней наедине в доме, один на один — на крыльце спокойнее, глаза небо видят.
— Воскреси мне сына, — вымолвила наконец бывшая главврач.
— Так я и думала, — сказала бабка, — так я и думала, что Надежда разболтала, нет никакой надежды на эту Надежду, недаром фамилию носит Махалкина, я тоже дура, нашла кому рассказывать, да и рассказывать было нечего, кого я воскресила? — никого.
— Но ты сказала, что если бы Шура захотела воскреснуть, ты бы ее тогда смогла воскресить.
— Мало ли что я сказала. Нет у меня таких полномочий, людей с Того Света возвращать. Глупость была с моей стороны и ничего больше. Да если бы и могла. Ты, Римма, с ума сошла, раз такое просишь. Твой сын монстр, его нельзя возвращать, пусть остается там, где он есть, в аду.
У Риммы Сергеевны сами собой потекли слезы.
— Поплачь, поплачь, полегчает. Сама виновата, баловала его много.
— А ты своего не балуешь.
— Моего нельзя не баловать, он Богом обижен. Прости меня, Господи.
— Мой тоже обижен. Ты думаешь, это от воспитания? Нет, от рождения. Мне психиатр московский все объяснил, он с моим Славиком, когда его в тюрьму посадили, много разговаривал, он даже просил за Славика на суде, чтоб заменили высшую меру на пожизненное. И еще говорил, что мог бы его совсем вылечить, он таблетки придумал, испытания проводил. Это не Славик убивал, это болезнь убивала, вот я и хочу, чтобы он пожил нормальным человеком, без болезни, а таблетки я уже добыла, в сумке у меня, показать?
— Нет.
— А я покажу, смотри.
И она щелкнула блестящим замочком, открыла сумку, вынула пузырек из темного стекла, в нем угадывались таблетки, мелкие, круглые.
— Он как вернется ко мне, так я его увезу отсюда, никто не узнает, может быть, в Казахстан, а может быть, на Дальний Восток.
— И в Казахстане люди живут, и на Дальнем Востоке люди живут, никому не пожелаю своих детей мертвыми находить. Нечего и думать, что я убийцу воскрешать возьмусь, а в твои таблетки я не верю, тем более что они кончатся скоро.
— Мне будут присылать.
— Разговор окончен.
Помолчали. Посмотрели на Егорку, как он возится с Тобиком.
— Хорошо тебе, — сказала Римма Сергеевна и встала.
На другой день бабка пошла с Егоркой на станцию смотреть поезда. Скорые проходили мимо, пригородные останавливались. Егорка наблюдал и вел себя совсем тихо, поезда его завораживали так же, как телевизор. Ждать их появления он мог долго, терпеливо. Стояли они с бабкой на платформе, в самом конце, где народу почти не бывает.
Подкатила электричка, отворились двери, никто не вышел, двери отчего-то не закрывались, электричка стояла, в нескольких окнах виднелись люди. Бабке стало тревожно, и она попросила Егорку:
— Пойдем, Егорушка, — и посулила, — я тебе дома телевизор включу и киселя сварю.
Но Егорка как будто ее не слышал, смотрел в отворенные двери, в полумрак железного тамбура. Там светился красный огонек, кто-то стоял, курил. И бабка вдруг позавидовала неведомому, невидимому курильщику, словно бы он легко живет и нет у него забот, в этот, по крайней мере, миг. Всё-то мы придумываем про людей, и про себя, и про других.
Двери сомкнулись, электричка тронулась с места, и Егорка отправился за ней по платформе, а затем побежал, бабка его нагнала, схватила за руку, но он вырвался. Было это как во сне. Он бежал за электричкой до самого дальнего края, но прыгать не прыгнул, остановился, а когда бабка подбежала к нему, Егорка с ужасом смотрел с платформы вниз, на рельсы. Бабка зашептала:
— А ты отступи, отступи, вот так, молодец, вон лесенка, мы к ней, мы с нее и сойдем, и домой поплетемся, — и посулила вновь, — я киселя сварю.
День был вторник.
В среду бабка встала пораньше. Егорку напоила чаем с вареньем, включила ему телевизор, мультфильмы, взяла бидон, взяла деньги и отправилась к гастроному, за угол, туда по средам привозили бочку с молоком, народ занимал очередь спозаранку.
Дорого ей это молоко обошлась.
Ушла в семь, вернулась в девять, дверь оказалась заперта изнутри, на засов, в этом ничего необычного не было, Егорка умел (и любил) запирать, умел (и любил) отпирать, но оставаться запертым без возможности самому открыть дверь, это он не выносил, бился, плакал. И все обходилось нормально (за исключением той тетки-мошенницы) до этого страшного дня. После бабка говорила (Махалкиной, кому же еще), что пока стояла за молоком, когда уже привезли бочку и очередь стала понемногу продвигаться, почувствовала озноб. Тошно стало нет душе.
— До того тошно, что хоть беги назад, домой.
Но бабка дотерпела, взяла молоко, три литра, и тогда уже пошла домой, и то не бегом, чтобы драгоценное молоко не расплескать из бидона.
Бабка постучала в дверь, кто-то подошел с той стороны, шаги были не Егоркины, бабка сразу поняла. Подойти с той стороны подошли, но дверь отворять не спешили.
Бабка вновь постучала. И попросила осипшим голосом:
— Откройте.
И увидела выползший из-под двери, из-под нижнего ее края, белый конверт. Бабка его подняла. Почтовый конверт АВИА без надписей, внутри фотография молодого человека, сына Риммы Сергеевны, Славика.
— Иди в сарай, — сказал из-за двери голос, — воскрешай моего сына, иначе я сожгу твой дом вместе с твоим внуком и с собой, керосином оболью и сожгу.
— Где Егорка?
— Спит. Отваром твоим напоила, пока он про Чипа и Дейла смотрел. Свалился со стула и спит. Если хочешь, чтобы проснулся, иди и воскрешай. У тебя час. Если увижу, что мимо сарая идешь, к калитке, подожгу дом.
— Ты с собой керосин принесла? — задала бабка глупый вопрос.
— С собой. Канистру взяла. Егорку твоего первым полью, не пожалею, не надейся.
У бабки пересохло во рту.
Она вступила в сарай. Стояла, смотрела в темноту, в руках держала фотоснимок. Ни о чем не думала. Ничего не видела. Ничего не слышала. Была никем. Вдруг Славик вспомнился сам собой, точнее, вспомнилась давнишняя встреча с ним. Бабка шла с рынка, несла Егорке большие сливы, он их очень любил. На остановке толпился народ, бабка остановилась. Ждать или не ждать? Пешком идти никак не меньше часа, зато без толкотни. И даже если появится прямо сейчас автобус, не влезешь в него, не пробьешься.
Тут и в самом деле показался автобус. И бабка в него не полезла, пошла пешком. Через поле, через шоссе (темным жутким подземным переходом), через дачный поселок, через стадион (заросшее травой громадное поле, ворота по краям).
В пустом поле стоял Славик и делал зарядку, приседал, разводил руками. Бабка долго огибала поле по протоптанной пешеходами тропинке и все видела Славика, и даже позавидовала тогда его матери, что нормальный парень и даже не пьющий, а работал Славик таксистом.
Бабка огибала поле, смотрела на Славика, и он тоже посмотрел на нее, и вдруг бабка поняла, что он смотрит, но не видит, что он слепой. С чего вдруг такая напасть? Всегда был зрячим. Бабка остановилась, и он бросил свою зарядку, остановился. Как будто чувствовал ее присутствие. Бабка направилась к нему через поле. Зачем? Почему? Она не знала. Подошла, взяла за руку и повела. Солнце скрылось за облако, и стало темно, как в погребе (как-то раз девчонкой она забралась в погреб, чтобы понять, как оно мертвецам под землей). Дорога сама их вела, они шли, шли, и стало светлее, это в щели сарая просачивался свет.
Бабка вывела слепого Славика из сарая в сад.
— Где мы? — встревоженно спросил Славик.
Мать его уже бежала к ним из дома.



