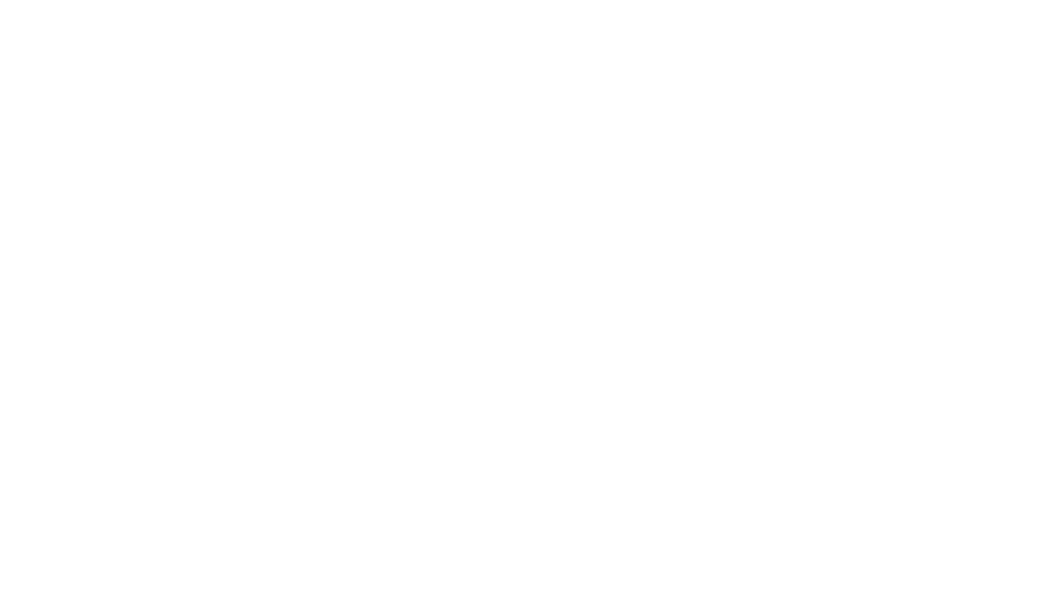
Ирина Ермакова — Прижизненное дерево
***
Дерево — ап! — и расцвело под балконом,
словно зажглись разовые соцветья.
Тьма шебуршит зелёным, липко-зелёным,
пальцем шершавым шарит по листьям ветер,
и, пробегая — шасть! — по диагонали —
шорх! — лепествы ерошит петит молочный,
длинно шипит, округляя воздух блочный,
свет надувая, шашни теней гоняя,
ветки ширяя, ночь до корней пробирая.
Брось, — гудит, — переживёшь и это,
слышишь? — смерти не будет, а будет лето,
коли уж — расцвело.
И шелестит, листая наоборот
книгу крови, клейкую память рода.
В кроне — ш-ш — невидимая свобода.
Дерево прижизненное цветёт.
Разговор
как дела? — говорит, — хорошо, что жива
он звонит мне раз в год, а бывает и два
объяснить, как он всё это любит
говорит полчаса и ещё два часа
в телефоне всплывают ещё голоса
всюду люди
прижимаю опухшее ухо к плечу
гулкой трубкой любуюсь, в ладони кручу
и кладу её на подоконник
и смотрю за окно на завод и закат
поднимаю — ещё говорят? говорят
солнце тонет
входит ночь в притворённую створку окна
занимается память, искрят имена
липнет слух к телефонному дулу
раскаляется пластик, сплавляется суть
надо трубку как градусник, что ли, стряхнуть
как сбивают температуру
как сбивают холодным вопросом ответ
и орут у подъезда автомобили
и мигает в подфарники загнанный свет
ты ещё не заснула? и нечего спать
не забудь, уточнит, нам ещё умирать
а душевно поговорили!
Тост
Розы как Музы
сводят меня с холма
алой толпой кустарной
поступью витиеватой
Долгой сырой тропой
вниз — под откос
вниз — под конвоем
зорких шипов цеплючих
Розы что Музы язвят
дёрнешься — зашипят
чёрные жала со звоном колючим вонзят
тысячей капельных точек распишут
винным багряным червлёным
карту пути как тату
набивая на коже
Не обернуться, друзья мои, не вернуться!
Там — на вершине холма
милая родина — там
красное солнце навзрыд
полыхает над нею
блеск — полоумной сиреной
манит сверлит надрывает
так что смыкает в тебе небо с землёй
Строгая стража
ниже уводит и ниже
глубже и глубже в долину
Весело нам уходя
чувствовать шип золотой
прошивающий спину
Гуще и гуще воздух — не продохнуть
розовым духом вымощен разовый путь
путь неминучий словно главный закон
словно летучий самый глубокий
сон
неизбежный для каждого
Ну, дорогие друзья, за военные розы?
* * *
А летуче-горючее естество
этой жизни, дунешь — и нет его.
И не то могло бы в жару случиться
в знойном пареве, мареве, куреве, мглице.
За покраской ограды всё — ничего,
потный камень тает, лицо дымится,
распаляясь, как всякая божья тварь,
залипаешь в раствор сентября вязкий
…человечки в ляпах зелёной краски
сквозь ещё не застывший горят янтарь:
мой пожизненный друг, товарищ и брат,
здесь такие над нами жары́ висят,
что никто и не может быть виноват,
хочешь, буду я кругом виновата? —
мне ж легко, кто бы что бы ни учудил
…день темнит, густеет и янтарится.
За спиною ограды родных могил.
И на каждой — крошки, стакан, жар-птица.
Перевал
Нету сил, а ведь надо идти.
Солнце в черепе и под ногами.
Жар. Дымится тетрадь со стихами
в отношеньи один к десяти.
Блеск наскальный.
Разбег вертикальный.
Огибаем обрыв идеальный.
Где-то рядом вода и трава.
Трижды падаем. Осыпи дважды.
Мой осёл, озверевший от жажды,
говорит мне, что я не права.
Брось, ехидничает, болтовня,
не дотянем до перевала.
Ты-то знаешь, я не подбирала
слов, они подобрали меня.
Перевал. Спрыгнет камушек певчий.
Тень вершины скользнёт по лицу.
Не надейся, что спуск будет легче,
но покой или воля – внизу.
Сугроб
отпусти Господи я ли не
отпахала всё что настало мне?
я устала смилуйся отпусти
горе горою растёт в груди
сны растекаются по степям
снятся сугробы моим сыновьям
пепельный снег в золотой стороне
в сером сугробе горелый блиндаж
птенчик железный кружит в тишине
горы голов на промёрзлой стерне
и Верещагина карандаш
Гефсимания
На бледном небе плавно проступая
просвечивая каждый божий куст
растёт луна и смотрит как слепая
поверх всего что знает наизусть
Лицо её безумно и бескровно
глаза её с обратной стороны
бессонно и бесстыдно и подробно
мы ей насквозь в конце времен слышны
Слух раздвоён и век подобен эху
в нём режет ухо звяканье мечей
луна на ощупь вспарывает реку
сверкающими пальцами лучей
и гасит свет
Ни зги в подлунном мире
кипит Кедрон сквозь чёрные холмы
отряд идёт колонной по четыре
хруст ветки отделяет тьму от тьмы
Нет времени шаги в саду шаги
над лицами резвятся светляки
проснуться невозможно — все устали
невидимы свободны и легки
мы спим — крестом раскинув кулаки
вповалку под горящими кустами
как первые Твои ученики
Распятый гефсиманским сном Лунарий
в Сардинии Вирджинии Самаре
в двухтысячном на неподвижном шаре
и больше неба полая луна
истраченный серебряный динарий
***
Максиму Амелину
Распушилась верба холмы белеют
Слух повязан солнцем дымком и пухом
Ветер утреннее разносит ржанье
Треплет наречья
Вверх пылят по тропам ручьи овечьи
Колокольцы медные всласть фальшивят
Катит запах пота волненья шерсти
К Южным воротам
Голубь меченый взвинчивает небо
Блещут бляхи стражников шпили башен
Полон мёда яда блаженной глины
Улей Господень
Никаких долгов никаких иллюзий
За плечами жар — позвоночник тает
И душа как есть налегке вступает
В праздничный Город
***
Вот и праздники близятся, как обещал поэт.
Пухнет тесто, замочен изюм, затеваются яства.
В окнах мутных, как память, смороженный за́ зиму свет
отпотел и поёт, что в границах московского царства
нет — чего ни хватись, а зато географии — хоть
завались и хлебай из канавы любой — до Находки.
В постпосто́вом пространстве весна воскресает и плоть
в нарастающем духе сивухи и зелени кроткой.
Запах родины дымной, слезясь, поднимается вверх
по небесной чугунке, плывёт и гудит колокольно:
моет окна до полной прозрачности Чистый Четверг
в девяти часовых поясах и сверкает продольно.
Всё нам — Божья роса, что чужому — не дурость, так смерть,
всё бы праздника ждать, переменки, получки, ответа,
и тянуться, и, стоя на цыпочках, стёкла тереть
до сигнального блеска сухой прошлогодней газетой.
Праздник близится, катит со скоростью солнца в глаза
от Чукотки сквозь Яну и Лену успеть до заката
на Байкал, из Иркутска — в Курган и Самару и за
Волгой — сразу Москва, и — на Питер до Калининграда.
Наливает и пьёт отстоявшая службу страна,
раздвигает столы и гармони, грохочет посуда,
общий воздух огромный стеклянный отмыт докрасна
и сияет, и ясно горит как пасхальное чудо.
Ода радости
И оживая опять с утреца
славлю день кофейным глотком кипящий
славлю солнце пьющее воду с лица
вслед ночным затяжным обложным косящим
в каждой Божьей капле и каждой луже
ранний свет с московским его блеском
навострённых трав зелёные уши
гром колец трамвайных на Павелецком
сладкий дым над крепостью пития
славлю радость: радуйся радость моя!
И взвилась радость и закрутила
поднимая листья камни слова
все на свете вещи и существа —
у меня воздушная перспектива
Дерево — ап! — и расцвело под балконом,
словно зажглись разовые соцветья.
Тьма шебуршит зелёным, липко-зелёным,
пальцем шершавым шарит по листьям ветер,
и, пробегая — шасть! — по диагонали —
шорх! — лепествы ерошит петит молочный,
длинно шипит, округляя воздух блочный,
свет надувая, шашни теней гоняя,
ветки ширяя, ночь до корней пробирая.
Брось, — гудит, — переживёшь и это,
слышишь? — смерти не будет, а будет лето,
коли уж — расцвело.
И шелестит, листая наоборот
книгу крови, клейкую память рода.
В кроне — ш-ш — невидимая свобода.
Дерево прижизненное цветёт.
Разговор
как дела? — говорит, — хорошо, что жива
он звонит мне раз в год, а бывает и два
объяснить, как он всё это любит
говорит полчаса и ещё два часа
в телефоне всплывают ещё голоса
всюду люди
прижимаю опухшее ухо к плечу
гулкой трубкой любуюсь, в ладони кручу
и кладу её на подоконник
и смотрю за окно на завод и закат
поднимаю — ещё говорят? говорят
солнце тонет
входит ночь в притворённую створку окна
занимается память, искрят имена
липнет слух к телефонному дулу
раскаляется пластик, сплавляется суть
надо трубку как градусник, что ли, стряхнуть
как сбивают температуру
как сбивают холодным вопросом ответ
и орут у подъезда автомобили
и мигает в подфарники загнанный свет
ты ещё не заснула? и нечего спать
не забудь, уточнит, нам ещё умирать
а душевно поговорили!
Тост
Розы как Музы
сводят меня с холма
алой толпой кустарной
поступью витиеватой
Долгой сырой тропой
вниз — под откос
вниз — под конвоем
зорких шипов цеплючих
Розы что Музы язвят
дёрнешься — зашипят
чёрные жала со звоном колючим вонзят
тысячей капельных точек распишут
винным багряным червлёным
карту пути как тату
набивая на коже
Не обернуться, друзья мои, не вернуться!
Там — на вершине холма
милая родина — там
красное солнце навзрыд
полыхает над нею
блеск — полоумной сиреной
манит сверлит надрывает
так что смыкает в тебе небо с землёй
Строгая стража
ниже уводит и ниже
глубже и глубже в долину
Весело нам уходя
чувствовать шип золотой
прошивающий спину
Гуще и гуще воздух — не продохнуть
розовым духом вымощен разовый путь
путь неминучий словно главный закон
словно летучий самый глубокий
сон
неизбежный для каждого
Ну, дорогие друзья, за военные розы?
* * *
А летуче-горючее естество
этой жизни, дунешь — и нет его.
И не то могло бы в жару случиться
в знойном пареве, мареве, куреве, мглице.
За покраской ограды всё — ничего,
потный камень тает, лицо дымится,
распаляясь, как всякая божья тварь,
залипаешь в раствор сентября вязкий
…человечки в ляпах зелёной краски
сквозь ещё не застывший горят янтарь:
мой пожизненный друг, товарищ и брат,
здесь такие над нами жары́ висят,
что никто и не может быть виноват,
хочешь, буду я кругом виновата? —
мне ж легко, кто бы что бы ни учудил
…день темнит, густеет и янтарится.
За спиною ограды родных могил.
И на каждой — крошки, стакан, жар-птица.
Перевал
Нету сил, а ведь надо идти.
Солнце в черепе и под ногами.
Жар. Дымится тетрадь со стихами
в отношеньи один к десяти.
Блеск наскальный.
Разбег вертикальный.
Огибаем обрыв идеальный.
Где-то рядом вода и трава.
Трижды падаем. Осыпи дважды.
Мой осёл, озверевший от жажды,
говорит мне, что я не права.
Брось, ехидничает, болтовня,
не дотянем до перевала.
Ты-то знаешь, я не подбирала
слов, они подобрали меня.
Перевал. Спрыгнет камушек певчий.
Тень вершины скользнёт по лицу.
Не надейся, что спуск будет легче,
но покой или воля – внизу.
Сугроб
отпусти Господи я ли не
отпахала всё что настало мне?
я устала смилуйся отпусти
горе горою растёт в груди
сны растекаются по степям
снятся сугробы моим сыновьям
пепельный снег в золотой стороне
в сером сугробе горелый блиндаж
птенчик железный кружит в тишине
горы голов на промёрзлой стерне
и Верещагина карандаш
Гефсимания
На бледном небе плавно проступая
просвечивая каждый божий куст
растёт луна и смотрит как слепая
поверх всего что знает наизусть
Лицо её безумно и бескровно
глаза её с обратной стороны
бессонно и бесстыдно и подробно
мы ей насквозь в конце времен слышны
Слух раздвоён и век подобен эху
в нём режет ухо звяканье мечей
луна на ощупь вспарывает реку
сверкающими пальцами лучей
и гасит свет
Ни зги в подлунном мире
кипит Кедрон сквозь чёрные холмы
отряд идёт колонной по четыре
хруст ветки отделяет тьму от тьмы
Нет времени шаги в саду шаги
над лицами резвятся светляки
проснуться невозможно — все устали
невидимы свободны и легки
мы спим — крестом раскинув кулаки
вповалку под горящими кустами
как первые Твои ученики
Распятый гефсиманским сном Лунарий
в Сардинии Вирджинии Самаре
в двухтысячном на неподвижном шаре
и больше неба полая луна
истраченный серебряный динарий
***
Максиму Амелину
Распушилась верба холмы белеют
Слух повязан солнцем дымком и пухом
Ветер утреннее разносит ржанье
Треплет наречья
Вверх пылят по тропам ручьи овечьи
Колокольцы медные всласть фальшивят
Катит запах пота волненья шерсти
К Южным воротам
Голубь меченый взвинчивает небо
Блещут бляхи стражников шпили башен
Полон мёда яда блаженной глины
Улей Господень
Никаких долгов никаких иллюзий
За плечами жар — позвоночник тает
И душа как есть налегке вступает
В праздничный Город
***
Вот и праздники близятся, как обещал поэт.
Пухнет тесто, замочен изюм, затеваются яства.
В окнах мутных, как память, смороженный за́ зиму свет
отпотел и поёт, что в границах московского царства
нет — чего ни хватись, а зато географии — хоть
завались и хлебай из канавы любой — до Находки.
В постпосто́вом пространстве весна воскресает и плоть
в нарастающем духе сивухи и зелени кроткой.
Запах родины дымной, слезясь, поднимается вверх
по небесной чугунке, плывёт и гудит колокольно:
моет окна до полной прозрачности Чистый Четверг
в девяти часовых поясах и сверкает продольно.
Всё нам — Божья роса, что чужому — не дурость, так смерть,
всё бы праздника ждать, переменки, получки, ответа,
и тянуться, и, стоя на цыпочках, стёкла тереть
до сигнального блеска сухой прошлогодней газетой.
Праздник близится, катит со скоростью солнца в глаза
от Чукотки сквозь Яну и Лену успеть до заката
на Байкал, из Иркутска — в Курган и Самару и за
Волгой — сразу Москва, и — на Питер до Калининграда.
Наливает и пьёт отстоявшая службу страна,
раздвигает столы и гармони, грохочет посуда,
общий воздух огромный стеклянный отмыт докрасна
и сияет, и ясно горит как пасхальное чудо.
Ода радости
И оживая опять с утреца
славлю день кофейным глотком кипящий
славлю солнце пьющее воду с лица
вслед ночным затяжным обложным косящим
в каждой Божьей капле и каждой луже
ранний свет с московским его блеском
навострённых трав зелёные уши
гром колец трамвайных на Павелецком
сладкий дым над крепостью пития
славлю радость: радуйся радость моя!
И взвилась радость и закрутила
поднимая листья камни слова
все на свете вещи и существа —
у меня воздушная перспектива



