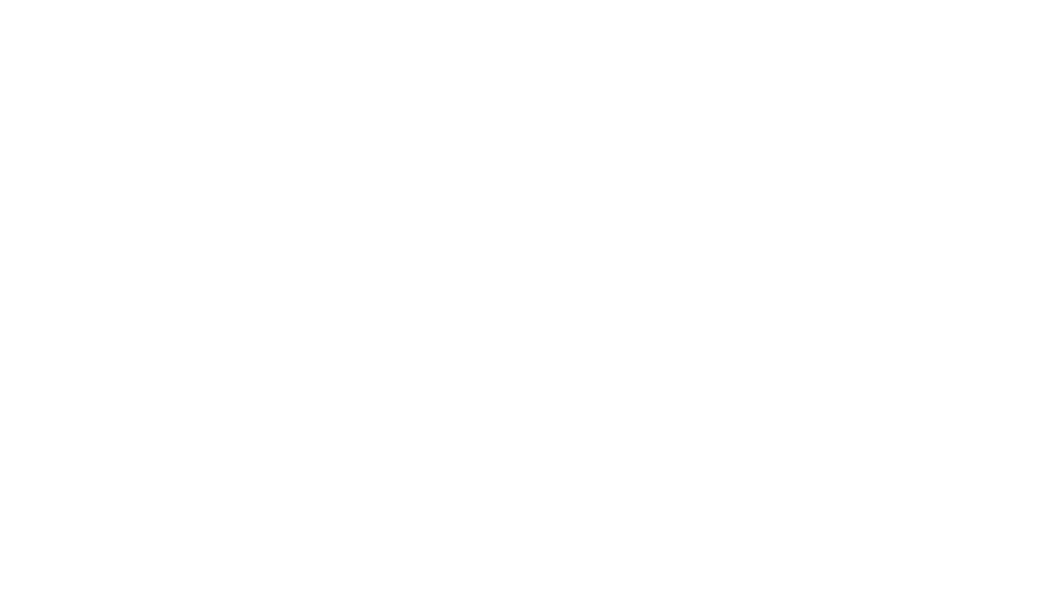
Борис Евсеев — Шутовской жезл
Борис Тимофеевич Евсеев — писатель, член Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра и Союза российских писателей. Получил музыкальное, литературное и журналистское образование. В советское время из-за выступлений в защиту свободы слова в официальную печать не допускался, публиковался в Самиздате. В 1978 году в Самиздате вышел двухтомник его ранних произведений. С 1991 года проза и стихи Евсеева публикуется в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Москва», «Постскриптум», «Волга», «Урал», «Подъём», «Смена», «Огонёк» и др. Автор нескольких сборников стихов и многих книг прозы: «Баран», «Отречённые гимны», «Власть собачья», «Русские композиторы», «Юрод», «Живорез», «Лавка нищих», «Евстигней», «Офирский скворец», «Казненный колокол», «Сергиев лес», «Очевидец грядущего» и др. Лауреат премий «Венец», Горьковской литературной премии, журналов «Октябрь», «Литературная учёба», «Нового журнала» (США), Премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2012), Бунинской премии (2011) в номинации «Художественная проза», финалист премий им. Ю. Казакова, «Ясной поляны», «Русского Букера», «Большой книги» (2009 и 2010). Роман «Евстигней» вошел по версии «НГ-ExLibris» в число 50 лучших книг 2010 года. О творчестве Б. Евсеева написано более 150 отдельных статей, рецензий, заметок. Два издания выдержала книга Аллы Большаковой: «Феноменология литературного письма. О прозе Бориса Евсеева». Проза Евсеева переводилась и публиковалась на английском, азербайджанском, голландском, немецком, польском, эстонском и других языках.
Накануне
День шута ещё не наступил, а по Цветному, в утренний час пустому, бульвару уже двигалась толпа: пёстрая, беспорядочная. Лежавший на боку, на скамейке, бомжонок Чиль сперва услыхал, а потом и увидел: нервно подёргивая долгим телом, по бульвару на сотне лапок движется, шурша, даже не гусеница, а скорей огромная личинка неизвестного науке насекомого: подрагивает цветными чешуйками, машет слюдяными, наспех подшитыми крыльями и шарфы газовые волной запускает.
Ближе, ближе, ближе!..
Впереди — худой, высоченный и, сразу видно, что некормленый, «Гороховый медведь»: серая в крапинку простыня до пят, на шее бобы в стручках, а ещё — шерстистая маска на морде. Чуть левей — Синяя борода. Вокруг живота — рыже-бурая волчья шкура, под ней — полосатые бермуды. Рядом с «Бородой» — мускулистые ноги в лиловых колготах, чуть выше — грубые волосатые руки, и вдобавок — огромный гвоздь, торчащий шляпкой вверх из чистенькой, натянутой на уши детской панамки. А лица-то между ушами и нет: одни густые белила, залепившие брови, щёки, нос!
Позади этих двоих, подметая бульвар лисьим хвостом и виляя кормой, — девка-распустёха, девка-зараза на деревянных платформах. Стук-постук, по мелкому гравию, стук-постук…
Смех, регот, смех!
Счастье дуралеев, плотно текущее по Цветному бульвару, двенадцатилетний бездомник Чиль воспринял как своё собственное: притянуло оно, заворожило. Захотелось вскочить, пристроиться, сладко хрустнуть костьми, закричать курой. Жаль только, Москва ковидная, Москва заспанная, шевельнув рваниной мелких туч, встряхнув сохлыми кистями прошлогодних рябин — от хохочущих клоунов отвернулась.
С хрипом втянув холодящий воздух и застучав от холода зубами, привставший было бомжонок Чиль как голубь затряс руками, забил крыльями, но тут же и сник, нахохлился и, перевернувшись набок, уткнулся лицом в спинку скамьи.
Вдруг что-то стряслось. Поток охламонов, дрогнув, остановился.
— Снова Пырч за старое взялся, — скрежетнул кто-то в толпе ряженых.
— Не туда йдёте! — крикнул брыластый, в рябых перьях, с индюшачьим зобом, укреплённым на шее, человечишко.
Расставив ноги и широко раскинув руки, перегородил он путь толпе. Багровый зоб, питаемый воздухом из баллончика, сунутого в боковой карман, стал вздуваться, вспух до невозможности и готов был лопнуть.
— Надо магазины ломить, продукты и технику вовочь! Видали, как в Штатах? Видали, как в Украине?
— Заткнись, Пырч! Не грабиловки, ржачки хотим!
— Одной ржачкой сыт не будешь. А обносить паватки житуха все одно — заставит! А ну, кто со мной? Тряхонём богатеньких! Тут в Сухаревых переувках атасные маркеты есть.
— Сам иди. Мы на грабёж не подписывались…
— Ты гля: командир брыластый выискался!
— Да врубитесь вы! Терёха для вас парад выдумав, чтобы ввастям подороже продаться. Айда! Ораву не остановят! Маркет обнесём — и до хаты!
К Пырчу долгоносому, Пырчу брыластому кинулся человек, одетый гороховым медведем. Сцепившись, покатились они по мелким московским камешкам, по охристому бульварному песочку.
Бомжонок Чиль уже хотел было дать дёру, но тут к упавшим на землю клоунам подбежал ещё один: невысокий, крепкий, в островерхом колпаке с ослиными ушами и в пиджачке, сердцами красными изрисованном. Несколько раз ударил он палкой сперва Пырча, а потом и медведя.
Стало ясно: бугор явился. Чуть помедлив, бугор крикнул:
— А ну, на место, и чтоб никакого ору. А тебя, Пырч, — только дёрнись ещё — на счётчик поставлю. Всё. Ушёл я. Без меня дальше. Синяя борода приглядит за прогоном…
Чуть помешкав, толпа фарсёров и ёр двинулась дальше.
И тогда распорядитель всего этого дела, так быстро и властно вернувший движению размеренность и порядок, пошептав что-то на ухо «Синей бороде», а потом и «Гороховому медведю», рывком от шествия отделился.
Перепрыгнув через бульварную ограду, резко встряхивая головой в колпаке с ослиными ушами, наискосок, через поток машин, двинулся он к Старому цирку. За ним дёрнулся было, но потом почему-то возвратился назад клоун с огромным белым цветком на груди…
Громче, заливистей, круче!
Как полупрозрачная громадная труба взвыл, наполняясь гулом и гуканьем, Цветной бульвар. Визг тормозов, кряканье скорых, ругань из открытых автомобильных окон, — всё это человека в шутовском колпаке беспокоило мало. Мастерски поигрывая палкой с набалдашником, петлял и петлял он среди машин.
Вслед ему с небольшой заминкой полетели проклятия дуралеев, почувствовавших себя обутыми сразу на обе ноги:
— Репетицию, ирод, срывает!
— Сам подманил, а сам бросил.
— Докладаться — слышь-ка? — побёг он…
— Устроил шествие гномов, а сам в кусты!
— Кончайте, черти бесхвостые, воду мутить! Чё ерепениться? Вам заплатили? Ну и выписывайте кренделя ногами: авось властя на бедных шутов внимание обратят.
Поток ряженых двинулся дальше, а человек с ослиными ушами, в легковатой для марта одёжке, изрисованной ко всему прочему ещё и удлинёнными сиреневыми харями, миновав проезжую часть бульвара, взбежал по ступенькам. Но тут же спустился вниз и, обойдя здание сбоку, исчез на задах Старого цирка.
Ошарашенный всем увиденным, жарко одетый приезжий паренёк, с упоением наблюдавший за столичным шествием, кинулся за человеком с палкой. Но добрался лишь до служебного входа: в дверях торчал охранник в синей униформе. А пареньку так хотелось поделиться частью московской свободы с кем-то из работников цирка! Не вышло. Набитый под завязочку столичной усталостью, присел он на пустой ящик, привалился спиной к жестяной рифлёной стенке и вмиг уснул. Проснулся — от стонов и смачных плевков. Харкал лежащий на асфальте униформист. Потом застонал:
— Как саданул, шутяра! Как саданул… Не, вы видали? Ребро, гад, сломал. За ребро ответишь! И шишка теперь на темечке. У-у, недомерок! Я т-тя все одно достану. Я т-те устрою парад-алле на Красной площади!
Вышедший минуту назад покурить и ненароком толкнувший размалёванного шута униформист-жердяй, — затушил об асфальт продолжавшую тлеть в руке сигарету, потрогал шишку и ещё раз сыпанул матерком уходящему вслед.
На миг приостановившись, ряженый оглянулся.
Продолговатый цирковой двор вытянулся перед ним ещё сильней. Справа мусорник, слева рифлёные разгородки, ящики, какой-то паренёк с вылупленными зенками. Ближе к шлагбауму — фура и грузовик с прицепом: всё скошено, всё почти что лежит на боку. Редкий дефект зрения, при котором по краям обзора всё видимое кособочится, жить не мешал, но утомлял прилично. Пружинисто ступая, двинулся ряженый с хоздвора долой. В ближайшем сквозном дворе переоделся, сунул в заплечный сидор пиджачок, туда же отправил дурацкий колпак, на плечи накинул лёгкую ветровку. Зайдя за мусорные баки, двор внимательно оглядел.
«Показалось? – спросил себя ряженый и сам себе ответил, — это навряд. Не просто так трюкач этот к сегодняшней репетиции пристроился. А к цирку не пошёл, потому что светиться не захотел. Хорошо, что на Цветном выбить репетицию удалось. Здесь топтуна засечь легче. Теперь пускай хоть на окраину Москвы парад переносят!»
Прячась за мусорником, переодевшийся вынул мобилку, дружелюбно мурлыкнул:
— Слышь, Борода, — глянь, как там этот Бом?
— У которого цветок на лацкане и красный карандаш за ухом?
— Ну.
— Сначала за тобой дёрнулся, а потом чё-то притормозил.
— Ладно, прогон без меня кончайте.
— Так мы и закончили. Всё в норме, Терилло, будь спок.
— А тогда придержи этого Бома и прямо сейчас напои его. Хоть силком, а напои. Пускай тебе Счастливый Ганс поможет. Я тут рядом подожду. Когда нахлещется, оттащите его в переулок и поспрошайте: кто он, что он? Если есть документы — гляньте.
Говоривший, не выходя из-за мусорника, присел на корточки, закрыл глаза…
Через полчаса в штанах забурлила мобилка.
— Слышь, Терилло. Не из органов он. Из блатных. Татушки у него настоящие, мы раздели и осмотрели. На запястье — голая баба на крыльях. Скокарь он. Ну, взломщик, короче. Проговорился спьяну: за тобой топать послали. Чего от тебя хотят — не знает.
— Всё. Отпускайте его. До послезавтрего, Борода.
Терёха отключил мобилку, но продолжал, сидя на корточках, себе под нос бормотать:
«Послезавтра… Послезавтра всё прояснится! Тогда и узнаем, кто ноги за мной выставил. И время встречи с Правителем, выцарапанное у чинуши загребистого, окончательно установим!»
Говоривший встал, снова переоделся в шутовской пиджачишко и, бормоча: «оно и правильно, что в Старый цирк ломанулся. Зашёл для виду, а вышло с пользой…», — дворами вышел на Садовое и там вскочил в подоспевший автобус, двигавшийся в сторону Сухаревской площади. Поглядывая в окна, вспоминал последние сорок минут и корил себя за мягкость. В ушах звенел и наливался злобой крик униформиста:
— Недомерок!
Надо было вернуться и уже кулаком врезать униформисту по сопатке: за то, что подслушивал разговор с директорским замом.
…После пандемийных каникул Старый цирк на Цветном слегка одичал, люди стали злей, суетливей. Может, и поэтому разговор с директорским замом не заладился с порога.
— Кому горе, а кому радость, — начал ряженый сумрачно, — я б, к примеру, всех ваших тварей бессловесных поотпускал. Боюсь только: загрызут их люди. Не для еды, для полного владычества над природой! Сколько тут у вас зверей и пернастых?
— Около сотни будет, — слегка опешил директорский зам, — но быстро спохватился и даже повеселел:
— Судя по прикиду, вы к нам в ковёрные собрались?
— Пока — в клоуны-дрессировщики. Но только я у вас людей дрессировать буду.
— Ого! Так это место уже занято. Завхоз наш таким делом давно занимается.
— Слыхал я про него.
— Ну и чего тогда суётесь?
— А того. Циркачей ваших по кругу водить буду. А звери дрессировать их станут. Знаете, небось, как раньше медведей клоунадить учили? От одного перечисления, что умел в ХIХ веке медведь, — без кнута, без словесных оскорблений! — людишки ваши стыдом, как сыпью, должны покрываться. Программу так и назовём: «Звери на воле — люди в клетках».
— Думаю, тема исчерпана. Поэтому, будьте добры… Как фамилия ваша, кстати?
— Шутом Терёхой зовите. Раньше вдвоём работали: Самоха и Терёха. Высокий и приземистый. Грустно-весёлый и мрачно-едкий. Теперь – один я.
— Ну, вот что, весельчак вы наш мрачноватый. Кончена беседа. Осенью приходите. Может, тогда и работёнку для вас подыщем: навоз вывозить, попугаям хвосты чесать…
— Так я к вам раньше наведаюсь. Ждите!
Не прощаясь, шут Терёха вышел через служебный ход, дал набалдашником под ребро, а потом ещё и треснул палкой по темечку толкнувшего его униформиста и вмиг повеселел, потому как представил: вывалились из глазниц циркового шпиона глазные яблоки и, временами подскакивая, покатились вниз, вниз, к знаменитой, тихо и таинственно урчащей, московской Трубе. Покатились, на бегу очищаясь от мути и скверны, с изумлением подмечая всё, что творится внутри близлежащих домов и в глубине ещё не полностью закатанных в асфальт московских, уже с натугой дышащих, земель.
«Глаз, глаз! – радовался Терёха, — он ведь сложней и важнее мозга! Он — как новое тело человеческое. Завершённое тело, самостоятельное! Вот бы таким выпуклым телом-глазом стать и кататься по ободку жизненной арены до одури или до полного просветления!»
День шута ещё не наступил, а по Цветному, в утренний час пустому, бульвару уже двигалась толпа: пёстрая, беспорядочная. Лежавший на боку, на скамейке, бомжонок Чиль сперва услыхал, а потом и увидел: нервно подёргивая долгим телом, по бульвару на сотне лапок движется, шурша, даже не гусеница, а скорей огромная личинка неизвестного науке насекомого: подрагивает цветными чешуйками, машет слюдяными, наспех подшитыми крыльями и шарфы газовые волной запускает.
Ближе, ближе, ближе!..
Впереди — худой, высоченный и, сразу видно, что некормленый, «Гороховый медведь»: серая в крапинку простыня до пят, на шее бобы в стручках, а ещё — шерстистая маска на морде. Чуть левей — Синяя борода. Вокруг живота — рыже-бурая волчья шкура, под ней — полосатые бермуды. Рядом с «Бородой» — мускулистые ноги в лиловых колготах, чуть выше — грубые волосатые руки, и вдобавок — огромный гвоздь, торчащий шляпкой вверх из чистенькой, натянутой на уши детской панамки. А лица-то между ушами и нет: одни густые белила, залепившие брови, щёки, нос!
Позади этих двоих, подметая бульвар лисьим хвостом и виляя кормой, — девка-распустёха, девка-зараза на деревянных платформах. Стук-постук, по мелкому гравию, стук-постук…
Смех, регот, смех!
Счастье дуралеев, плотно текущее по Цветному бульвару, двенадцатилетний бездомник Чиль воспринял как своё собственное: притянуло оно, заворожило. Захотелось вскочить, пристроиться, сладко хрустнуть костьми, закричать курой. Жаль только, Москва ковидная, Москва заспанная, шевельнув рваниной мелких туч, встряхнув сохлыми кистями прошлогодних рябин — от хохочущих клоунов отвернулась.
С хрипом втянув холодящий воздух и застучав от холода зубами, привставший было бомжонок Чиль как голубь затряс руками, забил крыльями, но тут же и сник, нахохлился и, перевернувшись набок, уткнулся лицом в спинку скамьи.
Вдруг что-то стряслось. Поток охламонов, дрогнув, остановился.
— Снова Пырч за старое взялся, — скрежетнул кто-то в толпе ряженых.
— Не туда йдёте! — крикнул брыластый, в рябых перьях, с индюшачьим зобом, укреплённым на шее, человечишко.
Расставив ноги и широко раскинув руки, перегородил он путь толпе. Багровый зоб, питаемый воздухом из баллончика, сунутого в боковой карман, стал вздуваться, вспух до невозможности и готов был лопнуть.
— Надо магазины ломить, продукты и технику вовочь! Видали, как в Штатах? Видали, как в Украине?
— Заткнись, Пырч! Не грабиловки, ржачки хотим!
— Одной ржачкой сыт не будешь. А обносить паватки житуха все одно — заставит! А ну, кто со мной? Тряхонём богатеньких! Тут в Сухаревых переувках атасные маркеты есть.
— Сам иди. Мы на грабёж не подписывались…
— Ты гля: командир брыластый выискался!
— Да врубитесь вы! Терёха для вас парад выдумав, чтобы ввастям подороже продаться. Айда! Ораву не остановят! Маркет обнесём — и до хаты!
К Пырчу долгоносому, Пырчу брыластому кинулся человек, одетый гороховым медведем. Сцепившись, покатились они по мелким московским камешкам, по охристому бульварному песочку.
Бомжонок Чиль уже хотел было дать дёру, но тут к упавшим на землю клоунам подбежал ещё один: невысокий, крепкий, в островерхом колпаке с ослиными ушами и в пиджачке, сердцами красными изрисованном. Несколько раз ударил он палкой сперва Пырча, а потом и медведя.
Стало ясно: бугор явился. Чуть помедлив, бугор крикнул:
— А ну, на место, и чтоб никакого ору. А тебя, Пырч, — только дёрнись ещё — на счётчик поставлю. Всё. Ушёл я. Без меня дальше. Синяя борода приглядит за прогоном…
Чуть помешкав, толпа фарсёров и ёр двинулась дальше.
И тогда распорядитель всего этого дела, так быстро и властно вернувший движению размеренность и порядок, пошептав что-то на ухо «Синей бороде», а потом и «Гороховому медведю», рывком от шествия отделился.
Перепрыгнув через бульварную ограду, резко встряхивая головой в колпаке с ослиными ушами, наискосок, через поток машин, двинулся он к Старому цирку. За ним дёрнулся было, но потом почему-то возвратился назад клоун с огромным белым цветком на груди…
Громче, заливистей, круче!
Как полупрозрачная громадная труба взвыл, наполняясь гулом и гуканьем, Цветной бульвар. Визг тормозов, кряканье скорых, ругань из открытых автомобильных окон, — всё это человека в шутовском колпаке беспокоило мало. Мастерски поигрывая палкой с набалдашником, петлял и петлял он среди машин.
Вслед ему с небольшой заминкой полетели проклятия дуралеев, почувствовавших себя обутыми сразу на обе ноги:
— Репетицию, ирод, срывает!
— Сам подманил, а сам бросил.
— Докладаться — слышь-ка? — побёг он…
— Устроил шествие гномов, а сам в кусты!
— Кончайте, черти бесхвостые, воду мутить! Чё ерепениться? Вам заплатили? Ну и выписывайте кренделя ногами: авось властя на бедных шутов внимание обратят.
Поток ряженых двинулся дальше, а человек с ослиными ушами, в легковатой для марта одёжке, изрисованной ко всему прочему ещё и удлинёнными сиреневыми харями, миновав проезжую часть бульвара, взбежал по ступенькам. Но тут же спустился вниз и, обойдя здание сбоку, исчез на задах Старого цирка.
Ошарашенный всем увиденным, жарко одетый приезжий паренёк, с упоением наблюдавший за столичным шествием, кинулся за человеком с палкой. Но добрался лишь до служебного входа: в дверях торчал охранник в синей униформе. А пареньку так хотелось поделиться частью московской свободы с кем-то из работников цирка! Не вышло. Набитый под завязочку столичной усталостью, присел он на пустой ящик, привалился спиной к жестяной рифлёной стенке и вмиг уснул. Проснулся — от стонов и смачных плевков. Харкал лежащий на асфальте униформист. Потом застонал:
— Как саданул, шутяра! Как саданул… Не, вы видали? Ребро, гад, сломал. За ребро ответишь! И шишка теперь на темечке. У-у, недомерок! Я т-тя все одно достану. Я т-те устрою парад-алле на Красной площади!
Вышедший минуту назад покурить и ненароком толкнувший размалёванного шута униформист-жердяй, — затушил об асфальт продолжавшую тлеть в руке сигарету, потрогал шишку и ещё раз сыпанул матерком уходящему вслед.
На миг приостановившись, ряженый оглянулся.
Продолговатый цирковой двор вытянулся перед ним ещё сильней. Справа мусорник, слева рифлёные разгородки, ящики, какой-то паренёк с вылупленными зенками. Ближе к шлагбауму — фура и грузовик с прицепом: всё скошено, всё почти что лежит на боку. Редкий дефект зрения, при котором по краям обзора всё видимое кособочится, жить не мешал, но утомлял прилично. Пружинисто ступая, двинулся ряженый с хоздвора долой. В ближайшем сквозном дворе переоделся, сунул в заплечный сидор пиджачок, туда же отправил дурацкий колпак, на плечи накинул лёгкую ветровку. Зайдя за мусорные баки, двор внимательно оглядел.
«Показалось? – спросил себя ряженый и сам себе ответил, — это навряд. Не просто так трюкач этот к сегодняшней репетиции пристроился. А к цирку не пошёл, потому что светиться не захотел. Хорошо, что на Цветном выбить репетицию удалось. Здесь топтуна засечь легче. Теперь пускай хоть на окраину Москвы парад переносят!»
Прячась за мусорником, переодевшийся вынул мобилку, дружелюбно мурлыкнул:
— Слышь, Борода, — глянь, как там этот Бом?
— У которого цветок на лацкане и красный карандаш за ухом?
— Ну.
— Сначала за тобой дёрнулся, а потом чё-то притормозил.
— Ладно, прогон без меня кончайте.
— Так мы и закончили. Всё в норме, Терилло, будь спок.
— А тогда придержи этого Бома и прямо сейчас напои его. Хоть силком, а напои. Пускай тебе Счастливый Ганс поможет. Я тут рядом подожду. Когда нахлещется, оттащите его в переулок и поспрошайте: кто он, что он? Если есть документы — гляньте.
Говоривший, не выходя из-за мусорника, присел на корточки, закрыл глаза…
Через полчаса в штанах забурлила мобилка.
— Слышь, Терилло. Не из органов он. Из блатных. Татушки у него настоящие, мы раздели и осмотрели. На запястье — голая баба на крыльях. Скокарь он. Ну, взломщик, короче. Проговорился спьяну: за тобой топать послали. Чего от тебя хотят — не знает.
— Всё. Отпускайте его. До послезавтрего, Борода.
Терёха отключил мобилку, но продолжал, сидя на корточках, себе под нос бормотать:
«Послезавтра… Послезавтра всё прояснится! Тогда и узнаем, кто ноги за мной выставил. И время встречи с Правителем, выцарапанное у чинуши загребистого, окончательно установим!»
Говоривший встал, снова переоделся в шутовской пиджачишко и, бормоча: «оно и правильно, что в Старый цирк ломанулся. Зашёл для виду, а вышло с пользой…», — дворами вышел на Садовое и там вскочил в подоспевший автобус, двигавшийся в сторону Сухаревской площади. Поглядывая в окна, вспоминал последние сорок минут и корил себя за мягкость. В ушах звенел и наливался злобой крик униформиста:
— Недомерок!
Надо было вернуться и уже кулаком врезать униформисту по сопатке: за то, что подслушивал разговор с директорским замом.
…После пандемийных каникул Старый цирк на Цветном слегка одичал, люди стали злей, суетливей. Может, и поэтому разговор с директорским замом не заладился с порога.
— Кому горе, а кому радость, — начал ряженый сумрачно, — я б, к примеру, всех ваших тварей бессловесных поотпускал. Боюсь только: загрызут их люди. Не для еды, для полного владычества над природой! Сколько тут у вас зверей и пернастых?
— Около сотни будет, — слегка опешил директорский зам, — но быстро спохватился и даже повеселел:
— Судя по прикиду, вы к нам в ковёрные собрались?
— Пока — в клоуны-дрессировщики. Но только я у вас людей дрессировать буду.
— Ого! Так это место уже занято. Завхоз наш таким делом давно занимается.
— Слыхал я про него.
— Ну и чего тогда суётесь?
— А того. Циркачей ваших по кругу водить буду. А звери дрессировать их станут. Знаете, небось, как раньше медведей клоунадить учили? От одного перечисления, что умел в ХIХ веке медведь, — без кнута, без словесных оскорблений! — людишки ваши стыдом, как сыпью, должны покрываться. Программу так и назовём: «Звери на воле — люди в клетках».
— Думаю, тема исчерпана. Поэтому, будьте добры… Как фамилия ваша, кстати?
— Шутом Терёхой зовите. Раньше вдвоём работали: Самоха и Терёха. Высокий и приземистый. Грустно-весёлый и мрачно-едкий. Теперь – один я.
— Ну, вот что, весельчак вы наш мрачноватый. Кончена беседа. Осенью приходите. Может, тогда и работёнку для вас подыщем: навоз вывозить, попугаям хвосты чесать…
— Так я к вам раньше наведаюсь. Ждите!
Не прощаясь, шут Терёха вышел через служебный ход, дал набалдашником под ребро, а потом ещё и треснул палкой по темечку толкнувшего его униформиста и вмиг повеселел, потому как представил: вывалились из глазниц циркового шпиона глазные яблоки и, временами подскакивая, покатились вниз, вниз, к знаменитой, тихо и таинственно урчащей, московской Трубе. Покатились, на бегу очищаясь от мути и скверны, с изумлением подмечая всё, что творится внутри близлежащих домов и в глубине ещё не полностью закатанных в асфальт московских, уже с натугой дышащих, земель.
«Глаз, глаз! – радовался Терёха, — он ведь сложней и важнее мозга! Он — как новое тело человеческое. Завершённое тело, самостоятельное! Вот бы таким выпуклым телом-глазом стать и кататься по ободку жизненной арены до одури или до полного просветления!»
Резная голова
Дрожь и темнота. Безвыходность и морок. И внезапно — проблесками — восторг. Потом опять безнадёга, сумеречная путаница, отрешение от всего окружающего — и неожиданно взрывной, площадной хохот!
Два-три пассажира оглянулись. Переход от сумеречного состояния души к взрывному веселью и наоборот — был привычен. Подбросив и ловко поймав жезл с навершием, изображавшим шута в колпаке и негромко приговаривая: «Шут есть шут, дурак есть дурак», — человек с резной палкой в руке полупустой автобус покинул.
Больше тридцати лет таскал он с собой палку с набалдашником.
Появилась она у Терёхи случайно. Семнадцати годков примчавшись в Москву из Твери, где занимался в Училище культуры на цирковом отделении, попробовал сходу поступить в знаменитое Румянцевское. Провалился. Собираясь уезжать — зашёл к одному из служащих училища, с которым до экзаменов успел разок-другой перемолвиться.
Старый ковёрный с лицом в морщинах, глубиной своей напоминавших макет человеческого мозга из Дарвиновского музея, давно закончил и выступать, и преподавать. Но в училище его оставили – кладовщиком.
Встретил кладовщик Терёху, — словно только его всю жизнь и дожидался.
— Я тебя, парняга, сразу приметил. Люблю, знаешь ли, на абитуру глянуть. И росточком, и мордуленцией ты ни дать ни взять «мрачный клоун». Верней — мрачный шут: когда надо угрюмый, но по временам и веселый. В цирке нашем таких шутов что-то давненько не видно было. В жизни они ещё попадаются, а вот на арене… Что, провалили?
— Угу.
— Всё правильно. Так и должно было быть. Не любят здесь своеобычных. Ты сам-то хоть знаешь, кто ты есть?
— Пудов я. Терентий.
— Дурашка. И по виду, и по норову, ты вылитый русский трикстер: угрюмый, но шаловливый. Любишь мрачновато шутить и людей шуткой в тупик ставить. Любишь так шуткануть, чтоб у человека свет перед глазами перекувырнулся, а потом потиху-помалу на место встал. Так или нет?
— Может, так, а, может, и нет.
— Ну, тогда знай: ты — фундаментальная сила! Такую силу никто побороть не может. Только ты сам, если оскотинишься или сопьёшься. Понял, дурило?
— Не-а.
— Повторю ещё раз для тупых: ты — непокорная, устойчивая, ни от кого и ни от чего не зависящая сила. На такой силе, как на громадном крюке, весь цирк наш земной держится. И чему вас только в Твери вашей учат!
— Всему помаленьку.
— Оно и видно. Всё по верхам, для блезиру, показушно. А чтоб дать жизненную основу, так это — ни Боже мой. Ну, так вот: результат действия устойчивой силы не всегда ясен. Даже её обладателю. Но тем, у кого есть горький опыт, кой-чего всё ж таки ясно. Поэтому слушай, что с тобой дальше произойти может. Поясню на примере. Жил да поживал шутяра на тебя похожий — Осип Гвоздь. Правда, был он длинный, широкоротый и с виду несуразный. А ты ловок, короток, весь на пружинах, как попрыгунчик: вот-вот взлетишь. Но при этом стержень у вас одинаковый и ужимки сходные. В Осипе тоже сильная сила была. Сила непокорная, но, правда, зловредная! Только не помогла в нужный миг она Гвоздю.
— А вы Гвоздя этого, в каком цирке видели?
— В цирке Гвоздь не выступал. Цирк у него в палатах царских был. А жил он четыреста с лишним годков назад. И хрен его знает зачем, мне на днях во сне явился. Про себя рассказывал. Правителя, который на нож его насадил, упрекал горько…
Терёха вскочил, замотал головой, даже кончики пальцев в уши засунул.
— Ну их, ушедшие времена, в болото! Не до них! Мне назад, в Тверь надо, а денег – кошке на лизок.
— Ничего, зайцем прокатишься. Ладно. Про Гвоздя не буду больше, — покачал головой кладовщик, — тогда про цирк послушай. Первое и главное. Цирк не попса и клоун в нём не посмешище! Не дубина стоеросовая с волосами торчащими, а мудрый шут: с древнейшей, — древней, чем у любой государственной власти, — историей. Вот каким должен быть настоящий клоун в настоящем цирке.
— А государство тут с какого боку?
— А с такого. Не живёт шут без правителя. И правитель без шута не живёт! Да и без короны царской, в чулане припрятанной, шутов не бывает. Потому как шут — всегда насмешка над правителем и его антипят! Ну, антипод по-научному. Но иногда брат-близнец, правителя упрекающий. В цирке-то шут, может, и дурак! Зато у себя в чулане, под лестницей — он властелин льдистого ужаса и сладко хохочущей жути. Из своего чулана может он сердце правителя так шуткой сжать, что тот навек запомнит. Ладно, заканчиваю. Вижу, рано тебе знать про такое. А не рано тебе знать вот про что: жизнь без шутовства, без нелепых и неожиданных выходок — мизинца моего не стоит. Но самое главное, жизнь шутовская — гладильная доска! Видал такую?
— Не-а. Я на столе глажу.
— Так зайди в магазин, глянь. Вещь интересная, вещь двойная. Сверху одна доска, под ней — другая, поменьше. Так и в нашем деле. Сверху одно, а коли кто задумается — сразу подспудное замечает. Причём то, что ненароком, краем глаза замечается — самое важное и есть. И ещё тебе напоследок: настоящий шут тот, кто всех других шутов перешутить сможет.
— Это где ж столько шутов найти?
— А в жизни нашей их сколько? Ты вглядись повнимательней: тысячи! Сказал бы тебе ещё, парняга, да боюсь, напугаю до смерти. Одну сказочку про шута и правителя знать тебе, конечно, надо…
— Сказки люблю.
— Так вот. Как-то вьюжной зимой, в городе Питере, году примерно в 1720, провалился правитель под лёд. Тяжко заболел. Но и болея, всё издавал приказы и распоряжения. Чтоб хоть как-то его отвлечь, доставили к нему любимого шута-карлика, Якима Волкова…
Старый коверный внезапно замолчал.
— Ну, а дальше-то, дальше как в сказке было? — даже подскочил на месте Терёха.
— Нет. Хватит с тебя и шутовских имён, остальное сам, если захочешь, узнаешь. Хватай свои шкаматки и дуй на железку!
— Я на автобусе.
— Ну, туда шагай. Или нет, постой. Понравился ты мне, Пудов Терентий. Вот, возьми.
Старый ковёрный, кряхтя, наклонился, полез под верстак, бережно вынул обёрнутую заеложенной бархоткой палку с набалдашником.
— Палка эта — мароттой зовётся. Старинная она. На самом деле не палка это, а жезл шутовской. Для себя держал, для своих дел. А только какие теперь дела у меня? Кто я ныне? Голубок бесклювый. Ну, в церковь разок-другой сходить, ну, на арене пустой, когда никто не видит, чуток покривляться. И — тю-тю: полетела душка в неведомые дали! Бери, бери. Жезл этот тебе сам укажет, куда дальше топать. Может, в люди выйти поможет, может, что другое с тобой сотворит. Ты только бережно его держи, не сжимай как трамвайный поручень.
Терёха сказанному не поверил и едва не в лицо ковёрному рассмеялся. Но палку взял. Хотел ещё разок спросить про карлика Якима, — глядь, а старик, у своего верстака, уже сладко посапывает...
И поначалу жезл стоял себе смирно в углу, в тверской общаге. Как вдруг пришло время годовые экзамены сдавать. А не учил ничего Терёха. Вот и взял с собой маротту, думал отвлечь экзаменаторов: повертеть палку на локте колесом, резной головкой приманить.
Только перед собой жезл выставил — резная голова вроде сильней оскалилась, сам жезл чуть заметно дёрнулся, кончиком в один из билетов ткнулся.
— А без клоунады — никак? Тут у нас не хиханьки-хаханьки, а всемирная история! Ты это понимаешь, Пудов? Все-мир-на-я!
Билет попался самый лёгкий, про возникновение Московской Руси. Те времена Терёхе были известны хорошо. Мать в лицах рассказывала: любила это дело.
Отхватив свою пятёру, Терёха, уходя, резную палку даже погладил. Потом вгляделся в набалдашник с ослиными ушами повнимательней. Резная голова язвительно скалилась…
Дальше – больше.
Случилось ему однажды всё в той же Твери в Екатерининский путевой дворец заглянуть, а из него в парк, расположенный близ реки Тьмаки, пропутешествовать.
Тьмака отражала огни. Терёха — любовался. Близ реки Тьмаки его всласть и поколотили. Шкандыбая в общагу, пожалел, что палки с собой не было, может, отбился бы. Решил проверить. На третий день, взяв маротту, двинул в те же места.
Тьмака блеснула тревожно. Вчерашние шпанюки подступили опять. Терёха выставил маротту перед собой и давай вокруг предплечья вертеть. Когда вертеть кончил — кончик жезла сам собой в яремную ямку одному из шпанюков упёрся. Тот вдруг булькнул горлом и с копыт долой! Пока шпана своего отхаживала, Терёха ходил вокруг гоголем. Думал: если снова пристанут — глаз кому-нибудь палкой выдавит, и давай бог ноги.
Но шпанюки больше не приставали, урча, отвалили. Напевая: «У реки у Тьмаки, загорали раки», — переместился Терёха к себе в общагу. С тех пор шутовской жезл брал с собой чаще, хоть в силу его до конца и не верил.
Дрожь и темнота. Безвыходность и морок. И внезапно — проблесками — восторг. Потом опять безнадёга, сумеречная путаница, отрешение от всего окружающего — и неожиданно взрывной, площадной хохот!
Два-три пассажира оглянулись. Переход от сумеречного состояния души к взрывному веселью и наоборот — был привычен. Подбросив и ловко поймав жезл с навершием, изображавшим шута в колпаке и негромко приговаривая: «Шут есть шут, дурак есть дурак», — человек с резной палкой в руке полупустой автобус покинул.
Больше тридцати лет таскал он с собой палку с набалдашником.
Появилась она у Терёхи случайно. Семнадцати годков примчавшись в Москву из Твери, где занимался в Училище культуры на цирковом отделении, попробовал сходу поступить в знаменитое Румянцевское. Провалился. Собираясь уезжать — зашёл к одному из служащих училища, с которым до экзаменов успел разок-другой перемолвиться.
Старый ковёрный с лицом в морщинах, глубиной своей напоминавших макет человеческого мозга из Дарвиновского музея, давно закончил и выступать, и преподавать. Но в училище его оставили – кладовщиком.
Встретил кладовщик Терёху, — словно только его всю жизнь и дожидался.
— Я тебя, парняга, сразу приметил. Люблю, знаешь ли, на абитуру глянуть. И росточком, и мордуленцией ты ни дать ни взять «мрачный клоун». Верней — мрачный шут: когда надо угрюмый, но по временам и веселый. В цирке нашем таких шутов что-то давненько не видно было. В жизни они ещё попадаются, а вот на арене… Что, провалили?
— Угу.
— Всё правильно. Так и должно было быть. Не любят здесь своеобычных. Ты сам-то хоть знаешь, кто ты есть?
— Пудов я. Терентий.
— Дурашка. И по виду, и по норову, ты вылитый русский трикстер: угрюмый, но шаловливый. Любишь мрачновато шутить и людей шуткой в тупик ставить. Любишь так шуткануть, чтоб у человека свет перед глазами перекувырнулся, а потом потиху-помалу на место встал. Так или нет?
— Может, так, а, может, и нет.
— Ну, тогда знай: ты — фундаментальная сила! Такую силу никто побороть не может. Только ты сам, если оскотинишься или сопьёшься. Понял, дурило?
— Не-а.
— Повторю ещё раз для тупых: ты — непокорная, устойчивая, ни от кого и ни от чего не зависящая сила. На такой силе, как на громадном крюке, весь цирк наш земной держится. И чему вас только в Твери вашей учат!
— Всему помаленьку.
— Оно и видно. Всё по верхам, для блезиру, показушно. А чтоб дать жизненную основу, так это — ни Боже мой. Ну, так вот: результат действия устойчивой силы не всегда ясен. Даже её обладателю. Но тем, у кого есть горький опыт, кой-чего всё ж таки ясно. Поэтому слушай, что с тобой дальше произойти может. Поясню на примере. Жил да поживал шутяра на тебя похожий — Осип Гвоздь. Правда, был он длинный, широкоротый и с виду несуразный. А ты ловок, короток, весь на пружинах, как попрыгунчик: вот-вот взлетишь. Но при этом стержень у вас одинаковый и ужимки сходные. В Осипе тоже сильная сила была. Сила непокорная, но, правда, зловредная! Только не помогла в нужный миг она Гвоздю.
— А вы Гвоздя этого, в каком цирке видели?
— В цирке Гвоздь не выступал. Цирк у него в палатах царских был. А жил он четыреста с лишним годков назад. И хрен его знает зачем, мне на днях во сне явился. Про себя рассказывал. Правителя, который на нож его насадил, упрекал горько…
Терёха вскочил, замотал головой, даже кончики пальцев в уши засунул.
— Ну их, ушедшие времена, в болото! Не до них! Мне назад, в Тверь надо, а денег – кошке на лизок.
— Ничего, зайцем прокатишься. Ладно. Про Гвоздя не буду больше, — покачал головой кладовщик, — тогда про цирк послушай. Первое и главное. Цирк не попса и клоун в нём не посмешище! Не дубина стоеросовая с волосами торчащими, а мудрый шут: с древнейшей, — древней, чем у любой государственной власти, — историей. Вот каким должен быть настоящий клоун в настоящем цирке.
— А государство тут с какого боку?
— А с такого. Не живёт шут без правителя. И правитель без шута не живёт! Да и без короны царской, в чулане припрятанной, шутов не бывает. Потому как шут — всегда насмешка над правителем и его антипят! Ну, антипод по-научному. Но иногда брат-близнец, правителя упрекающий. В цирке-то шут, может, и дурак! Зато у себя в чулане, под лестницей — он властелин льдистого ужаса и сладко хохочущей жути. Из своего чулана может он сердце правителя так шуткой сжать, что тот навек запомнит. Ладно, заканчиваю. Вижу, рано тебе знать про такое. А не рано тебе знать вот про что: жизнь без шутовства, без нелепых и неожиданных выходок — мизинца моего не стоит. Но самое главное, жизнь шутовская — гладильная доска! Видал такую?
— Не-а. Я на столе глажу.
— Так зайди в магазин, глянь. Вещь интересная, вещь двойная. Сверху одна доска, под ней — другая, поменьше. Так и в нашем деле. Сверху одно, а коли кто задумается — сразу подспудное замечает. Причём то, что ненароком, краем глаза замечается — самое важное и есть. И ещё тебе напоследок: настоящий шут тот, кто всех других шутов перешутить сможет.
— Это где ж столько шутов найти?
— А в жизни нашей их сколько? Ты вглядись повнимательней: тысячи! Сказал бы тебе ещё, парняга, да боюсь, напугаю до смерти. Одну сказочку про шута и правителя знать тебе, конечно, надо…
— Сказки люблю.
— Так вот. Как-то вьюжной зимой, в городе Питере, году примерно в 1720, провалился правитель под лёд. Тяжко заболел. Но и болея, всё издавал приказы и распоряжения. Чтоб хоть как-то его отвлечь, доставили к нему любимого шута-карлика, Якима Волкова…
Старый коверный внезапно замолчал.
— Ну, а дальше-то, дальше как в сказке было? — даже подскочил на месте Терёха.
— Нет. Хватит с тебя и шутовских имён, остальное сам, если захочешь, узнаешь. Хватай свои шкаматки и дуй на железку!
— Я на автобусе.
— Ну, туда шагай. Или нет, постой. Понравился ты мне, Пудов Терентий. Вот, возьми.
Старый ковёрный, кряхтя, наклонился, полез под верстак, бережно вынул обёрнутую заеложенной бархоткой палку с набалдашником.
— Палка эта — мароттой зовётся. Старинная она. На самом деле не палка это, а жезл шутовской. Для себя держал, для своих дел. А только какие теперь дела у меня? Кто я ныне? Голубок бесклювый. Ну, в церковь разок-другой сходить, ну, на арене пустой, когда никто не видит, чуток покривляться. И — тю-тю: полетела душка в неведомые дали! Бери, бери. Жезл этот тебе сам укажет, куда дальше топать. Может, в люди выйти поможет, может, что другое с тобой сотворит. Ты только бережно его держи, не сжимай как трамвайный поручень.
Терёха сказанному не поверил и едва не в лицо ковёрному рассмеялся. Но палку взял. Хотел ещё разок спросить про карлика Якима, — глядь, а старик, у своего верстака, уже сладко посапывает...
И поначалу жезл стоял себе смирно в углу, в тверской общаге. Как вдруг пришло время годовые экзамены сдавать. А не учил ничего Терёха. Вот и взял с собой маротту, думал отвлечь экзаменаторов: повертеть палку на локте колесом, резной головкой приманить.
Только перед собой жезл выставил — резная голова вроде сильней оскалилась, сам жезл чуть заметно дёрнулся, кончиком в один из билетов ткнулся.
— А без клоунады — никак? Тут у нас не хиханьки-хаханьки, а всемирная история! Ты это понимаешь, Пудов? Все-мир-на-я!
Билет попался самый лёгкий, про возникновение Московской Руси. Те времена Терёхе были известны хорошо. Мать в лицах рассказывала: любила это дело.
Отхватив свою пятёру, Терёха, уходя, резную палку даже погладил. Потом вгляделся в набалдашник с ослиными ушами повнимательней. Резная голова язвительно скалилась…
Дальше – больше.
Случилось ему однажды всё в той же Твери в Екатерининский путевой дворец заглянуть, а из него в парк, расположенный близ реки Тьмаки, пропутешествовать.
Тьмака отражала огни. Терёха — любовался. Близ реки Тьмаки его всласть и поколотили. Шкандыбая в общагу, пожалел, что палки с собой не было, может, отбился бы. Решил проверить. На третий день, взяв маротту, двинул в те же места.
Тьмака блеснула тревожно. Вчерашние шпанюки подступили опять. Терёха выставил маротту перед собой и давай вокруг предплечья вертеть. Когда вертеть кончил — кончик жезла сам собой в яремную ямку одному из шпанюков упёрся. Тот вдруг булькнул горлом и с копыт долой! Пока шпана своего отхаживала, Терёха ходил вокруг гоголем. Думал: если снова пристанут — глаз кому-нибудь палкой выдавит, и давай бог ноги.
Но шпанюки больше не приставали, урча, отвалили. Напевая: «У реки у Тьмаки, загорали раки», — переместился Терёха к себе в общагу. С тех пор шутовской жезл брал с собой чаще, хоть в силу его до конца и не верил.
Город Во
В 1972 году в родном Терёхином городе, на месте бывшего Всесвятского храма, который был возведён когда-то на Ново-Митрофановском кладбище, выстроили новый цирк. К тому времени на просторах прежнего кладбища уже был разбит парк, который в народе беспечно звали ЖиМ: что означало — парк Живых и Мёртвых. Во время открытия цирка было Терёшечке всего три года и шесть месяцев. Почти год спустя, впервые попав в цирк, насмотревшись на попугаев и воздушных гимнастов, до одури наслушавшись клоунов, улёгся малец в антракте на пол, закрыл глаза и негромко сказал матери:
— Здесь зить буду. Спать и кушать — тозе здесь…
Мать не знала, куда деваться от стыда. Но, слава богу, антракт кончился, вышел на арену клоун, вынес за пазухой ягнёнка. Ягнёнок малый, ягнёнок белый, крутил головой, вопрошающе блеял. От счастья Терёшечка снова закрыл глаза. А когда открыл – клоун держал ягнёнка за шкирку и тот, разлепив розовые губы, покорно ждал, что будет дальше.
С тех пор цирк стал испугом и радостью, пределом мечтаний и обрывистой воздушной тропкой, ведущей неведомо куда.
Вскоре к ощущению цирка как вместилища опаски и смеха, добавилось другое: жить без цирка невозможно! Тем более, что жизнь не цирковая, обычная, сразу же показала Терёшечке свой вздорный норов: сперва увела от них отца, а вскоре и мать умерла.
Про мать Терёша помнил всегда, а про отца и вспоминать не хотелось. Помнился лишь один случай, может и пустяковый, но для мальца важный.
Как-то, положив руку на плечо, отец сказал сыну:
— Ты не боись ходить на улицу. Подумаешь, разок по сопатке дали. Улица, она тебя жить обучит. Думаешь, меня культпросвет техником выучил? Улица городская всему научила. И тебя научит. Опять же, нам с матерью легче, когда тебя дома нету. А город у нас — во!
Отец выгнул жёлтый от йода большой палец, а потом первый раз в жизни погладил сына по щеке. От неожиданной ласки Терёшечка всхлипнул.
С той поры и стал называть он свою родину — город Во. Иногда для красоты даже большой палец йодом смазывал.
Ласка отцова так и осталась единственной. В остальное время – ругня, обиды, материны слёзы, отцовские подзатыльники. Перед тем как их с матерью покинуть, отец сказал:
— Ты очень мал и очень глуп. И не видал больших за… Ну, в общем, — больших затруднений в жизни. И вообще. Ты не Терёха. Говоря по-научному, ты — анфан тэррибль! Понимаешь, что это значит?
Терёшечка отрицательно замотал головой.
— Вот и ясно теперь: олух ты царя небесного. Олухом был — олухом помрёшь.
Несколько лет подряд Терёшечка думал: от этого самого «тэррибля» мать и умерла. Позже полез в словарь и удивился: анфан тэррибль — всего-навсего «ужасный ребёнок». Хмыкнув, поддул снизу уже заметно пробивавшийся ус: может, и не от «тэррибля» умерла мать.
Время в детстве бежало как на ходулях: широко и неровно, с долгими остановками и воздушными замираниями. Часто летали в космос. В старших классах школы учителя, как сговорившись, вдруг стали выкрикивать — так, чтобы ясно донеслось до гуляющего в коридорах директора — странные вещи: про партию, про последнего царя и повсеместно разрушенные церкви, ещё про что-то давнее, дремучее.
Тут время вдруг скособочилось и рухнуло неизвестно куда: может, даже в геенну огненную, которую видел с матерью на иконе в церкви. А вслед за тем всё жизненное пространство сжалось до одной густо усыпанной опилками арены: в цирке города Во возобновили программу «Торжество Революции, или Сбитые оковы».
Название — приманило. Оковы Терентий чувствовал всегда. Сбивал их, спиливал, а они охватывали запястья вновь, резали мясо, впивались в кость.
Первая попытка устроиться в жизни самостоятельно — всё в тот же цирк, подметальщиком, — закончилась неудачей. Рассвирепев, сразу после десятого класса уехал в Тверь, причём деду и бабке по материнской линии, души в Терёше не чаявшим, написал письмо лишь через две недели после отъезда.
Не поехав после училища по распределению в Томск, вернувшись вместо этого в город Во и заселившись с боем в материну комнату, занятую каким-то чавкающим бабьём, снова поспешил Терёха в местный цирк. В ковёрные его не взяли, но обещали подумать насчёт работы униформистом.
После отказа пошёл от нечего делать по родному городу гулять. Каменный цирк остался позади. Потянулись дома деревянные, позапрошлого века и старше. Они-то душу слегка и успокоили. «В дереве сила: тонет оно, гниёт, горит, но дух от него исходящий — тот навсегда остаётся. Вот бы самому таким деревом стать…»
Радуясь необычным мыслям, углублялся и углублялся Терёха в места старо-деревянные и древне-дровяные, где на его думку душа города и обитала. Но вообще-то, город Во, после четырёх лет разлуки, — сильно помолодел. А ещё нежданно-негаданно обнаружился в нём друг лепший: Самоха.
Самоху длинного, Самоху мокроголосого знал Терентий давно. В Румянцевское вместе пытались поступить. Терёха после провала вернулся в Тверь, а Самоха отправился в Свердловск, как раз во времена его учёбы в Екатеринбург и переименованный.
В детстве и ранней юности Самоха хотел было податься в киномеханики: крути и крути себе кино, кемарь и тихо радуйся. Но потом неожиданно двинул в клоуны. Причём в клоуны грустно-весёлые, которых на арене беспрестанно бьют и всячески обзывают.
Работать парой — решили не сразу. Сперва опасались: маловато меж ними разницы – один только рост и всё. А так — невесёлые оба. Правда, Самоха иногда печально посмеивался, а что до Терёхи, тот или всю дорогу пребывал в хмурости или жутковато, — как весенний филин, — реготал-угугукал.
Однако первые же выступления на детских утренниках и в отдалённых домах культуры удались на славу. Главными козырями оказались Самохина лыжная шапочка с помпоном и Терёхина маротта. По очереди цепляли они шапочку на маротту, шапочка падала, начиналась метушня с серьёзными и даже скорбными лицами, шапочку гоняли по кругу, она летала то как мяч, то как птица с помпоном вместо головы. Дети верещали от радости и показывали пальцами на плачущего Самоху, у которого Терёха отнимал красный кошель, застёгнутый огромной булавкой, а потом, вскочив на табуретку, сыпал из этого кошелька на рано облысевшую Самохину голову царские медные пятаки. За сценой в это время дробно ударяли в цинковый таз. Детям казалось: звенит пустая Самохина голова…
Однажды какая-то девчушка вскочила с места, побежала на сцену, подняла царский пятак, вручила, улыбаясь, плачущему Самохе. Тот пятак взял, слёзы рукавом картинно вытер, подхватил девчушку на руки и трижды подбросил.
От заливистого ребячьего смеха внутри у Терёхи становилось сытно, тепло.
Однако, когда после представлений Самоха уезжал к себе, в тесно притёртый к городу Во посёлок Сомово, Терёхе становилось не до смеха.
Опять и снова вспоминались материны всхлипы, отцова грызня. Вспоминалось и многое другое. Но главное — накатывала обморочная пустота, которая образовалась после исчезновения отца и ухода вслед за матерью деда с бабкой. Эту паучью, мохнато-беззвучную пустоту ни смехом, ни плотным угрюмством заполнить не удавалось...
Во время одной из безработных прогулок неожиданно для себя самого повернул он с полдороги домой, схватил палку с набалдашником и уже с нею в руках двинул в цирк.
На этот раз взяли. Как и обещали: униформистом. Оформили легко, весело, с шутками-прибаутками.
От такой нежданной удачи Терёха вознёсся духом и, выходя из здания нового цирка, снова, как и когда-то в Твери, поцеловал резную деревянную головку в нос. Но тут же и устыдился, вспомнив, как двоюродная сестра — икотница, ябеда — приседая на каждом шагу, целовала пеналы, карандаши и даже ластики, готовясь к ненавистному уроку черчения, который сама же презрительно звала: «штрих-пунктир».
Одно воспоминание потянуло другое, третье. Купив бутылку «Жигулёвского», Терёха сел на каменный обод, уставился на водохранилище. Палку, как лошадку детскую, вставил меж ног, начал приводить воспоминания в порядок, выстраивать в ряд. Однако воспоминания неожиданно стали крошиться, рваться. Наглая, простая, переодетая мужиком и по этому случаю пьяно ухмы
В 1972 году в родном Терёхином городе, на месте бывшего Всесвятского храма, который был возведён когда-то на Ново-Митрофановском кладбище, выстроили новый цирк. К тому времени на просторах прежнего кладбища уже был разбит парк, который в народе беспечно звали ЖиМ: что означало — парк Живых и Мёртвых. Во время открытия цирка было Терёшечке всего три года и шесть месяцев. Почти год спустя, впервые попав в цирк, насмотревшись на попугаев и воздушных гимнастов, до одури наслушавшись клоунов, улёгся малец в антракте на пол, закрыл глаза и негромко сказал матери:
— Здесь зить буду. Спать и кушать — тозе здесь…
Мать не знала, куда деваться от стыда. Но, слава богу, антракт кончился, вышел на арену клоун, вынес за пазухой ягнёнка. Ягнёнок малый, ягнёнок белый, крутил головой, вопрошающе блеял. От счастья Терёшечка снова закрыл глаза. А когда открыл – клоун держал ягнёнка за шкирку и тот, разлепив розовые губы, покорно ждал, что будет дальше.
С тех пор цирк стал испугом и радостью, пределом мечтаний и обрывистой воздушной тропкой, ведущей неведомо куда.
Вскоре к ощущению цирка как вместилища опаски и смеха, добавилось другое: жить без цирка невозможно! Тем более, что жизнь не цирковая, обычная, сразу же показала Терёшечке свой вздорный норов: сперва увела от них отца, а вскоре и мать умерла.
Про мать Терёша помнил всегда, а про отца и вспоминать не хотелось. Помнился лишь один случай, может и пустяковый, но для мальца важный.
Как-то, положив руку на плечо, отец сказал сыну:
— Ты не боись ходить на улицу. Подумаешь, разок по сопатке дали. Улица, она тебя жить обучит. Думаешь, меня культпросвет техником выучил? Улица городская всему научила. И тебя научит. Опять же, нам с матерью легче, когда тебя дома нету. А город у нас — во!
Отец выгнул жёлтый от йода большой палец, а потом первый раз в жизни погладил сына по щеке. От неожиданной ласки Терёшечка всхлипнул.
С той поры и стал называть он свою родину — город Во. Иногда для красоты даже большой палец йодом смазывал.
Ласка отцова так и осталась единственной. В остальное время – ругня, обиды, материны слёзы, отцовские подзатыльники. Перед тем как их с матерью покинуть, отец сказал:
— Ты очень мал и очень глуп. И не видал больших за… Ну, в общем, — больших затруднений в жизни. И вообще. Ты не Терёха. Говоря по-научному, ты — анфан тэррибль! Понимаешь, что это значит?
Терёшечка отрицательно замотал головой.
— Вот и ясно теперь: олух ты царя небесного. Олухом был — олухом помрёшь.
Несколько лет подряд Терёшечка думал: от этого самого «тэррибля» мать и умерла. Позже полез в словарь и удивился: анфан тэррибль — всего-навсего «ужасный ребёнок». Хмыкнув, поддул снизу уже заметно пробивавшийся ус: может, и не от «тэррибля» умерла мать.
Время в детстве бежало как на ходулях: широко и неровно, с долгими остановками и воздушными замираниями. Часто летали в космос. В старших классах школы учителя, как сговорившись, вдруг стали выкрикивать — так, чтобы ясно донеслось до гуляющего в коридорах директора — странные вещи: про партию, про последнего царя и повсеместно разрушенные церкви, ещё про что-то давнее, дремучее.
Тут время вдруг скособочилось и рухнуло неизвестно куда: может, даже в геенну огненную, которую видел с матерью на иконе в церкви. А вслед за тем всё жизненное пространство сжалось до одной густо усыпанной опилками арены: в цирке города Во возобновили программу «Торжество Революции, или Сбитые оковы».
Название — приманило. Оковы Терентий чувствовал всегда. Сбивал их, спиливал, а они охватывали запястья вновь, резали мясо, впивались в кость.
Первая попытка устроиться в жизни самостоятельно — всё в тот же цирк, подметальщиком, — закончилась неудачей. Рассвирепев, сразу после десятого класса уехал в Тверь, причём деду и бабке по материнской линии, души в Терёше не чаявшим, написал письмо лишь через две недели после отъезда.
Не поехав после училища по распределению в Томск, вернувшись вместо этого в город Во и заселившись с боем в материну комнату, занятую каким-то чавкающим бабьём, снова поспешил Терёха в местный цирк. В ковёрные его не взяли, но обещали подумать насчёт работы униформистом.
После отказа пошёл от нечего делать по родному городу гулять. Каменный цирк остался позади. Потянулись дома деревянные, позапрошлого века и старше. Они-то душу слегка и успокоили. «В дереве сила: тонет оно, гниёт, горит, но дух от него исходящий — тот навсегда остаётся. Вот бы самому таким деревом стать…»
Радуясь необычным мыслям, углублялся и углублялся Терёха в места старо-деревянные и древне-дровяные, где на его думку душа города и обитала. Но вообще-то, город Во, после четырёх лет разлуки, — сильно помолодел. А ещё нежданно-негаданно обнаружился в нём друг лепший: Самоха.
Самоху длинного, Самоху мокроголосого знал Терентий давно. В Румянцевское вместе пытались поступить. Терёха после провала вернулся в Тверь, а Самоха отправился в Свердловск, как раз во времена его учёбы в Екатеринбург и переименованный.
В детстве и ранней юности Самоха хотел было податься в киномеханики: крути и крути себе кино, кемарь и тихо радуйся. Но потом неожиданно двинул в клоуны. Причём в клоуны грустно-весёлые, которых на арене беспрестанно бьют и всячески обзывают.
Работать парой — решили не сразу. Сперва опасались: маловато меж ними разницы – один только рост и всё. А так — невесёлые оба. Правда, Самоха иногда печально посмеивался, а что до Терёхи, тот или всю дорогу пребывал в хмурости или жутковато, — как весенний филин, — реготал-угугукал.
Однако первые же выступления на детских утренниках и в отдалённых домах культуры удались на славу. Главными козырями оказались Самохина лыжная шапочка с помпоном и Терёхина маротта. По очереди цепляли они шапочку на маротту, шапочка падала, начиналась метушня с серьёзными и даже скорбными лицами, шапочку гоняли по кругу, она летала то как мяч, то как птица с помпоном вместо головы. Дети верещали от радости и показывали пальцами на плачущего Самоху, у которого Терёха отнимал красный кошель, застёгнутый огромной булавкой, а потом, вскочив на табуретку, сыпал из этого кошелька на рано облысевшую Самохину голову царские медные пятаки. За сценой в это время дробно ударяли в цинковый таз. Детям казалось: звенит пустая Самохина голова…
Однажды какая-то девчушка вскочила с места, побежала на сцену, подняла царский пятак, вручила, улыбаясь, плачущему Самохе. Тот пятак взял, слёзы рукавом картинно вытер, подхватил девчушку на руки и трижды подбросил.
От заливистого ребячьего смеха внутри у Терёхи становилось сытно, тепло.
Однако, когда после представлений Самоха уезжал к себе, в тесно притёртый к городу Во посёлок Сомово, Терёхе становилось не до смеха.
Опять и снова вспоминались материны всхлипы, отцова грызня. Вспоминалось и многое другое. Но главное — накатывала обморочная пустота, которая образовалась после исчезновения отца и ухода вслед за матерью деда с бабкой. Эту паучью, мохнато-беззвучную пустоту ни смехом, ни плотным угрюмством заполнить не удавалось...
Во время одной из безработных прогулок неожиданно для себя самого повернул он с полдороги домой, схватил палку с набалдашником и уже с нею в руках двинул в цирк.
На этот раз взяли. Как и обещали: униформистом. Оформили легко, весело, с шутками-прибаутками.
От такой нежданной удачи Терёха вознёсся духом и, выходя из здания нового цирка, снова, как и когда-то в Твери, поцеловал резную деревянную головку в нос. Но тут же и устыдился, вспомнив, как двоюродная сестра — икотница, ябеда — приседая на каждом шагу, целовала пеналы, карандаши и даже ластики, готовясь к ненавистному уроку черчения, который сама же презрительно звала: «штрих-пунктир».
Одно воспоминание потянуло другое, третье. Купив бутылку «Жигулёвского», Терёха сел на каменный обод, уставился на водохранилище. Палку, как лошадку детскую, вставил меж ног, начал приводить воспоминания в порядок, выстраивать в ряд. Однако воспоминания неожиданно стали крошиться, рваться. Наглая, простая, переодетая мужиком и по этому случаю пьяно ухмы
Взмах маротты. Страх и хохот
Детские и училищные времена скоро схлынули. Настали времена иные: не слишком весёлые, не вполне понятные, а на вкус — резко-едкие. Словно двумя электродами от плоской, уже снятой с производства батарейки, пробивал иногда насквозь Терёхин язык остро-кислый страх. Но почти сразу страх сменялся грубой, неподготовленной, всегда удивлявшей — откуда что берётся? — издёвкой.
Именно за отвязный стёб и отсебятину, вылетевшую нечаянно изо рта во время одного из парад-алле, Терёху из униформистов и попёрли. С упавшим сердцем и дико взвизгнувшими от резкого торможения мозгами простоял он почти все 90-е у лотка на рынке. Кой-кого, конечно, рассмешил, не без этого. За мрачное веселье на малокрошечном рынке его то били, то водили с ним дружбу.
Завелась в те годы у него и подруга. По чести сказать, тот ещё бабец: Айгуль, казашка. Терёха звал её проще — Ай-лю-лю, и шибко не баловал. Привыкшая с детства есть руками, Ай-лю-лю поступала так и в комнате у Терёхи. Причём время от времени споласкивала водочкой сперва нутро, а потом и кончики пальцев.
Полоскание пальцев в пиале с водочкой пробуждало в Терёхе средне-бурное волнение, а за ним — внезапное оцепенение: как будто земля, приостановив на минуту своё вращение, замирала, а после, спохватившись, начинала быстро вертеться в обратную сторону.
Чтобы избавиться от странного чувства, Терёха начинал ходить ногами вверх вокруг съёмного пуфика, на котором без штанов восседала Айгуль, дующая сосредоточенно на водочку, как на чай. В конце концов, Терёхины хождения на руках Ай-лю-люшке осточертели. А самое главное — невзлюбила она маротту. Однажды чуть резную головку не откусила. С той поры стал Терёха шутовской жезл от Ай-лю-лю прятать. Но та быстро нашла замену: вообразила, что Терёхин привесок, это тот же шутовской жезл, с которым можно обходиться пренебрежительно и без всякого почтения.
Тут, конечно, расстались.
Годы понеслись вприпрыжку и даже вскачь. Скок-поскок, выше-ниже-вширь-вбок. И всё-таки один раз, в конце девяностых, — а точней в году 1998-м, — прыжки лет замерли. В ожидании чего-то не вполне ясного, но наперёд страстно обожаемого, зависли они над письменным столом на целые две недели: Терёха начал готовить собственное кукольно-цирковое представление.
«Кукло-цирк! А? Худо ли?» — радовался про себя шут Терентий.
Спектакль про чудесную Маротту вызвал чумовой восторг.
Кукол в спектакле было всего три. Причём одна из них — куклак мужского рода, чем Терёха несказанно гордился. Ну и конечно, несколько шутов и шутих. Первым и главным шутом назначен был Самоха, с шекспировским текстом: «Ныть или не ныть?» и куплетцем, с которого кукольно-цирковое представление и начиналось.
Выдержав паузу, а затем рисунчато ведя по воздуху кистью руки, Самоха возглашал:
Перед вами, люди, — слон!
В Ельцинбурге он рождён!
Ельцинбург, Ельцинбург,
Режет жилы, как хирург!
Слона на колесиках вывозили на сцену лишь на минуту и для отвода глаз. Главная роль в представлении отводилась не ему, а маротте. Была маротта представлена в двух ипостасях: в своём собственном виде и в образе живого шута с перетянутыми туго-натуго верёвкой руками-ногами, в колпаке с ослиными ушами. Передвигаться актёру, изображавшему маротту, приходилось мелким скоком, он часто падал и, не шутя, зашибался.
Сперва Терёха так и хотел назвать представление: «Зашибись!» Но в последнюю минуту передумал и назвал просто и по-детски наивно: «Чудесная Маротта».
Явлений, или как окрестил их Терёха — «явилл», в спектакле было всего три, но были они пекучими, как притиснутые к животу утюги, и запоминавшимися, как татушки на нежной женской шее.
«Явилло» первое. Связанный по рукам и ногам шут прискакивал в военкомат и срочно просился в армию. Собиралась медкомиссия. Ослиноухому помогали распутать верёвки. Вместе с верёвками падали на пол одежды и представал шутяра в образе Адама с картонным гербом почившего Союза на причинном месте. Комиссия, состоявшая из трёх шутих, притворно падала в обморок. Ослиноухий лупил картонным молотом шутих-докториц по головам, те бодро хрюкали и на четвереньках разбегались кто куда, напевая при этом забористые частушки про армейские дела. В конце явления спускалась на ниточке с театральных небес маротта настоящая, шут от счастья трижды подпрыгивал на месте и, подхватив жезл, что есть мочи, выкрикивал: «Маротта идёт голосовать!»
Явление второе избирательный участок собой и представляло.
Здесь всё было зрителям родней, понятней. Ещё один актёр, выряженный расфуфыренной дамой, с пером на шляпке и в коротюсенькой юбке подходил к урне и, на неё облокотившись, вертел головой то влево, то вправо, при этом до невозможности выпячивая свой зад. Вдруг на пустой избирательный участок врывался ещё один из шутов и начинал задиристо декламировать:
Что ж ты, зая, в страсти бурной,
Наклонилася над урной?
Нам с тобой не время тут…
Избиратели идут!
Дама в ответ, чуть подвизгивая, отвечала:
А не тут — тады нигде!
Пусть, хто хочет к нам иде!
Если мне откажешь здесь
Знай, дружок: тебе — трындец!
От таких слов шут хватался за сердце и падал на пол. Дама, изящно распрямившись, начинала хохотать и, указывая на лежащего шута, вопрошала публику:
— Вы думаете, он мово отказа испужался? Да он вдугаря пьяный!
Одновременно с этими словами выползал на сцену из глубин закулисья клочковатый туман, сквозь который, однако, и дама, и лежащий близ урны шут были не то чтобы чётко, но вполне себе видны. И летела из-за сцены в зрительный зал новая частушка:
Мелкий дождик моросит,
Нулевая видимость!
Рядом с урной возлежит —
Русская недвижимость!
Тут набегало «явилло» третье, самое ядовитое.
На всё тот же многострадальный избируч входил на полусогнутых Самоха, потом распрямлялся, приосанивался, расстёгивал длинное чёрное пальто и произносил несколько нечленораздельных, но громких звуков, всё больше напоминая достославного Борис Николаевича.
— Эт-та кто тут у вас безобразит? Эт-та кто, понимашь, россиянам жить мешат? Што эт-та за первыборы, я спрашиваю? Все уже выбраны! Совсем страх потеряли, гураны криворогие!.. О чём это я? А, ну, правильно. Это я из своей новой книги: «Моя семья и другие звери» рассказываю. Там щё песенка такая жизнеут… ут… утверждающая: «Всегда под мухой — судьба моя!»
После слов этих шла сердцещипательная сцена. С потолка на тонкой леске опять спускалась маротта и, поддёрнутая ловким оператором, начинала ласково — как психиатр молоточком — постукивать двухметрового Самоху по голове.
Актёр отступал, уклонялся, маротта начинала злиться, стучала по голове сильней, сильней, каждый удар отзывался за сценой листовым громом огромного таза. Наконец не выдержав стукотни, а главное тазовых звуков, Самоха, подобрав фалды кашемирового пальто, как заяицкий казак, вприсядку, уходил со сцены, горланя во всю мочь:
Эт-та што эт-та со мной,
Што с моею головой?
Спектакль удался на славу. Ожившие конкременты — так звал Терёха товарищей по искусству – тряслись в судорогах. Стали добиваться запрещения. В ответ на вылазки не до конца переработанных удобрений, Терёха добавил несколько реплик и одну репризу, которая начиналась чуток заунывно, зато кончалась улётно.
Свет гас, сбоку одиноко помигивала синяя лампочка и звучал вопрос:
— Кто глупее дурака?
Из глубин зала переодетые шуты изменёнными голосами вразнобой орали: «Ты у нас глупей пока!»
— А тогда скажите мне: дурак, он что — заразный?
Молчание зала прерывал сам Терёха:
Если есть у вас зараза
Мы её излечим сразу!
Что не этак, что не так,
Прокричит сейчас куклак!
Добавляли свету, Терёха выдвигал из-за спины метрового куклака в офицерской петровской одежде, в треуголке, и, намертво сплющив губы, гулко вещал чревом:
Я петровский куклачок
Подцеплю вас на гачок,
Про весь свет я не скажу,
Но над вами я поржу!
Вас как сено растрясли,
Обнулили, обнесли,
И теперь вы в дураках,
Без бабла, в одних портках…
Гул возмущения знобким ветерком пробегал по рядам. Ожившие конкременты орали:
— Где ты портки видел? Смотри сюда! У меня штаны сингапурские!
— Бойкот, спектаклю, бойкот!
— Короче, мужики: бей котов спасай Россию!
— В м…м…милицию его! Вместе с куклаком сам…м…мострельным!
— Луч-че сразу в дурку.
— Куклак, на минуточку, музейный, всамделишный, — отвечал уже собственным голосом Терёха, — считать до десяти и говорить умеет. Ну, а голоса ваши явных вражин выдали. В зале вас и всего-то с нос собачки Гульки. А тогда я к большинству обращаюсь: давайте мы этих сукиных сынов, эту ненародную партию надутых презервативов выгоним отсэда палкой?
— Правильно, гони их!
Терёха резко взмахивал жезлом, кидался в зал, свет полностью гас, тихий рёв одобрения и жалкий писк оживших конкрементов перекрывала прощальная песенка-частушка:
Ваша зависть как змея:
Хвост свой заглотила
Плачет, кожей шевеля,
Горше крокодила!
Квак и чавканье малых кроканчиков, зубовный скрежет крокодилов половозрелых наполняли через громкоговоритель дикой музыкой, — как наполняется грузовик пустыми гремящими бидонами — облюбованный шутами Дворец культуры.
— А сейчас все вместе давайте гнать завистников на крокодилью ферму! Они с меня последнюю шкуру готовы были содрать. А теперь мы сами с них шкуру спустим — и на сумочки дамские. Айда за мной. Дамы вперёд! Я сказал вперёд, а не взад!
После пятого спектакля следователь прокуратуры Ламбатикова дело об оскорблении общественной нравственности и открыла. Спектакль мигом сняли с репертуара.
— И правильно, меж проч, сделали, — вдыхая коки аромат, произнесла разнеженно, покинувшая свой высокий пост с быстротой молнии, госпожа Ламбатикова.
А Терёха, выходя на сцену уже в другом, не запрещённом спектакле, продолжал изумляться:
— Это чем же ещё в ельцинское время можно оскорбить общественную нравственность? Чую шкурой: это из чинуш наших страсть к былым запретам сочится. Ну, прям саудовский эль-цинизм какой-то!
Тут Пудова Терентия изо всех дворцов культуры и турнули окончательно. Помыкавшись ещё несколько лет у ларьков на рынке, решил Терёха двинуть в Москву.
Детские и училищные времена скоро схлынули. Настали времена иные: не слишком весёлые, не вполне понятные, а на вкус — резко-едкие. Словно двумя электродами от плоской, уже снятой с производства батарейки, пробивал иногда насквозь Терёхин язык остро-кислый страх. Но почти сразу страх сменялся грубой, неподготовленной, всегда удивлявшей — откуда что берётся? — издёвкой.
Именно за отвязный стёб и отсебятину, вылетевшую нечаянно изо рта во время одного из парад-алле, Терёху из униформистов и попёрли. С упавшим сердцем и дико взвизгнувшими от резкого торможения мозгами простоял он почти все 90-е у лотка на рынке. Кой-кого, конечно, рассмешил, не без этого. За мрачное веселье на малокрошечном рынке его то били, то водили с ним дружбу.
Завелась в те годы у него и подруга. По чести сказать, тот ещё бабец: Айгуль, казашка. Терёха звал её проще — Ай-лю-лю, и шибко не баловал. Привыкшая с детства есть руками, Ай-лю-лю поступала так и в комнате у Терёхи. Причём время от времени споласкивала водочкой сперва нутро, а потом и кончики пальцев.
Полоскание пальцев в пиале с водочкой пробуждало в Терёхе средне-бурное волнение, а за ним — внезапное оцепенение: как будто земля, приостановив на минуту своё вращение, замирала, а после, спохватившись, начинала быстро вертеться в обратную сторону.
Чтобы избавиться от странного чувства, Терёха начинал ходить ногами вверх вокруг съёмного пуфика, на котором без штанов восседала Айгуль, дующая сосредоточенно на водочку, как на чай. В конце концов, Терёхины хождения на руках Ай-лю-люшке осточертели. А самое главное — невзлюбила она маротту. Однажды чуть резную головку не откусила. С той поры стал Терёха шутовской жезл от Ай-лю-лю прятать. Но та быстро нашла замену: вообразила, что Терёхин привесок, это тот же шутовской жезл, с которым можно обходиться пренебрежительно и без всякого почтения.
Тут, конечно, расстались.
Годы понеслись вприпрыжку и даже вскачь. Скок-поскок, выше-ниже-вширь-вбок. И всё-таки один раз, в конце девяностых, — а точней в году 1998-м, — прыжки лет замерли. В ожидании чего-то не вполне ясного, но наперёд страстно обожаемого, зависли они над письменным столом на целые две недели: Терёха начал готовить собственное кукольно-цирковое представление.
«Кукло-цирк! А? Худо ли?» — радовался про себя шут Терентий.
Спектакль про чудесную Маротту вызвал чумовой восторг.
Кукол в спектакле было всего три. Причём одна из них — куклак мужского рода, чем Терёха несказанно гордился. Ну и конечно, несколько шутов и шутих. Первым и главным шутом назначен был Самоха, с шекспировским текстом: «Ныть или не ныть?» и куплетцем, с которого кукольно-цирковое представление и начиналось.
Выдержав паузу, а затем рисунчато ведя по воздуху кистью руки, Самоха возглашал:
Перед вами, люди, — слон!
В Ельцинбурге он рождён!
Ельцинбург, Ельцинбург,
Режет жилы, как хирург!
Слона на колесиках вывозили на сцену лишь на минуту и для отвода глаз. Главная роль в представлении отводилась не ему, а маротте. Была маротта представлена в двух ипостасях: в своём собственном виде и в образе живого шута с перетянутыми туго-натуго верёвкой руками-ногами, в колпаке с ослиными ушами. Передвигаться актёру, изображавшему маротту, приходилось мелким скоком, он часто падал и, не шутя, зашибался.
Сперва Терёха так и хотел назвать представление: «Зашибись!» Но в последнюю минуту передумал и назвал просто и по-детски наивно: «Чудесная Маротта».
Явлений, или как окрестил их Терёха — «явилл», в спектакле было всего три, но были они пекучими, как притиснутые к животу утюги, и запоминавшимися, как татушки на нежной женской шее.
«Явилло» первое. Связанный по рукам и ногам шут прискакивал в военкомат и срочно просился в армию. Собиралась медкомиссия. Ослиноухому помогали распутать верёвки. Вместе с верёвками падали на пол одежды и представал шутяра в образе Адама с картонным гербом почившего Союза на причинном месте. Комиссия, состоявшая из трёх шутих, притворно падала в обморок. Ослиноухий лупил картонным молотом шутих-докториц по головам, те бодро хрюкали и на четвереньках разбегались кто куда, напевая при этом забористые частушки про армейские дела. В конце явления спускалась на ниточке с театральных небес маротта настоящая, шут от счастья трижды подпрыгивал на месте и, подхватив жезл, что есть мочи, выкрикивал: «Маротта идёт голосовать!»
Явление второе избирательный участок собой и представляло.
Здесь всё было зрителям родней, понятней. Ещё один актёр, выряженный расфуфыренной дамой, с пером на шляпке и в коротюсенькой юбке подходил к урне и, на неё облокотившись, вертел головой то влево, то вправо, при этом до невозможности выпячивая свой зад. Вдруг на пустой избирательный участок врывался ещё один из шутов и начинал задиристо декламировать:
Что ж ты, зая, в страсти бурной,
Наклонилася над урной?
Нам с тобой не время тут…
Избиратели идут!
Дама в ответ, чуть подвизгивая, отвечала:
А не тут — тады нигде!
Пусть, хто хочет к нам иде!
Если мне откажешь здесь
Знай, дружок: тебе — трындец!
От таких слов шут хватался за сердце и падал на пол. Дама, изящно распрямившись, начинала хохотать и, указывая на лежащего шута, вопрошала публику:
— Вы думаете, он мово отказа испужался? Да он вдугаря пьяный!
Одновременно с этими словами выползал на сцену из глубин закулисья клочковатый туман, сквозь который, однако, и дама, и лежащий близ урны шут были не то чтобы чётко, но вполне себе видны. И летела из-за сцены в зрительный зал новая частушка:
Мелкий дождик моросит,
Нулевая видимость!
Рядом с урной возлежит —
Русская недвижимость!
Тут набегало «явилло» третье, самое ядовитое.
На всё тот же многострадальный избируч входил на полусогнутых Самоха, потом распрямлялся, приосанивался, расстёгивал длинное чёрное пальто и произносил несколько нечленораздельных, но громких звуков, всё больше напоминая достославного Борис Николаевича.
— Эт-та кто тут у вас безобразит? Эт-та кто, понимашь, россиянам жить мешат? Што эт-та за первыборы, я спрашиваю? Все уже выбраны! Совсем страх потеряли, гураны криворогие!.. О чём это я? А, ну, правильно. Это я из своей новой книги: «Моя семья и другие звери» рассказываю. Там щё песенка такая жизнеут… ут… утверждающая: «Всегда под мухой — судьба моя!»
После слов этих шла сердцещипательная сцена. С потолка на тонкой леске опять спускалась маротта и, поддёрнутая ловким оператором, начинала ласково — как психиатр молоточком — постукивать двухметрового Самоху по голове.
Актёр отступал, уклонялся, маротта начинала злиться, стучала по голове сильней, сильней, каждый удар отзывался за сценой листовым громом огромного таза. Наконец не выдержав стукотни, а главное тазовых звуков, Самоха, подобрав фалды кашемирового пальто, как заяицкий казак, вприсядку, уходил со сцены, горланя во всю мочь:
Эт-та што эт-та со мной,
Што с моею головой?
Спектакль удался на славу. Ожившие конкременты — так звал Терёха товарищей по искусству – тряслись в судорогах. Стали добиваться запрещения. В ответ на вылазки не до конца переработанных удобрений, Терёха добавил несколько реплик и одну репризу, которая начиналась чуток заунывно, зато кончалась улётно.
Свет гас, сбоку одиноко помигивала синяя лампочка и звучал вопрос:
— Кто глупее дурака?
Из глубин зала переодетые шуты изменёнными голосами вразнобой орали: «Ты у нас глупей пока!»
— А тогда скажите мне: дурак, он что — заразный?
Молчание зала прерывал сам Терёха:
Если есть у вас зараза
Мы её излечим сразу!
Что не этак, что не так,
Прокричит сейчас куклак!
Добавляли свету, Терёха выдвигал из-за спины метрового куклака в офицерской петровской одежде, в треуголке, и, намертво сплющив губы, гулко вещал чревом:
Я петровский куклачок
Подцеплю вас на гачок,
Про весь свет я не скажу,
Но над вами я поржу!
Вас как сено растрясли,
Обнулили, обнесли,
И теперь вы в дураках,
Без бабла, в одних портках…
Гул возмущения знобким ветерком пробегал по рядам. Ожившие конкременты орали:
— Где ты портки видел? Смотри сюда! У меня штаны сингапурские!
— Бойкот, спектаклю, бойкот!
— Короче, мужики: бей котов спасай Россию!
— В м…м…милицию его! Вместе с куклаком сам…м…мострельным!
— Луч-че сразу в дурку.
— Куклак, на минуточку, музейный, всамделишный, — отвечал уже собственным голосом Терёха, — считать до десяти и говорить умеет. Ну, а голоса ваши явных вражин выдали. В зале вас и всего-то с нос собачки Гульки. А тогда я к большинству обращаюсь: давайте мы этих сукиных сынов, эту ненародную партию надутых презервативов выгоним отсэда палкой?
— Правильно, гони их!
Терёха резко взмахивал жезлом, кидался в зал, свет полностью гас, тихий рёв одобрения и жалкий писк оживших конкрементов перекрывала прощальная песенка-частушка:
Ваша зависть как змея:
Хвост свой заглотила
Плачет, кожей шевеля,
Горше крокодила!
Квак и чавканье малых кроканчиков, зубовный скрежет крокодилов половозрелых наполняли через громкоговоритель дикой музыкой, — как наполняется грузовик пустыми гремящими бидонами — облюбованный шутами Дворец культуры.
— А сейчас все вместе давайте гнать завистников на крокодилью ферму! Они с меня последнюю шкуру готовы были содрать. А теперь мы сами с них шкуру спустим — и на сумочки дамские. Айда за мной. Дамы вперёд! Я сказал вперёд, а не взад!
После пятого спектакля следователь прокуратуры Ламбатикова дело об оскорблении общественной нравственности и открыла. Спектакль мигом сняли с репертуара.
— И правильно, меж проч, сделали, — вдыхая коки аромат, произнесла разнеженно, покинувшая свой высокий пост с быстротой молнии, госпожа Ламбатикова.
А Терёха, выходя на сцену уже в другом, не запрещённом спектакле, продолжал изумляться:
— Это чем же ещё в ельцинское время можно оскорбить общественную нравственность? Чую шкурой: это из чинуш наших страсть к былым запретам сочится. Ну, прям саудовский эль-цинизм какой-то!
Тут Пудова Терентия изо всех дворцов культуры и турнули окончательно. Помыкавшись ещё несколько лет у ларьков на рынке, решил Терёха двинуть в Москву.
Зов укулеле
В те же нервно-скачущие недели и месяцы Самоха ударился в музыку. Сразу после развала «Чудесной Маротты», рассерчав на твердолобого Терёху, не желавшего ничего в цирковом спектакле менять, занялся Самоха отнюдь не шутовским делом.
Как-то попала ему в руки необычная разновидность гитары. Разновидность сильно смахивала на сплющенный ананас с воткнутой в него черпаком вверх уполовной ложкой. Обнаружился ананас в кладовке одного из домов культуры, откуда Самоха как раз собирался сваливать. Спросил про «ананас» у директора — тот пожал плечами: забирай, инструмент на балансе не числится…
Как называется четырехструнный ананас, издававший негромкий, но бархатисто-приятный звук, Самоха не знал. Смотался в музыкальные мастерские — там подсказали: укуле́ле. Откуда в городе Во взялась изрисованная таинственными узорами «гавайская народная бандура», — так Самоха, устав «ананасить», стал ласково называть инструмент, – никто толком не знал.
Стал учиться играть. И вдруг отчётливо услышал тихий, но неотступный зов. Кто звал и куда, понять Самоха не мог. Слов иноязычных было не разобрать, зато мелодия была круглой, ясной: она чего-то требовала, добивалась, не хотела кончаться.
Тут поплыло-поехало. Мотивчики — крупно колышущиеся, океанские — сами стали вплывать в Самохину голову. Какие-то парусники, а иногда и корабли с высокими тонкими трубами медленно швартовались в разгорячённом Самохином мозгу. Стал являться и некий аптекарь в смешной докторской шапочке с болтавшимися сзади завязками, в долгополом кафтане. Выходило так, что аптекарь этот то ли бывал в городе Во проездом, то ли где-то в отдалении тосковал по Дикому Полю, подступавшему к городу вплотную с юга. Произносил аптекарь всего несколько слов: «О, Шефферталь, майн херц», «О, долина моя, Шефферталь!» Причём произносил когда грозно, а когда со слезой.
Самоха в слова эти вцепился и, отложив на время укулеле, помчал в библиотеку. Стал искать. Несколько дней искал и нашёл-таки!..
31 января 1815 года, российский корабль «Беринг» (а по-иному — «Атауальпа») встал на якорь у берега гавайского острова Кауаи, чтобы возобновить запасы воды и продовольствия. Во время стоянки правитель острова и вице-король всего гавайского архипелага по имени Кау-муалии нежданно-негаданно объявил об аресте и конфискации российского судна и всего груза, тянувшего на огромную по тем временам сумму в сто тысяч рублей. В ответ на такой финансовый абордаж глава Российско-Американской компании Баранов послал вооружённую до зубов экспедицию на корабле «Открытие» захваченное судно вызволять. И командовал вооружённой экспедицией как раз новоиспечённый российский барон, а по совместительству ловкий аптекарь, по фамилии Шеффер. Причалив к среднекрупному остров Оаху, где его благосклонно встретил король Камехамеха, аптекарь стал срочно потчевать многочисленную королевскую семью, всеми имевшимися у него лекарствами. И поначалу всё шло прекрасно: все больные и все здоровые сразу почувствовали резкое облегчение. Многочисленные родственники короля наперебой хвалили вкус лекарств и просили больше, больше, ещё!.. В то же время, не слишком хотевший подчиняться всеобщему гавайскому монарху, вице-король Кау-муалии, томившийся на своём острове от безделья и блуда, вдруг начал подозревать капитан-аптекаря в тайных кознях. Получив донесение об изменившихся настроениях вице-короля, Шеффер начал готовить команду к рукопашной схватке, чтобы с налёту и, как говорится, в один дух, освободить русский корабль, от нескольких десятков, шлёпавших босыми ступнями по «Берингу», туземцев.
Крайние меры, однако, не понадобились. Вице-король внезапно смягчился и милостиво передал все свои подозрения любознательным подданным. При этом Кау-муалиипообещал Шефферу вернуть и корабль, и весь до последнего бочонка груз. Всё дело было в том, что вице-король и совладелец острова давно подыскивал могущественного покровителя, намереваясь обособиться от заносчивого короля Камехамеха. Чтобы осуществить задуманное вице-король решил пойти под высокую руку далёкой Российской империи. Мечты вице-короля полностью совпадали с желаниями капитан-аптекаря, который спал и видел: завладеть островом, чтобы использовать его как перевалочный порт для кораблей Российско-Американской компании. За решительную поддержку и проворство немецко-русского ума, аптекарь Шеффер получил в дар от вице-короля долину Ханалеи на севере острова. Как немецкий патриот он тут же переименовал долину в Шефферталь, а речку Ханапепе — уже, как российский подданный, — само собою, в Дон.
Под руководством шустрого, но временами поровшего явный вздор капитан-аптекаря, (которого у берегов Аляски уже однажды списали с борта шлюпа «Суворов», как «лицо, нетерпимое на судне») в 1816 году были построены три форта: форт Александр, форт Барклай и форт Елизавета. Но тут, как назло, в марте месяце 1817 года, к острову подошли сразу пять кораблей с вооруженными американцами. Сговорившись с подогретыми ромом туземцами, американцы течение нескольких дней сожгли все русские фактории и разорили ухоженные плантации. Что же до подданных Российской империи то их силком усадили на один из русских кораблей и отконвоировали подальше к северу.
Негодуя на собственную доверчивость и коварство туземцев, капитан-аптекарь, нагрянув в Петербург, представил правительству план утверждения России хотя бы на двух-трёх из Гавайских островов: лучше всего на Оаху, Кауаи и Молокаи. Проект Георга Антона Алоиза фон Шеффера горячо поддержала Российско-Американская компания. Однако верный высшему имперскому демократизму Александр I проект отклонил.
Отклонил дальнейшее знакомство с капитан-аптекарем и шут Самоха. А вот с гавайской народной бандурой он уже не расставался, и ежедневно, чуть гнусавя от восторга, сопровождал подвижные гавайянские песни бодрым пощипыванием четырёх струн…
В те же нервно-скачущие недели и месяцы Самоха ударился в музыку. Сразу после развала «Чудесной Маротты», рассерчав на твердолобого Терёху, не желавшего ничего в цирковом спектакле менять, занялся Самоха отнюдь не шутовским делом.
Как-то попала ему в руки необычная разновидность гитары. Разновидность сильно смахивала на сплющенный ананас с воткнутой в него черпаком вверх уполовной ложкой. Обнаружился ананас в кладовке одного из домов культуры, откуда Самоха как раз собирался сваливать. Спросил про «ананас» у директора — тот пожал плечами: забирай, инструмент на балансе не числится…
Как называется четырехструнный ананас, издававший негромкий, но бархатисто-приятный звук, Самоха не знал. Смотался в музыкальные мастерские — там подсказали: укуле́ле. Откуда в городе Во взялась изрисованная таинственными узорами «гавайская народная бандура», — так Самоха, устав «ананасить», стал ласково называть инструмент, – никто толком не знал.
Стал учиться играть. И вдруг отчётливо услышал тихий, но неотступный зов. Кто звал и куда, понять Самоха не мог. Слов иноязычных было не разобрать, зато мелодия была круглой, ясной: она чего-то требовала, добивалась, не хотела кончаться.
Тут поплыло-поехало. Мотивчики — крупно колышущиеся, океанские — сами стали вплывать в Самохину голову. Какие-то парусники, а иногда и корабли с высокими тонкими трубами медленно швартовались в разгорячённом Самохином мозгу. Стал являться и некий аптекарь в смешной докторской шапочке с болтавшимися сзади завязками, в долгополом кафтане. Выходило так, что аптекарь этот то ли бывал в городе Во проездом, то ли где-то в отдалении тосковал по Дикому Полю, подступавшему к городу вплотную с юга. Произносил аптекарь всего несколько слов: «О, Шефферталь, майн херц», «О, долина моя, Шефферталь!» Причём произносил когда грозно, а когда со слезой.
Самоха в слова эти вцепился и, отложив на время укулеле, помчал в библиотеку. Стал искать. Несколько дней искал и нашёл-таки!..
31 января 1815 года, российский корабль «Беринг» (а по-иному — «Атауальпа») встал на якорь у берега гавайского острова Кауаи, чтобы возобновить запасы воды и продовольствия. Во время стоянки правитель острова и вице-король всего гавайского архипелага по имени Кау-муалии нежданно-негаданно объявил об аресте и конфискации российского судна и всего груза, тянувшего на огромную по тем временам сумму в сто тысяч рублей. В ответ на такой финансовый абордаж глава Российско-Американской компании Баранов послал вооружённую до зубов экспедицию на корабле «Открытие» захваченное судно вызволять. И командовал вооружённой экспедицией как раз новоиспечённый российский барон, а по совместительству ловкий аптекарь, по фамилии Шеффер. Причалив к среднекрупному остров Оаху, где его благосклонно встретил король Камехамеха, аптекарь стал срочно потчевать многочисленную королевскую семью, всеми имевшимися у него лекарствами. И поначалу всё шло прекрасно: все больные и все здоровые сразу почувствовали резкое облегчение. Многочисленные родственники короля наперебой хвалили вкус лекарств и просили больше, больше, ещё!.. В то же время, не слишком хотевший подчиняться всеобщему гавайскому монарху, вице-король Кау-муалии, томившийся на своём острове от безделья и блуда, вдруг начал подозревать капитан-аптекаря в тайных кознях. Получив донесение об изменившихся настроениях вице-короля, Шеффер начал готовить команду к рукопашной схватке, чтобы с налёту и, как говорится, в один дух, освободить русский корабль, от нескольких десятков, шлёпавших босыми ступнями по «Берингу», туземцев.
Крайние меры, однако, не понадобились. Вице-король внезапно смягчился и милостиво передал все свои подозрения любознательным подданным. При этом Кау-муалиипообещал Шефферу вернуть и корабль, и весь до последнего бочонка груз. Всё дело было в том, что вице-король и совладелец острова давно подыскивал могущественного покровителя, намереваясь обособиться от заносчивого короля Камехамеха. Чтобы осуществить задуманное вице-король решил пойти под высокую руку далёкой Российской империи. Мечты вице-короля полностью совпадали с желаниями капитан-аптекаря, который спал и видел: завладеть островом, чтобы использовать его как перевалочный порт для кораблей Российско-Американской компании. За решительную поддержку и проворство немецко-русского ума, аптекарь Шеффер получил в дар от вице-короля долину Ханалеи на севере острова. Как немецкий патриот он тут же переименовал долину в Шефферталь, а речку Ханапепе — уже, как российский подданный, — само собою, в Дон.
Под руководством шустрого, но временами поровшего явный вздор капитан-аптекаря, (которого у берегов Аляски уже однажды списали с борта шлюпа «Суворов», как «лицо, нетерпимое на судне») в 1816 году были построены три форта: форт Александр, форт Барклай и форт Елизавета. Но тут, как назло, в марте месяце 1817 года, к острову подошли сразу пять кораблей с вооруженными американцами. Сговорившись с подогретыми ромом туземцами, американцы течение нескольких дней сожгли все русские фактории и разорили ухоженные плантации. Что же до подданных Российской империи то их силком усадили на один из русских кораблей и отконвоировали подальше к северу.
Негодуя на собственную доверчивость и коварство туземцев, капитан-аптекарь, нагрянув в Петербург, представил правительству план утверждения России хотя бы на двух-трёх из Гавайских островов: лучше всего на Оаху, Кауаи и Молокаи. Проект Георга Антона Алоиза фон Шеффера горячо поддержала Российско-Американская компания. Однако верный высшему имперскому демократизму Александр I проект отклонил.
Отклонил дальнейшее знакомство с капитан-аптекарем и шут Самоха. А вот с гавайской народной бандурой он уже не расставался, и ежедневно, чуть гнусавя от восторга, сопровождал подвижные гавайянские песни бодрым пощипыванием четырёх струн…
Господи прости — воровать пусти!
В Москве Терёшечка не враз, но устроился.
Да так, что лучше бы в городе Во или в Твери оставался!
Показал как-то Терёха в сомнительной компании пару-тройку фокусов, сопроводив их ненавязчивой клоунадой. На фокусах этих бандос Шурун его и прихватил. И не просто прихватил, а ловко и жёстко пристроил к делу: отвлекая фокусами, брать на гоп-стоп «банду фиксовую», а, говоря человеческим языком, — грабить ювелирные магазины.
Шутя стал Терёха вором, шутя откликался на кличку Пуд и дуванил дуван с бандосами.
Так несколько лет и пробежало: невероятное везение в грабежах, мрачноватый юмор, сделавший его популярным в обставленных на современный лад малинах, наглухо схлопнутые глаза милиции, а затем и полиции, покупка московской двухкомнатной квартиры и унывно-весёлые недоумения от привкуса столичной жизни. Занятно было то, что шутовство, угрюмые проказы и русский трикстеризм, о котором когда-то толковал старый ковёрный клоун, помогали ему только в кражах, а в жизни обычной — ни-ни.
«Ты, Терилло, шут, а не вор», — повторял он про себя по сто раз на дню. Но сил повернуть жизнь в сторону радостей цирка отчего-то не было.
И вполне возможно, так бы и погорел грабитель Пуд, попав когда-нибудь в руки полиции, чтобы потом догнивать на шконке. Но жизнь снова — и совершенно неожиданно — перевернулась. Больше того: впервые глянула жизнь шуту прямо в зенки с ласковым сочувствием и безо всякого коварства.
Увидел он в обставленной с припадочным шиком воровской хавире, на раскладном кожаном диванчике, под зазывной картиной в наворочанной раме, близ напольных ваз и эбонитовых статуэток, — девятилетнюю Оленьку. Увидел мельком, но разом ухватил всю её малую жизнь. Оленьку бандосы выкрали из детдома и собирались приспособить для собственных нужд. Не успели. Терёха не дал. Как увидел девчушечку так сразу, не раздумывая и не прикидывая, сказал себе: «Удочерю! Сукой буду, удочерю. Мужик без детей — нетёсаное бревно, обрубок. Будет приемная дочь — заживу по-новому. А тут… Тут ей и конец. Тут хоть и гогочут до упаду, да только смех не в радость!»
Собрался было у Шуруна девочоночку выкупить, — Оленька из хавиры исчезла. Искал, искал — нету нигде и всё тут. Решил поговорить по душам с Шуруном.
«Только, что за душа у блатаря? Есть ли она у него вообще или давно на мелкие пузырьки разлопнулась?» — засомневался Терёха.
Так оно и оказалось. Шурун мало того, что над Терёхой посмеялся, так ещё и братве раззвонил. Те восприняли по-разному. Некоторые смеялись и тыкали пальцами: «Папашка, блин, нашёлся!»
Правда двое-трое, не сказав ни слова, угрюмо отвернулись. Ну а самый зловредный, попик-Стёпик с жёлтой косичкой, распелся, как кенар, и давай насмехаться: «Бейцалы сперва себе открути, а потом удочеряй кучеряшку!»
Тут и вспомнил Терёха про маротту. Стал снова таскать её с собой, подкидывать и вертеть в руках по-всякому. Однако теперь шутовской жезл ни на кого не указывал, ни до чего не дотрагивался. И тогда великие сомнения в таинственной силе шутовского жезла объяли Терёшечку. Резко выдохнув обиду и огорчение, стал искать он девятилетнюю Оленьку самостоятельно, без всякой палки.
В Москве Терёшечка не враз, но устроился.
Да так, что лучше бы в городе Во или в Твери оставался!
Показал как-то Терёха в сомнительной компании пару-тройку фокусов, сопроводив их ненавязчивой клоунадой. На фокусах этих бандос Шурун его и прихватил. И не просто прихватил, а ловко и жёстко пристроил к делу: отвлекая фокусами, брать на гоп-стоп «банду фиксовую», а, говоря человеческим языком, — грабить ювелирные магазины.
Шутя стал Терёха вором, шутя откликался на кличку Пуд и дуванил дуван с бандосами.
Так несколько лет и пробежало: невероятное везение в грабежах, мрачноватый юмор, сделавший его популярным в обставленных на современный лад малинах, наглухо схлопнутые глаза милиции, а затем и полиции, покупка московской двухкомнатной квартиры и унывно-весёлые недоумения от привкуса столичной жизни. Занятно было то, что шутовство, угрюмые проказы и русский трикстеризм, о котором когда-то толковал старый ковёрный клоун, помогали ему только в кражах, а в жизни обычной — ни-ни.
«Ты, Терилло, шут, а не вор», — повторял он про себя по сто раз на дню. Но сил повернуть жизнь в сторону радостей цирка отчего-то не было.
И вполне возможно, так бы и погорел грабитель Пуд, попав когда-нибудь в руки полиции, чтобы потом догнивать на шконке. Но жизнь снова — и совершенно неожиданно — перевернулась. Больше того: впервые глянула жизнь шуту прямо в зенки с ласковым сочувствием и безо всякого коварства.
Увидел он в обставленной с припадочным шиком воровской хавире, на раскладном кожаном диванчике, под зазывной картиной в наворочанной раме, близ напольных ваз и эбонитовых статуэток, — девятилетнюю Оленьку. Увидел мельком, но разом ухватил всю её малую жизнь. Оленьку бандосы выкрали из детдома и собирались приспособить для собственных нужд. Не успели. Терёха не дал. Как увидел девчушечку так сразу, не раздумывая и не прикидывая, сказал себе: «Удочерю! Сукой буду, удочерю. Мужик без детей — нетёсаное бревно, обрубок. Будет приемная дочь — заживу по-новому. А тут… Тут ей и конец. Тут хоть и гогочут до упаду, да только смех не в радость!»
Собрался было у Шуруна девочоночку выкупить, — Оленька из хавиры исчезла. Искал, искал — нету нигде и всё тут. Решил поговорить по душам с Шуруном.
«Только, что за душа у блатаря? Есть ли она у него вообще или давно на мелкие пузырьки разлопнулась?» — засомневался Терёха.
Так оно и оказалось. Шурун мало того, что над Терёхой посмеялся, так ещё и братве раззвонил. Те восприняли по-разному. Некоторые смеялись и тыкали пальцами: «Папашка, блин, нашёлся!»
Правда двое-трое, не сказав ни слова, угрюмо отвернулись. Ну а самый зловредный, попик-Стёпик с жёлтой косичкой, распелся, как кенар, и давай насмехаться: «Бейцалы сперва себе открути, а потом удочеряй кучеряшку!»
Тут и вспомнил Терёха про маротту. Стал снова таскать её с собой, подкидывать и вертеть в руках по-всякому. Однако теперь шутовской жезл ни на кого не указывал, ни до чего не дотрагивался. И тогда великие сомнения в таинственной силе шутовского жезла объяли Терёшечку. Резко выдохнув обиду и огорчение, стал искать он девятилетнюю Оленьку самостоятельно, без всякой палки.
Тихая Оленька
Нашёл — случайно. Среди холстов и чучел у бывшего таксидермиста, обладателя заунывной вьетнамской фамилии Выу: ныне оформителя русских народных ярмарок, не брезгающего иметь дела с бандосами.
Оленька была вьетнамцу с головы до пят безразлична, потому как рисовал и перерисовывал он в последние дни молодого курносого паренька из приезжих. Привязав паренька к стулу и похаживая вокруг него, бывший чучельник приговаривал:
— Цицас ты у нас — Цвятой Цебастьян. А раз ты цвятой нецего меня бояться. Цюцело из тебя не сделаю, дазе думать забудь!»
Исходя из вновь прихлынувших чувств, Оленьку чучельник продал задёшево и даже плюнул ей вслед рассыпчато:
— Дура она и сё. Таких дур не хоцю у себя содержать…
Оленька! Нежная, хрупкая, с голоском позванивающим, таинственно скрытная, движется, как плывёт (в длинных до полу хороводных платьях так танцорки плывут) — вот какой она была. А ещё оказалась она слегка, — а может и не слегка — коварной. Ну, а как возмещение за ущерб наносимый душе скрытым коварством — тонкие, строго-прилизанные волосы, и внизу над шеей, умильно доверчивый завиток.
Оленьку, сданную бандосами в аренду вьетнамцу, Терентий выкупил, отдав больше половины того, что имел в наличности. А, выкупив, сразу поговорил с ней по душам. Сказал: ему уже за сорок и жить без семьи он больше не может. Рассудительная и не слишком испорченная детдомом Оленька посоветовала Терентию Фомичу жениться. Тот согласился и сказал, что как только удочерит её, так сразу и женится. А покуда жены нет, будет заниматься удочерением.
В удочерении Пудову Терентию: «шатуну, гуляке и праздному человеку» — так выразилась в кулуарах одна из руководительниц Департамента госполитики в сфере защиты прав ребёнка — отказали. Терёха приписал это своей цирковой профессии — ни к чему другому Департамент придраться не мог.
Подумали, подумали они с Оленькой и решили оставить её на детдомовской фамилии, а пока суд да дело жить рядом, сказавшись, где надо родственниками.
— Не идти же мне опять в детдом или к дядькам этим противным. Особенно этот, «цюцельник». Ну, прям, нитратный какой-то.
Чуток успокоившись, Терёха определил Оленьку в классическую гимназию. Та в ответ стала прилежно учиться. Но тут как раз деньги ворованные, потраченные на Оленькину гимназию, на хлопоты по удочерению, на одежду-обувь и прочее — полностью кончились. Жить стало не на что. С цирковым образованием, да ещё в немолодёжном возрасте — никуда не брали.
Ровно через две недели после денежного облома, поставив на стрёме одного из коллег-«городушников», Терёха аккуратно и артистично — применив навыки фокусника-иллюзиониста — обчистил на огромную сумму ювелирку (или как ему было привычней: «фиксатую банду») на Маросейке. И уже через два дня сбыл барыгам два увесистых мешочка с рыжевьём и брюликами…
Деньги появились, полиция до него так и не добралась, позаботился об этом заранее, — приходил в ювелирку в гриме и одёжке индусской — но всё ж таки было на душе неспокойно.
В трепле нервов, зряшных и незряшных волнениях, цирковым аллюром проскочили почти семь годков. Как пьяная моль, вылетала иногда из-за шкафов, чтобы подразнить, будущая жизнь. Но тут же за шкафы опять и пряталась.
Оленька оканчивала гимназию, нужно было двигать её по жизни дальше.
— А как двигать? Как? — спрашивал себя по временам Терёха.
И сам же себе отвечал:
— Сердцу непонятно, уму недоступно.
Как раз после этих слов всё вдруг сжалось и разжалось пружиной, а потом ещё и встало с головы на ноги. От ворья и даже от Оленьки поволокло Пудова Терентия назад, на горящую в столпах света цирковую арену. Этот пружинистый скок пришёлся ему по душе. Таким вот макаром накануне Дня шута, близ Старого цирка он и очутился.
Нашёл — случайно. Среди холстов и чучел у бывшего таксидермиста, обладателя заунывной вьетнамской фамилии Выу: ныне оформителя русских народных ярмарок, не брезгающего иметь дела с бандосами.
Оленька была вьетнамцу с головы до пят безразлична, потому как рисовал и перерисовывал он в последние дни молодого курносого паренька из приезжих. Привязав паренька к стулу и похаживая вокруг него, бывший чучельник приговаривал:
— Цицас ты у нас — Цвятой Цебастьян. А раз ты цвятой нецего меня бояться. Цюцело из тебя не сделаю, дазе думать забудь!»
Исходя из вновь прихлынувших чувств, Оленьку чучельник продал задёшево и даже плюнул ей вслед рассыпчато:
— Дура она и сё. Таких дур не хоцю у себя содержать…
Оленька! Нежная, хрупкая, с голоском позванивающим, таинственно скрытная, движется, как плывёт (в длинных до полу хороводных платьях так танцорки плывут) — вот какой она была. А ещё оказалась она слегка, — а может и не слегка — коварной. Ну, а как возмещение за ущерб наносимый душе скрытым коварством — тонкие, строго-прилизанные волосы, и внизу над шеей, умильно доверчивый завиток.
Оленьку, сданную бандосами в аренду вьетнамцу, Терентий выкупил, отдав больше половины того, что имел в наличности. А, выкупив, сразу поговорил с ней по душам. Сказал: ему уже за сорок и жить без семьи он больше не может. Рассудительная и не слишком испорченная детдомом Оленька посоветовала Терентию Фомичу жениться. Тот согласился и сказал, что как только удочерит её, так сразу и женится. А покуда жены нет, будет заниматься удочерением.
В удочерении Пудову Терентию: «шатуну, гуляке и праздному человеку» — так выразилась в кулуарах одна из руководительниц Департамента госполитики в сфере защиты прав ребёнка — отказали. Терёха приписал это своей цирковой профессии — ни к чему другому Департамент придраться не мог.
Подумали, подумали они с Оленькой и решили оставить её на детдомовской фамилии, а пока суд да дело жить рядом, сказавшись, где надо родственниками.
— Не идти же мне опять в детдом или к дядькам этим противным. Особенно этот, «цюцельник». Ну, прям, нитратный какой-то.
Чуток успокоившись, Терёха определил Оленьку в классическую гимназию. Та в ответ стала прилежно учиться. Но тут как раз деньги ворованные, потраченные на Оленькину гимназию, на хлопоты по удочерению, на одежду-обувь и прочее — полностью кончились. Жить стало не на что. С цирковым образованием, да ещё в немолодёжном возрасте — никуда не брали.
Ровно через две недели после денежного облома, поставив на стрёме одного из коллег-«городушников», Терёха аккуратно и артистично — применив навыки фокусника-иллюзиониста — обчистил на огромную сумму ювелирку (или как ему было привычней: «фиксатую банду») на Маросейке. И уже через два дня сбыл барыгам два увесистых мешочка с рыжевьём и брюликами…
Деньги появились, полиция до него так и не добралась, позаботился об этом заранее, — приходил в ювелирку в гриме и одёжке индусской — но всё ж таки было на душе неспокойно.
В трепле нервов, зряшных и незряшных волнениях, цирковым аллюром проскочили почти семь годков. Как пьяная моль, вылетала иногда из-за шкафов, чтобы подразнить, будущая жизнь. Но тут же за шкафы опять и пряталась.
Оленька оканчивала гимназию, нужно было двигать её по жизни дальше.
— А как двигать? Как? — спрашивал себя по временам Терёха.
И сам же себе отвечал:
— Сердцу непонятно, уму недоступно.
Как раз после этих слов всё вдруг сжалось и разжалось пружиной, а потом ещё и встало с головы на ноги. От ворья и даже от Оленьки поволокло Пудова Терентия назад, на горящую в столпах света цирковую арену. Этот пружинистый скок пришёлся ему по душе. Таким вот макаром накануне Дня шута, близ Старого цирка он и очутился.
Самоха и Дергач
Мысли и воспоминания стиснули сердце раз-другой-третий — и отпустили.
Март 22-го и холодноват был, а приязнен, светел. И раскручивал март потихоньку на краях своих мелкие, но вполне жизнелюбивые весенне-летние сюжеты.
Вдруг в промежутке между воспоминаниями и осмеянием бредущей мимо толпы, что-то внезапно, прямо средь улицы Терёху остановило: мелькнула, пропала, а потом была поймана боковым зрением вновь — высоченная, чуть скособоченная фигура в тёмно-сером кашемировом пальто, в лыжной голубой шапочке с красным помпоном.
Самоха!
Собрат по цирковым трюкам был мгновенно — и уже прямым зрением — на переходе к Олимпийскому проспекту из московской толпы выхвачен. Толпа текла в мечеть, и Самоха в лыжной шапочке, которую носил едва ли не круглый год, трепыхался в потоке как рыба, не умеющая выскользнуть из мелкоячеистой сети и от этого вставшая на раздвоенный хвост. Тело Самохино пританцовывало. Голова в шапочке оставалась бездвижной. Это напомнило их давние — без речей — цирковые забавы.
Терёха от радости рассмеялся: «И впрямь, как рыба на хвосте. Ишь, пляшет как!»
Тут же Пудов Терентий вспомнил, какая у них разница в росте: у Самохи — 196, у него самого — 165. Но разница, как случалось раньше, не раздосадовала: умилила.
Окликать Самоху не стал, трижды подряд звонко щёлкнул языком, как друг друга всегда из домов или из циркового закулисья они вызывали.
Услыхав щелчки, Самоха застыл как высоченная жердь, а потом не пошёл даже — побежал на звук. Не добежав двух-трёх шагов, замер на месте, уронил голову на грудь и расплакался как дитя. Сели в кафе. Самоха, кончив рюмзать, блаженно и влажно смеялся. Говорил быстро, словно страшась — оборвут на полуслове:
— … что ты, что ты, что ты! Когда шут плачет — это он по-особому смеётся. А тебе, ёксель-моксель… тебе, Терёшечка, пора бы возвыситься над нашим бедламчиком.
— Я б возвысился да рост не позволяет.
— При чём тут рост! Ты не такой как эти захребетники, — Самоха обвёл взглядом кафешных посетителей, — ты другой: чистый помыслами, просто грубоват с виду.
— Молчи, Самоха! Молчи и знай: чем чище помыслы — тем грязней окружающая жизнь для того, кто помыслы такие имеет.
— Нет, ты послушай. Надо тебе сменить рисунок роли. Что ты, что ты, что ты! Не просто угрюмый морж обдувающий усы среди плавающей чуши и радостного озлобления, а наивный созерцатель, усевшийся на фанерный, на скорую руку сколоченный трон. Вот, кто ты есть! Ну, такой, знаешь, изумлённый наблюдунчик, который вроде ни хрена не понимает, а на самом деле — всё до последней мелочи сечёт, — зажурчал совсем уж сладко Самоха, — Здо́рово ведь! А? Тебе б сейчас на Украйну рвануть, там, на базарах хлопчика Зелю пародировать. От политики людей отводить, к человеческим чувствам возвращать. Он в кресле высоком — ты на табуреточке тронной. Он сказал — ты искренне изумился, потом в репризе его продёрнул. Тут же, как птица человеческая, на забор уселся и уже оттуда, слова нужные произносишь: ранящие, смешные, странностью ликующей переполненные. Мгновенный уличный цирк нужен. Я как тебя увидал, так это сразу и понял. Потому и заплакал. Ты думал я от немощи плачу? Что ты, что ты! Я ещё ого-го!.. Ну, да ладно. Есть у меня на югах добрый знакомец: Ян Максюта. Правда, не знаю, жив ли. Давно «айдаровцы» грозились его грохнуть.
— Меня там сходу — в зиндан украинский. А на трон фанерный я и у нас взобраться могу.
— Здесь — не то. Пародий шибко не наскребёшь. Третьестепенных пародировать — дело дохлое. А первостепенного — пока не знаю, за что и уцепить! И потом — у нас безопасненько. А нет опасности — нет динамики творчества, нет драйва, — журчал и журчал Самоха, — ну, если не на Украйну, так в новороссийские города, в Херсон, в Мелитополь езжай. Там шутовской трон соорудить для тебя попроси. Ох, и городок Мелитополь! Вина — залейся. Бабёшек — гляди, не хочу! Теплынь, дружелюбство. И сирень «Мадам Лемуан»: сама белоснежная, цветки махровые, соцветия медовые! Ух-х!
— Говорю ж тебе: трон высокий и здесь имеется.
— Так не пробиться к нему.
— А к Зеле, к тому — пробиться?
— А ты попробуй, Терёшечка!
— Мрачный шут пародирует злого клоуна? Не смешно.
— Он и впрямь, как оса, злючий. И Украйну — так родственники мои передают — ненавидит. Но ты вот в чём, Терёшечка ошибаешься. Ты не мрачный шут. Ты — шут трагический! Сам когда-то говорил: я русский трикстер. А трикстер — он для драм и нарушения омертвелых устоев приходит! Сумасшедшинку в постылые параграфы вносит! Толкает к отказу от липовых идеалов, помогает превращению мира бесконечных копий в мир подлинников.
— Не такой уж я мрачный. Да и по всему выходит — не нужны сейчас шуты трагические. Паяцы нужны. Стебуны-комментаторы. Их сейчас и толпа, и правители, ух, как настырно требуют. А шуты… Суровая даль, за их кривлянием проступает. Короче! Трагический шут — предвестник перемен. Вспомни, Осипа Гвоздя, вспомни Грозного Ивана.
— Грозный тут — мимо кассы: у нас ведь все назад двинуться хотят, а не вперёд, как царь Иван хотел. Потому и правителю нынешнему не позволяют глубоко-обновляющих перемен произвести. Думают, вернёмся к СССР, и всё само собой образуется. А ведь государство — не ванька-встанька! Само по себе ни упасть, ни встать не может!
— Оно, конечно, зря правитель возле себя клоунов тупомудрых держит. Не клоунская развязность, а взгляд шута-прозорливца ему нужен. И опять же: цирк-театр шутовской нужен! Плюс цирко-парк зверей, которые не в клетках, а на воле, среди огромных пространств существуют. И как раз парад шутов послезавтрашний подтолкнёт нас тихонько к цирку-театру общественно-публицистической пародии!
— Терёнчик, душка! Забыл нашу с тобой установку? Пародия — это любовь. И в первую голову — любовь к смеховому образу. Ну, ладно политиков и политику обсмеёшь. Но ты, чую, Бога и ангелов его собираешься пародировать! Так это уже бывало в революционные времена. И что вышло? А?
— Не Бога! А ложные устремления современной жизни, которая в каторжные тесные колодки наши ноги забила и смотрит, как мы по белу свету шкандыбаем! Колодки эти — прогресс и свобода. Тут всё, тупик! Потому как, чем больше прогресса, тем меньше свободы! Ты, блин, пойми! Правители меняются, власти исчезают, появляются. Но жизнь, по сути своей, во все века одна и та же! Вот темка для трагического шута. Взять меня. Из антрепризы вышибли, подходящей работы нет. А кто виноват? Я сам? Окружающие? Господь Бог? Нет, не они. И врага явного, словно бы нет! Как говорится: так жизнь сложилась. Но ты, Самоха, знай! Враг незримый, смертельный — сама наша жизнь. Создатель вдул в нас душу, а жизнь от Него отпавшая, — казнит и убивает. Не смерть убивает: жизнь! А смерть, наоборот, по-своему оживляет, к иной, справедливо-праведной жизни нас толкает!
— Ты, Терёшечка, говори да не заговаривайся. Что ты, что ты, что ты!.. Давай лучше вместо слов про жизне-смерть сценку тут разыграем.
— Разыграем. Только позже. Ты вот ещё чего, Самоха, запомни. Клоун на престоле — зло. А шут рядом с правителем на шутовском, рядом стоящем престоле, — предупреждение! Я и стремлюсь живым предупреждением стать. Дурачеством своим мозги правителю перевернуть и на другие рельсы поставить! Но тут, как назло, некоторые псевдо-шуты правителями себя возомнили: что в Европе, что в Америке. Беда, беда за ними облаком собачьей шерсти несётся, четырёхметровыми мышиными крыльями машет!.. Короче. Клоун — паскудник. Шут — спасатель.
— Ладно, кончай философией брызгать. Расскажу тебе, ёксель-моксель, анекдотишко. Учит Абрамович украинскую историю и тут…
— Да пошёл ты со своими анекдотами! Я ещё не досказал. Жизнь не только враг, — она ещё и обезьяна! Как бы это сказать… Злой насмешник над всем, что свято! Это зачем так устроено? Бог – одно, жизнь — другое. Вот вопрос так вопрос. Знаю одно: как противовес жизни-кривляке — древнее шутовство и возникло! Обсмеять не Бога, не святость, а саму жизнь, которая изо дня в день, красным обезьяним задом нас дразнит.
— А тогда давай прямо сейчас вышутим жизнь обезьянью. Авось, на тебя глядя, надорвёт она животики от хохота и в покое оставит!
— Вышутить бы неплохо. Только тут историйка свежая нужна. А у нас все истории «с бородой». И потом: русский шут — он ведь другой: не лучше и не хуже шута европейского. Просто — другой! Ему не хочется жизнь уничтожать. Даже самую затюканную, заплёванную. Его удел: следовать за обезьяной-жизнью, водить, когда получится эту образину на верёвочке, а не душить её. Обсмеивать, но не ставить с ног на голову. И при этом держать смех свой в оболочке грусти. Но самое главное в русском шутовстве, не развлекуха: в нём гениальная мысль должна быть скрыта!
— Ну, вот тебе история для сценки гениальной. Поехал Зеля на фронт и там обделался.
Самоха выжидающе смолк, Терёха сник и сквозь пелену задумчивости прозевал миг, когда в кафе появился Базиль Дергач:
— Вот ты где, Терентий. А я тебя обыскался. Поразительно! Ты зачем разрешение на парад остолопов выклянчил? Я в разрешённом шествии участвовать не буду!
— Так ты ж и не остолоп вроде. И в шуты тебя никто не записывал.
— Такое шествие — подарок властям. Они сразу трубить начнут: мы, мол, всё разрешаем, у нас, мол, свобода. Я конкретный противник любой власти. И в первую очередь, русской. Или, если хочешь — российской. Меня теперь так сокращённо и зовут: ПРуВ. А тебе, Терентий, если ты ещё не понял, сообщу — русским вообще нельзя давать власти. Никакой. Ни над чем. Потому что у них у всех на лбу высечено — под-чи-не-ни-е! Поэтому я буду протестовать против вашего шествия одиночным пикетом.
— Ну, протестуй, нам-то что?
— Это ты сейчас так говоришь, а потом преследовать меня начнёте.
— Кому ты нужен, мозгоклюй!
— Вы — душители правд и свобод! На самом деле вы не парад шутов затеяли, а конкретную поддержку властям оказать хотите.
Терёха насупился, Дергач этого не заметил, стал воспаляться дальше:
— Вот вы тут сидите, чаи с ликёрами хлещете, а там, на улицах, власть конкретные ужасы творит!
— Ну и чего такого она сегодня сотворила?
Недовольный тем, что ПРуВ оборвал беседу с Самохой, Терёха попытался нащупать рукой маротту, не нашёл, взял в руки чайную ложку, согнул, разогнул, кинул на стол.
Смазливый на личико, но тельцем какой-то сухой, Дергач аж подпрыгнул на месте:
— А ты не знаешь? Закон о легализации коррупции сегодня вышел!
— Брось, заливать!
— А! Так ты выгораживать их вздумал? Аmazingly! Поразительно! Тебя за сколько купили?
Терёха встал, вывернул карманы.
— Видишь, баран, в карманах пусто.
— Значит на счету и на карте полно. Точно знаю: денежки из клоунов своих тянешь! Но я не про поборы. Что взято — то свято! Деньги вообще святое дело. Взятки тоже. Но получать их можно только от достойных властей и предлагать им же.
— Ага. Значит, ёкскль-моксель, есть-таки достойненькие? — Самохин журчливый голосок вывел Дергача из себя.
— Молчи, понаехавший! Благородная и достойная власть есть, она де факто существует!
— На небе?
— Не на небе, у нас, на земле. Только в другом полушарии. Я об этом давно статью написал. Если одну часть шарика как следует выскрести — вторая заживёт припеваючи.
— Ну, хватит. Топал бы ты отсюда, мил-человек.
— Я-то уйду. А вот вы подстилки кремлёвские, так навозом и засохнете. Скоро, скоро вас за одно место возьмут. И…
Тут Самоха и Терёха, не сговариваясь, вскочили. Терёха легко сбил Дергача на пол, потом за ремень и за шкирку его поддёрнул, поставил на четвереньки. Самоха тем временем распечатал стоявшую на столе газводу.
— Поднимай ногу! — гаркнул Терёха.
Дергач со страху поднял.
И брызнула тонкой струйкой прямо на Дергачёво межножье, а потом полилась на пол вода. Кафешные, стали переглядываться.
Тут зажурчал звонко Самоха:
— Унимание! Бесплатная сценка: человек-собака! Как водится: собака лает — ветер носит! И чем напрасней человек-собака лает, тем обильней потом злого духа пускает. И чего от лая осталось? А вот чего! Один злой дух вместо лая летает. Щас, щас увидите!
Самоха выхватил из кармана цирковой пиротехнический стержень, похожий на бенгальскую свечу, зажёг, поводил над Дергачём. Вдруг над свечой рваным облачком обозначился лиловый человечий газок. Газок отлетел в сторону. Самоха догнал. Тот опять в сторону — Самоха снова догнал, поднёс к облачку горящий стержень. Газок взорвался, запылал ярче, смелей. Запахло острой кишечной непроходимостью, мозговой рвотой…
Нестрашные взрывы человеческих выхлопов — кафешных развеселили.
Взбулькнул смех, но и недовольство пластиковыми стаканчиками затрещало. Кто-то взвизгнул: «Полиц-ц-ция!»
— И полицию на предмет газов проверим! – крикнул напоследок Самоха и вместе с Терёхой, распевая на два голоса: «Трикстер, трикстер, где ты был», — кинулись они наутёк.
Пробежав полквартала, свернули за угол, расхохотались, ударили по петушкам.
— Такая вот Ролла Болла, такая вот цирковая балансировка действительности у нас получилась, — журчал и журчал Самоха.
Мысли и воспоминания стиснули сердце раз-другой-третий — и отпустили.
Март 22-го и холодноват был, а приязнен, светел. И раскручивал март потихоньку на краях своих мелкие, но вполне жизнелюбивые весенне-летние сюжеты.
Вдруг в промежутке между воспоминаниями и осмеянием бредущей мимо толпы, что-то внезапно, прямо средь улицы Терёху остановило: мелькнула, пропала, а потом была поймана боковым зрением вновь — высоченная, чуть скособоченная фигура в тёмно-сером кашемировом пальто, в лыжной голубой шапочке с красным помпоном.
Самоха!
Собрат по цирковым трюкам был мгновенно — и уже прямым зрением — на переходе к Олимпийскому проспекту из московской толпы выхвачен. Толпа текла в мечеть, и Самоха в лыжной шапочке, которую носил едва ли не круглый год, трепыхался в потоке как рыба, не умеющая выскользнуть из мелкоячеистой сети и от этого вставшая на раздвоенный хвост. Тело Самохино пританцовывало. Голова в шапочке оставалась бездвижной. Это напомнило их давние — без речей — цирковые забавы.
Терёха от радости рассмеялся: «И впрямь, как рыба на хвосте. Ишь, пляшет как!»
Тут же Пудов Терентий вспомнил, какая у них разница в росте: у Самохи — 196, у него самого — 165. Но разница, как случалось раньше, не раздосадовала: умилила.
Окликать Самоху не стал, трижды подряд звонко щёлкнул языком, как друг друга всегда из домов или из циркового закулисья они вызывали.
Услыхав щелчки, Самоха застыл как высоченная жердь, а потом не пошёл даже — побежал на звук. Не добежав двух-трёх шагов, замер на месте, уронил голову на грудь и расплакался как дитя. Сели в кафе. Самоха, кончив рюмзать, блаженно и влажно смеялся. Говорил быстро, словно страшась — оборвут на полуслове:
— … что ты, что ты, что ты! Когда шут плачет — это он по-особому смеётся. А тебе, ёксель-моксель… тебе, Терёшечка, пора бы возвыситься над нашим бедламчиком.
— Я б возвысился да рост не позволяет.
— При чём тут рост! Ты не такой как эти захребетники, — Самоха обвёл взглядом кафешных посетителей, — ты другой: чистый помыслами, просто грубоват с виду.
— Молчи, Самоха! Молчи и знай: чем чище помыслы — тем грязней окружающая жизнь для того, кто помыслы такие имеет.
— Нет, ты послушай. Надо тебе сменить рисунок роли. Что ты, что ты, что ты! Не просто угрюмый морж обдувающий усы среди плавающей чуши и радостного озлобления, а наивный созерцатель, усевшийся на фанерный, на скорую руку сколоченный трон. Вот, кто ты есть! Ну, такой, знаешь, изумлённый наблюдунчик, который вроде ни хрена не понимает, а на самом деле — всё до последней мелочи сечёт, — зажурчал совсем уж сладко Самоха, — Здо́рово ведь! А? Тебе б сейчас на Украйну рвануть, там, на базарах хлопчика Зелю пародировать. От политики людей отводить, к человеческим чувствам возвращать. Он в кресле высоком — ты на табуреточке тронной. Он сказал — ты искренне изумился, потом в репризе его продёрнул. Тут же, как птица человеческая, на забор уселся и уже оттуда, слова нужные произносишь: ранящие, смешные, странностью ликующей переполненные. Мгновенный уличный цирк нужен. Я как тебя увидал, так это сразу и понял. Потому и заплакал. Ты думал я от немощи плачу? Что ты, что ты! Я ещё ого-го!.. Ну, да ладно. Есть у меня на югах добрый знакомец: Ян Максюта. Правда, не знаю, жив ли. Давно «айдаровцы» грозились его грохнуть.
— Меня там сходу — в зиндан украинский. А на трон фанерный я и у нас взобраться могу.
— Здесь — не то. Пародий шибко не наскребёшь. Третьестепенных пародировать — дело дохлое. А первостепенного — пока не знаю, за что и уцепить! И потом — у нас безопасненько. А нет опасности — нет динамики творчества, нет драйва, — журчал и журчал Самоха, — ну, если не на Украйну, так в новороссийские города, в Херсон, в Мелитополь езжай. Там шутовской трон соорудить для тебя попроси. Ох, и городок Мелитополь! Вина — залейся. Бабёшек — гляди, не хочу! Теплынь, дружелюбство. И сирень «Мадам Лемуан»: сама белоснежная, цветки махровые, соцветия медовые! Ух-х!
— Говорю ж тебе: трон высокий и здесь имеется.
— Так не пробиться к нему.
— А к Зеле, к тому — пробиться?
— А ты попробуй, Терёшечка!
— Мрачный шут пародирует злого клоуна? Не смешно.
— Он и впрямь, как оса, злючий. И Украйну — так родственники мои передают — ненавидит. Но ты вот в чём, Терёшечка ошибаешься. Ты не мрачный шут. Ты — шут трагический! Сам когда-то говорил: я русский трикстер. А трикстер — он для драм и нарушения омертвелых устоев приходит! Сумасшедшинку в постылые параграфы вносит! Толкает к отказу от липовых идеалов, помогает превращению мира бесконечных копий в мир подлинников.
— Не такой уж я мрачный. Да и по всему выходит — не нужны сейчас шуты трагические. Паяцы нужны. Стебуны-комментаторы. Их сейчас и толпа, и правители, ух, как настырно требуют. А шуты… Суровая даль, за их кривлянием проступает. Короче! Трагический шут — предвестник перемен. Вспомни, Осипа Гвоздя, вспомни Грозного Ивана.
— Грозный тут — мимо кассы: у нас ведь все назад двинуться хотят, а не вперёд, как царь Иван хотел. Потому и правителю нынешнему не позволяют глубоко-обновляющих перемен произвести. Думают, вернёмся к СССР, и всё само собой образуется. А ведь государство — не ванька-встанька! Само по себе ни упасть, ни встать не может!
— Оно, конечно, зря правитель возле себя клоунов тупомудрых держит. Не клоунская развязность, а взгляд шута-прозорливца ему нужен. И опять же: цирк-театр шутовской нужен! Плюс цирко-парк зверей, которые не в клетках, а на воле, среди огромных пространств существуют. И как раз парад шутов послезавтрашний подтолкнёт нас тихонько к цирку-театру общественно-публицистической пародии!
— Терёнчик, душка! Забыл нашу с тобой установку? Пародия — это любовь. И в первую голову — любовь к смеховому образу. Ну, ладно политиков и политику обсмеёшь. Но ты, чую, Бога и ангелов его собираешься пародировать! Так это уже бывало в революционные времена. И что вышло? А?
— Не Бога! А ложные устремления современной жизни, которая в каторжные тесные колодки наши ноги забила и смотрит, как мы по белу свету шкандыбаем! Колодки эти — прогресс и свобода. Тут всё, тупик! Потому как, чем больше прогресса, тем меньше свободы! Ты, блин, пойми! Правители меняются, власти исчезают, появляются. Но жизнь, по сути своей, во все века одна и та же! Вот темка для трагического шута. Взять меня. Из антрепризы вышибли, подходящей работы нет. А кто виноват? Я сам? Окружающие? Господь Бог? Нет, не они. И врага явного, словно бы нет! Как говорится: так жизнь сложилась. Но ты, Самоха, знай! Враг незримый, смертельный — сама наша жизнь. Создатель вдул в нас душу, а жизнь от Него отпавшая, — казнит и убивает. Не смерть убивает: жизнь! А смерть, наоборот, по-своему оживляет, к иной, справедливо-праведной жизни нас толкает!
— Ты, Терёшечка, говори да не заговаривайся. Что ты, что ты, что ты!.. Давай лучше вместо слов про жизне-смерть сценку тут разыграем.
— Разыграем. Только позже. Ты вот ещё чего, Самоха, запомни. Клоун на престоле — зло. А шут рядом с правителем на шутовском, рядом стоящем престоле, — предупреждение! Я и стремлюсь живым предупреждением стать. Дурачеством своим мозги правителю перевернуть и на другие рельсы поставить! Но тут, как назло, некоторые псевдо-шуты правителями себя возомнили: что в Европе, что в Америке. Беда, беда за ними облаком собачьей шерсти несётся, четырёхметровыми мышиными крыльями машет!.. Короче. Клоун — паскудник. Шут — спасатель.
— Ладно, кончай философией брызгать. Расскажу тебе, ёксель-моксель, анекдотишко. Учит Абрамович украинскую историю и тут…
— Да пошёл ты со своими анекдотами! Я ещё не досказал. Жизнь не только враг, — она ещё и обезьяна! Как бы это сказать… Злой насмешник над всем, что свято! Это зачем так устроено? Бог – одно, жизнь — другое. Вот вопрос так вопрос. Знаю одно: как противовес жизни-кривляке — древнее шутовство и возникло! Обсмеять не Бога, не святость, а саму жизнь, которая изо дня в день, красным обезьяним задом нас дразнит.
— А тогда давай прямо сейчас вышутим жизнь обезьянью. Авось, на тебя глядя, надорвёт она животики от хохота и в покое оставит!
— Вышутить бы неплохо. Только тут историйка свежая нужна. А у нас все истории «с бородой». И потом: русский шут — он ведь другой: не лучше и не хуже шута европейского. Просто — другой! Ему не хочется жизнь уничтожать. Даже самую затюканную, заплёванную. Его удел: следовать за обезьяной-жизнью, водить, когда получится эту образину на верёвочке, а не душить её. Обсмеивать, но не ставить с ног на голову. И при этом держать смех свой в оболочке грусти. Но самое главное в русском шутовстве, не развлекуха: в нём гениальная мысль должна быть скрыта!
— Ну, вот тебе история для сценки гениальной. Поехал Зеля на фронт и там обделался.
Самоха выжидающе смолк, Терёха сник и сквозь пелену задумчивости прозевал миг, когда в кафе появился Базиль Дергач:
— Вот ты где, Терентий. А я тебя обыскался. Поразительно! Ты зачем разрешение на парад остолопов выклянчил? Я в разрешённом шествии участвовать не буду!
— Так ты ж и не остолоп вроде. И в шуты тебя никто не записывал.
— Такое шествие — подарок властям. Они сразу трубить начнут: мы, мол, всё разрешаем, у нас, мол, свобода. Я конкретный противник любой власти. И в первую очередь, русской. Или, если хочешь — российской. Меня теперь так сокращённо и зовут: ПРуВ. А тебе, Терентий, если ты ещё не понял, сообщу — русским вообще нельзя давать власти. Никакой. Ни над чем. Потому что у них у всех на лбу высечено — под-чи-не-ни-е! Поэтому я буду протестовать против вашего шествия одиночным пикетом.
— Ну, протестуй, нам-то что?
— Это ты сейчас так говоришь, а потом преследовать меня начнёте.
— Кому ты нужен, мозгоклюй!
— Вы — душители правд и свобод! На самом деле вы не парад шутов затеяли, а конкретную поддержку властям оказать хотите.
Терёха насупился, Дергач этого не заметил, стал воспаляться дальше:
— Вот вы тут сидите, чаи с ликёрами хлещете, а там, на улицах, власть конкретные ужасы творит!
— Ну и чего такого она сегодня сотворила?
Недовольный тем, что ПРуВ оборвал беседу с Самохой, Терёха попытался нащупать рукой маротту, не нашёл, взял в руки чайную ложку, согнул, разогнул, кинул на стол.
Смазливый на личико, но тельцем какой-то сухой, Дергач аж подпрыгнул на месте:
— А ты не знаешь? Закон о легализации коррупции сегодня вышел!
— Брось, заливать!
— А! Так ты выгораживать их вздумал? Аmazingly! Поразительно! Тебя за сколько купили?
Терёха встал, вывернул карманы.
— Видишь, баран, в карманах пусто.
— Значит на счету и на карте полно. Точно знаю: денежки из клоунов своих тянешь! Но я не про поборы. Что взято — то свято! Деньги вообще святое дело. Взятки тоже. Но получать их можно только от достойных властей и предлагать им же.
— Ага. Значит, ёкскль-моксель, есть-таки достойненькие? — Самохин журчливый голосок вывел Дергача из себя.
— Молчи, понаехавший! Благородная и достойная власть есть, она де факто существует!
— На небе?
— Не на небе, у нас, на земле. Только в другом полушарии. Я об этом давно статью написал. Если одну часть шарика как следует выскрести — вторая заживёт припеваючи.
— Ну, хватит. Топал бы ты отсюда, мил-человек.
— Я-то уйду. А вот вы подстилки кремлёвские, так навозом и засохнете. Скоро, скоро вас за одно место возьмут. И…
Тут Самоха и Терёха, не сговариваясь, вскочили. Терёха легко сбил Дергача на пол, потом за ремень и за шкирку его поддёрнул, поставил на четвереньки. Самоха тем временем распечатал стоявшую на столе газводу.
— Поднимай ногу! — гаркнул Терёха.
Дергач со страху поднял.
И брызнула тонкой струйкой прямо на Дергачёво межножье, а потом полилась на пол вода. Кафешные, стали переглядываться.
Тут зажурчал звонко Самоха:
— Унимание! Бесплатная сценка: человек-собака! Как водится: собака лает — ветер носит! И чем напрасней человек-собака лает, тем обильней потом злого духа пускает. И чего от лая осталось? А вот чего! Один злой дух вместо лая летает. Щас, щас увидите!
Самоха выхватил из кармана цирковой пиротехнический стержень, похожий на бенгальскую свечу, зажёг, поводил над Дергачём. Вдруг над свечой рваным облачком обозначился лиловый человечий газок. Газок отлетел в сторону. Самоха догнал. Тот опять в сторону — Самоха снова догнал, поднёс к облачку горящий стержень. Газок взорвался, запылал ярче, смелей. Запахло острой кишечной непроходимостью, мозговой рвотой…
Нестрашные взрывы человеческих выхлопов — кафешных развеселили.
Взбулькнул смех, но и недовольство пластиковыми стаканчиками затрещало. Кто-то взвизгнул: «Полиц-ц-ция!»
— И полицию на предмет газов проверим! – крикнул напоследок Самоха и вместе с Терёхой, распевая на два голоса: «Трикстер, трикстер, где ты был», — кинулись они наутёк.
Пробежав полквартала, свернули за угол, расхохотались, ударили по петушкам.
— Такая вот Ролла Болла, такая вот цирковая балансировка действительности у нас получилась, — журчал и журчал Самоха.
Неимущая интеллигенция
Вечер удался: от хмурости Терёха резко перешёл к веселью. Самоха отирал слёзы счастья, обещая назавтра появиться здесь же, рядом, только в другом кафе.
— А послезавтра? Я ж говорил: послезавтра у нас — разрешённое шествие. День шута отмечать будем.
— Послезавтра – не знаю, получится ли? Прошёлся б я с вами, сценку по ходу дела слепил. Только не могу. За визой, ёксель-моксель, приехал. Ещё полгода назад подал. Завтра расскажу, что да как.
Обняв напоследок длиннющего Самоху чуть выше талии, двинул Терёха пешком в Замоскворечье, в обожаемые свои Толмачи.
Тут недоизложенные мысли его и настигли. Не сказал он Самохе главного! Не сказал, что сразу после парада шутов пробил-таки короткую встречу с правителем.
«Как русский трикстер буду с правителем говорить: дерзко, дальнозорко! Трикстер ведь — всегда посредник. Про это ещё старый клоун в Румянцевском твердил. Стало быть, выходит: трикстер, — а по-русски шутяра отмороженный — и есть перевозчик нашей земной тусы в небесную колыбель. Да, блин, верно! Не земля, а небо наша колыбель! И об этом правителю скажу. Потому что шутяра отмороженный, как ни крути, а должен помогать перевозить тайные знания из областей недостоверных, вроде Шамбалы, Беловодья, — в области достоверные, такие как: явь, белый свет, подлунный мир.
— А я-то сам при этом кто? Перевозчик? Посредник?.. Скорей — проводник. А, может, бегущий с пятками вперёд с фонарём в руках глашатай новой культуры? А чего? Шут — господин многих искусств, мастер на все руки, проверяющий на живучесть бритвой отточенного мастерства собственную силу и чужую власть. Ладно. Три дня — и всё решится. Тогда и станет ясно кто я: проводник или тупило!..
Вдруг мысль шута пресеклась. Не сразу сообразив в чём дело, Терёха ругнулся. И тут же увидел: держит он за лацкан пиджачка нищего с какой-то совершенно тюленьей рожей.
«Совсем, блин, заговорился», — снова обругал себя Терёха, а нищего вкрадчиво спросил:
— Значит, я аморален? — и себе же ответил, — по временам: да. Но иногда, наоборот — страшно морален! Что вообще они значат, моральность с аморальностью? — стал трясти он нищего за грудки, — по-моему, моральность и аморальность два конца шутовского жезла! Так? Нет?
Икая от непонимания, нищий согласно закивал, поддакнул.
Терёха дал нищему стольник, хотел идти дальше, но не удержался, заговорил опять:
— Вот стою столбом я на границе общества человеческого и сообщества небес и природы. И погорю на этом. Потому как, даже с твоей точки зрения — я туп, смешон и заранее приговорён к поражению. Короче. Ты смерти боишься?
— Б-б… Боюсь.
Рожа тюленья дрогнула, углы рта опустились едва не до шеи, волосики редкие торчащие вместо усов задрожали, — и тут же отступил побирушник от Терёхи на два шага.
— А вот для меня нет этих закорючек: была жизнь, настанет смерть. Для меня они идут рука об руку. Как две дуры-подружки случайно на стадион «Спартак» затесавшиеся. Гляди! Тесно прижались друг к дружке, идут плечом к плечу, — ищут свои места, согласно проданным билетам. А не находят! Так и я… Конечно, я со всеми этими мыслями могу заиграться, могу в яму рухнуть, могу себя перехитрить, как тот болван, что оскорбил Богоматерь и сам себе мимовольно отрезал нос. Понимаешь ты меня, умная голова?
— Понима… — ронял слюну нищий и, спрятав одну денежку, протягивал руку за другой.
— Ты пойми! Я тут по Москве копытами цокаю, выступаю одномоментно и как старый мудрый осёл, на котором Спаситель въезжал в Иерусалим, и как глуповатый юнец, которому осёл достался задаром, а распорядиться подарком он не смог.
Здесь Терёха спохватился, нищего от себя оттолкнул, взгрустнул. Но потом отёр выступивший на лбу цыганский холодный пот, протянул нищему ещё и пятисотку, взял его под локоток, поволок на скамейку, стал уже совсем ласково увещевать:
— Ну, сообрази ты, наконец! Твоя нищета — тебе подарок. Смех она и грех. Но она же дорога в рай. А бывает нищета другого рода: духовная. Вот, к примеру, господин-товарищ Ульянов-Ленин. Лежит себе в Мавзолее и на нас сквозь прозрачные для него стены хитро поглядывает, иногда — подмигивает… Так кто ж он после этого, если не шут, но только лишённый шутовской сердцевины! А Сталин? Тот, конечно, не шут. Тот — повелитель шутов. Многие вокруг него, забыв шутовское достоинство, клоунами-канатоходцами по натянутому верёвочкой пространству собственной жизни выступали. А Ленин, он всех…
Тут нищий внезапно взбодрился, не отходя от скамейки, вмиг поумнел, закричал петухом:
— Пространство им подавай! Антиллигенция вонючая! Пространство им!
Нищий скомкал одну из бумажек, сделал вид, что выбрасывает, но потом сунул пятисотку в карман и двинул в замоскворецкие дали. Но тут же свернул в рядом растущие кусты.
А Терёха всё кричал и кричал побирушнику в спину:
— Я не просто так с тобой говорю, дубина! Я к встрече с вершителем судеб готовлюсь. Укажу ему: кто рядом с ним анти-шут и кто анти-трикстер.
— Ещё и антихриста приплёл! — огрызнулся нищий и рухнул в прошлогоднюю сушь.
Терёха зашёл в кусты, пошевелил нищего сперва ногой, потом рукой.
— Вставай, дуботряс! Идём, угощу тебя пивом. Может, под пивко сообразишь: своевременное выявление анти-шутов и анти-трикстеров может сыграть главную роль в предстоящей схватке за власть.
От мозговой натуги нищий лишь судорожно всхлипнул.
— Ты у нас кто? Полотёр? Бывший дворник? Монтёр?
— Писатель я, — снова захлюпал нищеброд, — прямо из народа произошёл. Печатался, книги на ярмарку в Минск возил. Зачем ты меня тронул? От жизни нашей я в безумие впал. И хорошо мне стало: ни тебе славянокоса, ни военных действий, ни заумных слов. Безумие для писателя, ох, как полезно! Ты зачем меня из сладкой дрёмы выволок? Зачем к обманчивому будущему толкаешь? Не хочу больше думать! Стал нищим — и делу конец!
Терёха растерялся, но потом крикнул:
— Где ж твоё социальное воображение? Или писатели теперь хуже дворников соображают? Но, если без дураков, — я и сам такой же…
Наклонившись, Пудов Терентий с лёгкой гадливостью, трижды поцеловал в грязную макушку писателя-нищеброда.
— А раз мы похожи — ты меня поймёшь! Ведь действия трикстера, по сути, подготовка общественного мнения к будущим преобразованиям. Вот почему больше всего историй о шутах и лицедеях припадает на переломные моменты земной жизни. Потянуло гарью, переломился век — трикстер-шутец тут как тут! Ехал на ярмарку трикстер-шутец, песню пропел про возможный конец! А? Чуешь, сынку, чем на Руси запахло?
— Жиринятина какая-то. Дай мне ещё стольник и вали домой. Там перед зеркалом и выступай.
Терёха дал нищеброду ещё пятисотку.
Уходя — уже пугливей, тише — продолжил себя уговаривать:
— Припозднился ты, Терёшечка, ох, припозднился! Надо было прошлой весной парад шутов устроить, а потом потихоньку готовить публику к военным действиям. Они ведь неизбежны были. Да, кажется, и не в земных штабах задуманы. Оно, конечно, война зло. Но не всегда и не всякая. Те, которые про мир индюками сейчас кулдычут — они-то как раз военную операцию и приблизили. Но так во все века было! И только когда переродится человек в летучее душе-тело или в шута нежно-воздушного — мир и война сами собой отпадут. Настанет иное существование, где мирвоенные воспоминания будут лишь смущённую улыбку вызывать.
Терёха встряхнулся, огляделся. Прохожих в переулке было мало, поэтому он смело крикнул в пустоту:
— Слышите, дуроломы? Мне теперь всё нипочём! Потому как я новый вид русского шута: сам себе царь, сам себе работник, сам себе богач, сам себе христарадник! И при всём при этом вы меня, дорогие сограждане, обожать будете. Несмотря на то, что я только поношениями всего, что вам мило и занимаюсь! И, в первую голову, неимущая интеллигенция меня полюбит. Вот и выходит: недаром сценку про Леонида Ильича влепил я в послезатрашнее шествие!
При слове «сценка» — Терёшечка замолчал и опомнился. Стыдно ему за разговоры с пустотой и писателем-побирушником стало. Крепко задумавшись, опустился он на гранит у скучающего по случаю отсутствия весны фонтана «Адам и Ева». Минуты три-четыре мотал головой из стороны в сторону как цирковой медведь. Кончив мотать, уставился на змея-искусителя, потом на Еву. А после — на выкатившееся за пределы фонтана, здоровенное «яблоко искушения».
«Змей, он, конечно, враг. Но когда змея нет, хорошо ли? Ладно ли? Говорил же Самохе: когда нет врага — врагом становится сама жизнь. Вот все от нашей жизни, нацепившей ежовые рукавицы, и попрятались. Даже черти под землёй тихо-смирно сидят…»
Оленьки дома не было. Пока готовил ужин, стал вспоминать, как растил подобранную в бандитской хавире девчушку. Как потихоньку, исподволь, готовил в классические актрисы. А про арену даже думать запрещал. С виду Оленька — тихая, бесшумная. И голос нежный. Но какая внутри — неясно. Над «стариком» — хоть Терентию Фомичу до шестидесяти ещё топать и топать — слегка подтрунивала. Оно и правильно. Ей-то и шестнадцати нет! Как про Оленьку раздумался, так впервые девчоночка домой ночевать и не пришла. «Лучше б не думал, пень корявый!..»
На следующий день стал искать. Обзвонил кого можно. Хотя знал точно: ничего с Оленькой не случилось. Вот только, куда ж это она запропастилась?
Стал смотреть у Оленьки на столе: нет ли записки? Записки не было. Полез в компец, тот не открылся. От безнадёги начал залезать во все шкафы подряд. Дошёл до своего, платяного. И тут внезапно вспомнил про маротту. Побежал в коридор: там шутовской жезл в уголку, за обувным шкафом всегда стоял.
Здесь-то и ждала Терёху неожиданность: маротты не было!
Принялся вспоминать и не сразу, но вспомнил: жезл шутовской остался в кафе, меж столиком и подоконником, куда сам его и пристроил.
Пудов обиделся сперва на себя, потом на Оленьку. Но быстро обиды забыл, обозвал себя индюком и немедленно вспомнил грека похожего на издёвочный маскарон, подмигнувший ему вчера со стены дома на Пятницкой улице:
«Как это у них, у греков? «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев»? Так Платон говорил? А шутяра Диоген, чтобы осмеять Платона, ощипал петуха, принес в школу философов и объявил: «Вот вам платоновский человек».
Вот я и забегу послезавтра на рынок, куплю даже не петуха: живого индюка, покрупнее! Прикажу ощипать и покажу во время шествия: «Вот вам, ощипанный миром, русский человек! Но это он сегодня такой ощипанный. А завтра… Завтра — взбодрится, окрепнет, предстанет во всей красе. Станут ноги его как столбы, руки, как молоты, шея нальётся силой, исчезнет зоб индюшачий, в голове посветлеет, мозг от шлаков освободится!»
Вечер удался: от хмурости Терёха резко перешёл к веселью. Самоха отирал слёзы счастья, обещая назавтра появиться здесь же, рядом, только в другом кафе.
— А послезавтра? Я ж говорил: послезавтра у нас — разрешённое шествие. День шута отмечать будем.
— Послезавтра – не знаю, получится ли? Прошёлся б я с вами, сценку по ходу дела слепил. Только не могу. За визой, ёксель-моксель, приехал. Ещё полгода назад подал. Завтра расскажу, что да как.
Обняв напоследок длиннющего Самоху чуть выше талии, двинул Терёха пешком в Замоскворечье, в обожаемые свои Толмачи.
Тут недоизложенные мысли его и настигли. Не сказал он Самохе главного! Не сказал, что сразу после парада шутов пробил-таки короткую встречу с правителем.
«Как русский трикстер буду с правителем говорить: дерзко, дальнозорко! Трикстер ведь — всегда посредник. Про это ещё старый клоун в Румянцевском твердил. Стало быть, выходит: трикстер, — а по-русски шутяра отмороженный — и есть перевозчик нашей земной тусы в небесную колыбель. Да, блин, верно! Не земля, а небо наша колыбель! И об этом правителю скажу. Потому что шутяра отмороженный, как ни крути, а должен помогать перевозить тайные знания из областей недостоверных, вроде Шамбалы, Беловодья, — в области достоверные, такие как: явь, белый свет, подлунный мир.
— А я-то сам при этом кто? Перевозчик? Посредник?.. Скорей — проводник. А, может, бегущий с пятками вперёд с фонарём в руках глашатай новой культуры? А чего? Шут — господин многих искусств, мастер на все руки, проверяющий на живучесть бритвой отточенного мастерства собственную силу и чужую власть. Ладно. Три дня — и всё решится. Тогда и станет ясно кто я: проводник или тупило!..
Вдруг мысль шута пресеклась. Не сразу сообразив в чём дело, Терёха ругнулся. И тут же увидел: держит он за лацкан пиджачка нищего с какой-то совершенно тюленьей рожей.
«Совсем, блин, заговорился», — снова обругал себя Терёха, а нищего вкрадчиво спросил:
— Значит, я аморален? — и себе же ответил, — по временам: да. Но иногда, наоборот — страшно морален! Что вообще они значат, моральность с аморальностью? — стал трясти он нищего за грудки, — по-моему, моральность и аморальность два конца шутовского жезла! Так? Нет?
Икая от непонимания, нищий согласно закивал, поддакнул.
Терёха дал нищему стольник, хотел идти дальше, но не удержался, заговорил опять:
— Вот стою столбом я на границе общества человеческого и сообщества небес и природы. И погорю на этом. Потому как, даже с твоей точки зрения — я туп, смешон и заранее приговорён к поражению. Короче. Ты смерти боишься?
— Б-б… Боюсь.
Рожа тюленья дрогнула, углы рта опустились едва не до шеи, волосики редкие торчащие вместо усов задрожали, — и тут же отступил побирушник от Терёхи на два шага.
— А вот для меня нет этих закорючек: была жизнь, настанет смерть. Для меня они идут рука об руку. Как две дуры-подружки случайно на стадион «Спартак» затесавшиеся. Гляди! Тесно прижались друг к дружке, идут плечом к плечу, — ищут свои места, согласно проданным билетам. А не находят! Так и я… Конечно, я со всеми этими мыслями могу заиграться, могу в яму рухнуть, могу себя перехитрить, как тот болван, что оскорбил Богоматерь и сам себе мимовольно отрезал нос. Понимаешь ты меня, умная голова?
— Понима… — ронял слюну нищий и, спрятав одну денежку, протягивал руку за другой.
— Ты пойми! Я тут по Москве копытами цокаю, выступаю одномоментно и как старый мудрый осёл, на котором Спаситель въезжал в Иерусалим, и как глуповатый юнец, которому осёл достался задаром, а распорядиться подарком он не смог.
Здесь Терёха спохватился, нищего от себя оттолкнул, взгрустнул. Но потом отёр выступивший на лбу цыганский холодный пот, протянул нищему ещё и пятисотку, взял его под локоток, поволок на скамейку, стал уже совсем ласково увещевать:
— Ну, сообрази ты, наконец! Твоя нищета — тебе подарок. Смех она и грех. Но она же дорога в рай. А бывает нищета другого рода: духовная. Вот, к примеру, господин-товарищ Ульянов-Ленин. Лежит себе в Мавзолее и на нас сквозь прозрачные для него стены хитро поглядывает, иногда — подмигивает… Так кто ж он после этого, если не шут, но только лишённый шутовской сердцевины! А Сталин? Тот, конечно, не шут. Тот — повелитель шутов. Многие вокруг него, забыв шутовское достоинство, клоунами-канатоходцами по натянутому верёвочкой пространству собственной жизни выступали. А Ленин, он всех…
Тут нищий внезапно взбодрился, не отходя от скамейки, вмиг поумнел, закричал петухом:
— Пространство им подавай! Антиллигенция вонючая! Пространство им!
Нищий скомкал одну из бумажек, сделал вид, что выбрасывает, но потом сунул пятисотку в карман и двинул в замоскворецкие дали. Но тут же свернул в рядом растущие кусты.
А Терёха всё кричал и кричал побирушнику в спину:
— Я не просто так с тобой говорю, дубина! Я к встрече с вершителем судеб готовлюсь. Укажу ему: кто рядом с ним анти-шут и кто анти-трикстер.
— Ещё и антихриста приплёл! — огрызнулся нищий и рухнул в прошлогоднюю сушь.
Терёха зашёл в кусты, пошевелил нищего сперва ногой, потом рукой.
— Вставай, дуботряс! Идём, угощу тебя пивом. Может, под пивко сообразишь: своевременное выявление анти-шутов и анти-трикстеров может сыграть главную роль в предстоящей схватке за власть.
От мозговой натуги нищий лишь судорожно всхлипнул.
— Ты у нас кто? Полотёр? Бывший дворник? Монтёр?
— Писатель я, — снова захлюпал нищеброд, — прямо из народа произошёл. Печатался, книги на ярмарку в Минск возил. Зачем ты меня тронул? От жизни нашей я в безумие впал. И хорошо мне стало: ни тебе славянокоса, ни военных действий, ни заумных слов. Безумие для писателя, ох, как полезно! Ты зачем меня из сладкой дрёмы выволок? Зачем к обманчивому будущему толкаешь? Не хочу больше думать! Стал нищим — и делу конец!
Терёха растерялся, но потом крикнул:
— Где ж твоё социальное воображение? Или писатели теперь хуже дворников соображают? Но, если без дураков, — я и сам такой же…
Наклонившись, Пудов Терентий с лёгкой гадливостью, трижды поцеловал в грязную макушку писателя-нищеброда.
— А раз мы похожи — ты меня поймёшь! Ведь действия трикстера, по сути, подготовка общественного мнения к будущим преобразованиям. Вот почему больше всего историй о шутах и лицедеях припадает на переломные моменты земной жизни. Потянуло гарью, переломился век — трикстер-шутец тут как тут! Ехал на ярмарку трикстер-шутец, песню пропел про возможный конец! А? Чуешь, сынку, чем на Руси запахло?
— Жиринятина какая-то. Дай мне ещё стольник и вали домой. Там перед зеркалом и выступай.
Терёха дал нищеброду ещё пятисотку.
Уходя — уже пугливей, тише — продолжил себя уговаривать:
— Припозднился ты, Терёшечка, ох, припозднился! Надо было прошлой весной парад шутов устроить, а потом потихоньку готовить публику к военным действиям. Они ведь неизбежны были. Да, кажется, и не в земных штабах задуманы. Оно, конечно, война зло. Но не всегда и не всякая. Те, которые про мир индюками сейчас кулдычут — они-то как раз военную операцию и приблизили. Но так во все века было! И только когда переродится человек в летучее душе-тело или в шута нежно-воздушного — мир и война сами собой отпадут. Настанет иное существование, где мирвоенные воспоминания будут лишь смущённую улыбку вызывать.
Терёха встряхнулся, огляделся. Прохожих в переулке было мало, поэтому он смело крикнул в пустоту:
— Слышите, дуроломы? Мне теперь всё нипочём! Потому как я новый вид русского шута: сам себе царь, сам себе работник, сам себе богач, сам себе христарадник! И при всём при этом вы меня, дорогие сограждане, обожать будете. Несмотря на то, что я только поношениями всего, что вам мило и занимаюсь! И, в первую голову, неимущая интеллигенция меня полюбит. Вот и выходит: недаром сценку про Леонида Ильича влепил я в послезатрашнее шествие!
При слове «сценка» — Терёшечка замолчал и опомнился. Стыдно ему за разговоры с пустотой и писателем-побирушником стало. Крепко задумавшись, опустился он на гранит у скучающего по случаю отсутствия весны фонтана «Адам и Ева». Минуты три-четыре мотал головой из стороны в сторону как цирковой медведь. Кончив мотать, уставился на змея-искусителя, потом на Еву. А после — на выкатившееся за пределы фонтана, здоровенное «яблоко искушения».
«Змей, он, конечно, враг. Но когда змея нет, хорошо ли? Ладно ли? Говорил же Самохе: когда нет врага — врагом становится сама жизнь. Вот все от нашей жизни, нацепившей ежовые рукавицы, и попрятались. Даже черти под землёй тихо-смирно сидят…»
Оленьки дома не было. Пока готовил ужин, стал вспоминать, как растил подобранную в бандитской хавире девчушку. Как потихоньку, исподволь, готовил в классические актрисы. А про арену даже думать запрещал. С виду Оленька — тихая, бесшумная. И голос нежный. Но какая внутри — неясно. Над «стариком» — хоть Терентию Фомичу до шестидесяти ещё топать и топать — слегка подтрунивала. Оно и правильно. Ей-то и шестнадцати нет! Как про Оленьку раздумался, так впервые девчоночка домой ночевать и не пришла. «Лучше б не думал, пень корявый!..»
На следующий день стал искать. Обзвонил кого можно. Хотя знал точно: ничего с Оленькой не случилось. Вот только, куда ж это она запропастилась?
Стал смотреть у Оленьки на столе: нет ли записки? Записки не было. Полез в компец, тот не открылся. От безнадёги начал залезать во все шкафы подряд. Дошёл до своего, платяного. И тут внезапно вспомнил про маротту. Побежал в коридор: там шутовской жезл в уголку, за обувным шкафом всегда стоял.
Здесь-то и ждала Терёху неожиданность: маротты не было!
Принялся вспоминать и не сразу, но вспомнил: жезл шутовской остался в кафе, меж столиком и подоконником, куда сам его и пристроил.
Пудов обиделся сперва на себя, потом на Оленьку. Но быстро обиды забыл, обозвал себя индюком и немедленно вспомнил грека похожего на издёвочный маскарон, подмигнувший ему вчера со стены дома на Пятницкой улице:
«Как это у них, у греков? «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев»? Так Платон говорил? А шутяра Диоген, чтобы осмеять Платона, ощипал петуха, принес в школу философов и объявил: «Вот вам платоновский человек».
Вот я и забегу послезавтра на рынок, куплю даже не петуха: живого индюка, покрупнее! Прикажу ощипать и покажу во время шествия: «Вот вам, ощипанный миром, русский человек! Но это он сегодня такой ощипанный. А завтра… Завтра — взбодрится, окрепнет, предстанет во всей красе. Станут ноги его как столбы, руки, как молоты, шея нальётся силой, исчезнет зоб индюшачий, в голове посветлеет, мозг от шлаков освободится!»
Похождения Маротты
Забытый в кафе шутовской жезл с набалдашником за время отсутствия хозяина перебывал в руках разных. Одни гладили, другие подбрасывали и причмокивали языком, третьи, вроде случайно, роняли на пол. Палка, однако, не ломалась, навершие в виде головы шута с высунутым языком оставалось целым-целёхонько…
Жезл оставался всё тем же. Люди менялись. Ближе к вечеру дошла очередь до старичка-коллекционера. Ценитель эротических ваз, поднял палку, потрогал её в разных местах и вдруг обмер: «Елизаветинская! Побей меня Бог — времён Елизавет Петровны!»
От прихлынувших чувств старичок перегнулся через столик к незнакомой женщине, стал торопливо рассказывать:
— Маротта! И годков ей едва ли не триста! А всё как новенькая… Слыхал я историю про такую вот маротту, а правильней сказать — про шутовской жезл. Был жезл изготовлен на заказ и подарен Елизавет Петровне одним разбогатевшим шутом, — продолжал захлёбываться от коллекционной страсти старичок, — будущая царица жила в молодые годы тихо, скромно и подаркам радовалась, как дитя. Она-то первая — знавшая по-итальянски — и объявила своей свите: «Сей жезл шутовской мароттой зовётся…»
Женщина, сидевшая напротив старичка, снисходительно улыбнулась. Мол: мели Емеля, твоя неделя.
— В молодые годы в обществе Елизавет Петровна показывалась редко, но все ж являясь по временам на балы и куртаги, блистала красотой и невиданным дотоле резным жезлом поигрывала. Когда китайскому послу, первый раз приехавшему в Петербург в 1734 году, задали вопрос, кого он находит прелестней из всех женщин, он прямо указал на Елизавету. И спросил: что за палка в руках у Петровой дочери?
— Заместо талисмана цесаревне Елизавет Петровне сей жезл, — ответствовали китайцу.
По описанию жены английского посланника, леди Рондо, часто видевшей цесаревну вблизи, у Елизаветы были превосходные каштановые волосы, выразительные голубые глаза, здоровые зубы, манящие уста. Говаривали, правда: «чувствуются, ох, чувствуются в ней неловкости воспитания!» Но, как бы там ни было, превосходно говорила она по-французски, знала по-немецки, изящно танцевала, часто бывала игрива, всегда весела и в разговорах занимательна. В раннем отрочестве, в молодости и даже в зрелом возрасте поражала всех красотой. Роскошные волосы, не убитые по тогдашней моде густой пудрой, спускались по плечам локонами, перевитыми цветами. И уж совсем неподражаема была цесаревна в русской пляске, которой в часы веселья забавлялась со своими шутами и шутихами. А жезл шутовской носила она с собой не только во время маскарадов и плясок. И однажды произошёл с ней престранный случай. На одной из весенних прогулок, — продолжал частить старичок, — в сельце своём родовом, в Коломенском, шутя ткнула она жезлом одного из придворных. Тот в Голосов овраг и свалился. Спустились вниз. Думали, раз не отзывается — покалечился. А придворного и след простыл. Искали-искали, да так и не нашли. Хотела Елизавет Петровна с досады жезл поломать или выкинуть, да жалко стало, привыкла. А про придворного всех убедила: убежал от стыда, оттого что в овраг свалился. Хоть и шепнули сразу на ушко цесаревне: не свалился — сквозь землю провалился!
Но только Елизавета — как и отец её — во всякие необъяснимые явления верила слабо.
Каково же было её потрясение, когда через десять лет пропавший придворный явился к ней — тогда уже императрице — ободранный, босой, измождённый! Как тот немтырь, попытался что-то жестами изъяснить:
— У-а… У! Дес-с… Десять лет… под землёй… царица… Прости… Сон… Из смертного сна палка твоя… меня выковыряла… Сюда указала и… и…
Тут придворный упал и навеки смолк. Его унесли, а императрица ушла к себе и, поцеловав на прощанье маротту, отдала её с глаз долой на сохранение церемонщику.
— Боюсь, укажет жезл и мне, куда идти, как дальше жить-существовать. Я его не послушаюсь, потом жалеть буду, а потом и вовсе худо мне станет. Пускай лучше у тебя в сохранности пребывает!
Церемонщик, поклонившись, маротту унёс.
Как сказала царица — так оно и вышло. В час горлового кровотечения, в час роковой, час гибельный, не оказалось у царицы под рукой шутовского жезла, чтобы до знающего лекаря или хотя б до знахаря достучаться...
Старичок с вьющимися пиявочками волос за ушами, во время рассказа всё хватался рукой за сердце. Так за́ сердце и держась, протёр жезл салфеточкой, поцеловал его, а после ударился лбом о деревянную столешницу и затих.
Старичка увезла скорая.
И тут ухватила жезл мягкая, холёная, вздрогнувшая от внезапно вскипевшей страсти рука, с удлинённой кистью и музыкальными пальцами.
Вдруг палка дёрнулась и острым своим подбородком женщину уколола.
Та очнулась, хрипло выдохнула: «Это в благодарность?» — заказала ещё соточку коньяку и теперь уже с отвращением, откинув палку, как дрова, ногой хрипло рассмеялась.
Близилась ночь. Мысли внутри жезла теперь едва потрескивали: деревянные, прямодушные, плоские — но всё-таки они были, были! Конечно, не полнообъёмные мысли, а так — краткие обрывки, скупые отклики древесной сердцевины, на людские прикосновенья и подкидыванья.
Чуть позже жезлу почудилось: впадает он в сонное оцепенение. Это когда взял его в руки амбал с выплеснутым сердцем и развороченной левой скулой.
Здесь сразу — недолгий путь в сортир. Там человек в синей форме и синюшной, в цвет формы, мордуленцией, ища тайник или стилет, попытался отвинтить, а на худой конец отломать головку с высунутым языком. Убедившись, что палка цельная, амбал плюнул с досады на пол, но всё же вернул вещь на место, в угол кафе, где взял.
Ничего лучше деревянной жизни в мире не было, и нет! Потому-то и устремились деревянные мысли в южнорусскую рощу, где растёт колхидский самшит и где однорукое кустарниковое дерево уже не одну сотню лет силится заново прирастить срезанную когда-то ветвь.
Под кустистым деревом, бережно поглаживая свою безволосую, дынно-жёлтую голову, сидел и плакал абрек. Не умея признаться себе в том, что его бесстыдно и навсегда бросила лыткастая девка, он, качаясь из стороны в сторону, тихонько постанывал, вспоминая, как уезжала эта стерва на север, и ясней ясного понимал: девчонок вокруг много, а не нужны они разбойнику, потому что купить он может всякую, а любить может только одну. Ну, в крайнем разе — двух-трёх.
Дыня мужской головы с узко прорезанными в толстой корке глазами и кое-как налепленными на веки ресницами, чуть вздрагивала. Но это оттого лишь, что таинственно и загадочно содрогалась вокруг сухая земля: жизни в абрековой голове давно не было…
Самшитовый лес бесследно исчез. Побежала мимо река. Воды́ шутовской жезл всегда жутко боялся. Даже огонь его так не страшил. Смерть в огне — радость! А воды боялся потому, что мерещился ему зацеп за корягу, быстрый относ в какую-то гниль и цвель, в погибельное стоячее болото.
Жезлу нужно было замереть, затаиться, спрятать свою, шумящую сизой деревянной кровью живинку, напрягшуюся после того, как завладела им хмельная женщина. А там — будь что будет!
Внезапно за палку, разом, с двух концов, схватились двое.
— Тросточка антикварная, в скупку отнесу!
— Лучше я профессору подарю, он ей собак отгонять будет.
— Дай сюда, ботаник!
— Вали отсюда.
— Тогда — получи!
Пока двое тут же, близ кафе, катались по асфальту, можно было передохнуть, полежать спокойно.
Хозяин за палкой не возвращался. Предстояла ночь: может, грозящая жезлу огнём и гнилой водой, может, последняя. Но, возможно, и вполне себе тихая, спокойная.
Забытый в кафе шутовской жезл с набалдашником за время отсутствия хозяина перебывал в руках разных. Одни гладили, другие подбрасывали и причмокивали языком, третьи, вроде случайно, роняли на пол. Палка, однако, не ломалась, навершие в виде головы шута с высунутым языком оставалось целым-целёхонько…
Жезл оставался всё тем же. Люди менялись. Ближе к вечеру дошла очередь до старичка-коллекционера. Ценитель эротических ваз, поднял палку, потрогал её в разных местах и вдруг обмер: «Елизаветинская! Побей меня Бог — времён Елизавет Петровны!»
От прихлынувших чувств старичок перегнулся через столик к незнакомой женщине, стал торопливо рассказывать:
— Маротта! И годков ей едва ли не триста! А всё как новенькая… Слыхал я историю про такую вот маротту, а правильней сказать — про шутовской жезл. Был жезл изготовлен на заказ и подарен Елизавет Петровне одним разбогатевшим шутом, — продолжал захлёбываться от коллекционной страсти старичок, — будущая царица жила в молодые годы тихо, скромно и подаркам радовалась, как дитя. Она-то первая — знавшая по-итальянски — и объявила своей свите: «Сей жезл шутовской мароттой зовётся…»
Женщина, сидевшая напротив старичка, снисходительно улыбнулась. Мол: мели Емеля, твоя неделя.
— В молодые годы в обществе Елизавет Петровна показывалась редко, но все ж являясь по временам на балы и куртаги, блистала красотой и невиданным дотоле резным жезлом поигрывала. Когда китайскому послу, первый раз приехавшему в Петербург в 1734 году, задали вопрос, кого он находит прелестней из всех женщин, он прямо указал на Елизавету. И спросил: что за палка в руках у Петровой дочери?
— Заместо талисмана цесаревне Елизавет Петровне сей жезл, — ответствовали китайцу.
По описанию жены английского посланника, леди Рондо, часто видевшей цесаревну вблизи, у Елизаветы были превосходные каштановые волосы, выразительные голубые глаза, здоровые зубы, манящие уста. Говаривали, правда: «чувствуются, ох, чувствуются в ней неловкости воспитания!» Но, как бы там ни было, превосходно говорила она по-французски, знала по-немецки, изящно танцевала, часто бывала игрива, всегда весела и в разговорах занимательна. В раннем отрочестве, в молодости и даже в зрелом возрасте поражала всех красотой. Роскошные волосы, не убитые по тогдашней моде густой пудрой, спускались по плечам локонами, перевитыми цветами. И уж совсем неподражаема была цесаревна в русской пляске, которой в часы веселья забавлялась со своими шутами и шутихами. А жезл шутовской носила она с собой не только во время маскарадов и плясок. И однажды произошёл с ней престранный случай. На одной из весенних прогулок, — продолжал частить старичок, — в сельце своём родовом, в Коломенском, шутя ткнула она жезлом одного из придворных. Тот в Голосов овраг и свалился. Спустились вниз. Думали, раз не отзывается — покалечился. А придворного и след простыл. Искали-искали, да так и не нашли. Хотела Елизавет Петровна с досады жезл поломать или выкинуть, да жалко стало, привыкла. А про придворного всех убедила: убежал от стыда, оттого что в овраг свалился. Хоть и шепнули сразу на ушко цесаревне: не свалился — сквозь землю провалился!
Но только Елизавета — как и отец её — во всякие необъяснимые явления верила слабо.
Каково же было её потрясение, когда через десять лет пропавший придворный явился к ней — тогда уже императрице — ободранный, босой, измождённый! Как тот немтырь, попытался что-то жестами изъяснить:
— У-а… У! Дес-с… Десять лет… под землёй… царица… Прости… Сон… Из смертного сна палка твоя… меня выковыряла… Сюда указала и… и…
Тут придворный упал и навеки смолк. Его унесли, а императрица ушла к себе и, поцеловав на прощанье маротту, отдала её с глаз долой на сохранение церемонщику.
— Боюсь, укажет жезл и мне, куда идти, как дальше жить-существовать. Я его не послушаюсь, потом жалеть буду, а потом и вовсе худо мне станет. Пускай лучше у тебя в сохранности пребывает!
Церемонщик, поклонившись, маротту унёс.
Как сказала царица — так оно и вышло. В час горлового кровотечения, в час роковой, час гибельный, не оказалось у царицы под рукой шутовского жезла, чтобы до знающего лекаря или хотя б до знахаря достучаться...
Старичок с вьющимися пиявочками волос за ушами, во время рассказа всё хватался рукой за сердце. Так за́ сердце и держась, протёр жезл салфеточкой, поцеловал его, а после ударился лбом о деревянную столешницу и затих.
Старичка увезла скорая.
И тут ухватила жезл мягкая, холёная, вздрогнувшая от внезапно вскипевшей страсти рука, с удлинённой кистью и музыкальными пальцами.
Вдруг палка дёрнулась и острым своим подбородком женщину уколола.
Та очнулась, хрипло выдохнула: «Это в благодарность?» — заказала ещё соточку коньяку и теперь уже с отвращением, откинув палку, как дрова, ногой хрипло рассмеялась.
Близилась ночь. Мысли внутри жезла теперь едва потрескивали: деревянные, прямодушные, плоские — но всё-таки они были, были! Конечно, не полнообъёмные мысли, а так — краткие обрывки, скупые отклики древесной сердцевины, на людские прикосновенья и подкидыванья.
Чуть позже жезлу почудилось: впадает он в сонное оцепенение. Это когда взял его в руки амбал с выплеснутым сердцем и развороченной левой скулой.
Здесь сразу — недолгий путь в сортир. Там человек в синей форме и синюшной, в цвет формы, мордуленцией, ища тайник или стилет, попытался отвинтить, а на худой конец отломать головку с высунутым языком. Убедившись, что палка цельная, амбал плюнул с досады на пол, но всё же вернул вещь на место, в угол кафе, где взял.
Ничего лучше деревянной жизни в мире не было, и нет! Потому-то и устремились деревянные мысли в южнорусскую рощу, где растёт колхидский самшит и где однорукое кустарниковое дерево уже не одну сотню лет силится заново прирастить срезанную когда-то ветвь.
Под кустистым деревом, бережно поглаживая свою безволосую, дынно-жёлтую голову, сидел и плакал абрек. Не умея признаться себе в том, что его бесстыдно и навсегда бросила лыткастая девка, он, качаясь из стороны в сторону, тихонько постанывал, вспоминая, как уезжала эта стерва на север, и ясней ясного понимал: девчонок вокруг много, а не нужны они разбойнику, потому что купить он может всякую, а любить может только одну. Ну, в крайнем разе — двух-трёх.
Дыня мужской головы с узко прорезанными в толстой корке глазами и кое-как налепленными на веки ресницами, чуть вздрагивала. Но это оттого лишь, что таинственно и загадочно содрогалась вокруг сухая земля: жизни в абрековой голове давно не было…
Самшитовый лес бесследно исчез. Побежала мимо река. Воды́ шутовской жезл всегда жутко боялся. Даже огонь его так не страшил. Смерть в огне — радость! А воды боялся потому, что мерещился ему зацеп за корягу, быстрый относ в какую-то гниль и цвель, в погибельное стоячее болото.
Жезлу нужно было замереть, затаиться, спрятать свою, шумящую сизой деревянной кровью живинку, напрягшуюся после того, как завладела им хмельная женщина. А там — будь что будет!
Внезапно за палку, разом, с двух концов, схватились двое.
— Тросточка антикварная, в скупку отнесу!
— Лучше я профессору подарю, он ей собак отгонять будет.
— Дай сюда, ботаник!
— Вали отсюда.
— Тогда — получи!
Пока двое тут же, близ кафе, катались по асфальту, можно было передохнуть, полежать спокойно.
Хозяин за палкой не возвращался. Предстояла ночь: может, грозящая жезлу огнём и гнилой водой, может, последняя. Но, возможно, и вполне себе тихая, спокойная.
Паутинщик Як
От поисков Оленьки и пропажи шутовского жезла, жизнь завертелась кубарем.
Вдруг припомнилось: Оленька дружит по переписке с блогером Яком. Она когда-то так его и назвала: Як. Терёха — в Инет. Стал уточнять. Выяснилось — Якуб. Тут, ненароком увидав себя со стороны, вздрогнул: шут за компом — это что-то новое.
Словно бы подчёркивая грубый клоунизм всего происходящего, неожиданно выяснилось: Якуб в переводе просто пятка. Или — держащий за пятку.
«Ну, паразит! Ну, Пятка! Сейчас ты у меня пополам треснешь!»
Но тут же после угроз, Пудов Терентий, словно бы расстегнув молнию на шутовской, крепко приросшей к нему шкуре, мигом шкуру эту сбросил, стал беззащитно-кровоточащим человеком, и кинулся к Якубу-Пятке, благо жил тот в доме напротив.
На звонки — ноль внимания. Толкнул дверь. Та нехотя поддалась.
Блогер ёрзал перед компом на стуле. По такому случаю, Терёха, хотел было выдать смешинку. Но сам себя осёк.
На толчки и крики блогер не реагировал. Пришлось придавить за горло:
— Где Оленька, дубина?
— Отстань, дед. Не видишь? В чат-гейме я.
— Тебя по паспорту как зовут?
— Мммм… не помню.
Пришлось сдавить горло сильней.
— Теперь вспомнил?
— Ну, Пятка.
— Это я уже знаю. По паспорту как?
— Ну, Пятка Иваныч. А чё?
— Да ничё. Ты даже не Пятка. Ты трещина на пятке! Причём трещина паутиной затянутая.
— Папа с мамой, типа, Якубом звали.
— Оленька где? Говори, Трещина, а то компец вырублю.
— Отстань, дед!
— Я отстану, я сейчас так отстану…
— Ладно-ладно. У Толстуна она. Отойди от стола, укушу.
Тут, однако, мысль Пяточная увернула в сторону.
«Откуда дед этот взялся? Трещиной обозвал... Но вообще-то из Трещины здоровский ник может вылупиться. «У микрофона — Трещина». А дед весёлый. Но до тошноты реальный. Она, жизнь реальная, только мешает. К чёрту её! А чё? Так и раньше было. Старичьё нас мутузит, а сами со времён мутно-Серебряного века в тыщу раз глупей себя ведут…
— …слышь? Тебя спрашивают?—тряс Пудов блогера и готов был снова вцепиться ему в горло, — вылезай из своих чатов! Где Толстуна искать?
— В сети, конечно. Ты, дед, в кишках у «ишака» поройся.
— В каких кишках? В каком «ишаке»?
— Ну, в Интернете поползай. Найдёшь.
— Ну, всё. Получи!
— Ладно-ладно. Короче: они с твоей Ойкой в цирковой общаге. Тёрки трут. Флуд гонят. Или типа того.
— Какая Ойка? Какой флуд?
— Тёрки, наверное, про любофф. А флуд – это пустогон. Ну, пустословие, по-вашему. Ойка — кликуха сетевая. Верняк — вдвоём в сети залогинились. А раз так застрянут дня на три…
— Молчи, паутина липучая.
— Я не паутина, я паук-к-к-к-к-к-к!
— Молчи! А то выставлю за окно.
— И чё? У меня, дед, второй этаж… Всё, молчу, молчу. По мне — так даже лучше. Свои слова и мысли – только жить мешают. В сети за тебя всё обдумают, всё скажут. А ты только успевай пасть раскрывать — хав-хав, хав-хав…
Пудов Терентий оббежал гнездо Паутинщика глазами. Такой захламлённости и такого разора даже у бандосов не встречал.
Отвесив Пятке на всякий случай внушительный подзатыльник, поехал в цирковую общагу. По дороге думал про отход нынешнего цирка от реальности в надуманные программы. «Нужно цирк набить под завязочку жизнью сегодняшней, всамделишной. А то бурьяном порос. Одна неподвижность. Только медведей и попуг по-старому мучают…»
От поисков Оленьки и пропажи шутовского жезла, жизнь завертелась кубарем.
Вдруг припомнилось: Оленька дружит по переписке с блогером Яком. Она когда-то так его и назвала: Як. Терёха — в Инет. Стал уточнять. Выяснилось — Якуб. Тут, ненароком увидав себя со стороны, вздрогнул: шут за компом — это что-то новое.
Словно бы подчёркивая грубый клоунизм всего происходящего, неожиданно выяснилось: Якуб в переводе просто пятка. Или — держащий за пятку.
«Ну, паразит! Ну, Пятка! Сейчас ты у меня пополам треснешь!»
Но тут же после угроз, Пудов Терентий, словно бы расстегнув молнию на шутовской, крепко приросшей к нему шкуре, мигом шкуру эту сбросил, стал беззащитно-кровоточащим человеком, и кинулся к Якубу-Пятке, благо жил тот в доме напротив.
На звонки — ноль внимания. Толкнул дверь. Та нехотя поддалась.
Блогер ёрзал перед компом на стуле. По такому случаю, Терёха, хотел было выдать смешинку. Но сам себя осёк.
На толчки и крики блогер не реагировал. Пришлось придавить за горло:
— Где Оленька, дубина?
— Отстань, дед. Не видишь? В чат-гейме я.
— Тебя по паспорту как зовут?
— Мммм… не помню.
Пришлось сдавить горло сильней.
— Теперь вспомнил?
— Ну, Пятка.
— Это я уже знаю. По паспорту как?
— Ну, Пятка Иваныч. А чё?
— Да ничё. Ты даже не Пятка. Ты трещина на пятке! Причём трещина паутиной затянутая.
— Папа с мамой, типа, Якубом звали.
— Оленька где? Говори, Трещина, а то компец вырублю.
— Отстань, дед!
— Я отстану, я сейчас так отстану…
— Ладно-ладно. У Толстуна она. Отойди от стола, укушу.
Тут, однако, мысль Пяточная увернула в сторону.
«Откуда дед этот взялся? Трещиной обозвал... Но вообще-то из Трещины здоровский ник может вылупиться. «У микрофона — Трещина». А дед весёлый. Но до тошноты реальный. Она, жизнь реальная, только мешает. К чёрту её! А чё? Так и раньше было. Старичьё нас мутузит, а сами со времён мутно-Серебряного века в тыщу раз глупей себя ведут…
— …слышь? Тебя спрашивают?—тряс Пудов блогера и готов был снова вцепиться ему в горло, — вылезай из своих чатов! Где Толстуна искать?
— В сети, конечно. Ты, дед, в кишках у «ишака» поройся.
— В каких кишках? В каком «ишаке»?
— Ну, в Интернете поползай. Найдёшь.
— Ну, всё. Получи!
— Ладно-ладно. Короче: они с твоей Ойкой в цирковой общаге. Тёрки трут. Флуд гонят. Или типа того.
— Какая Ойка? Какой флуд?
— Тёрки, наверное, про любофф. А флуд – это пустогон. Ну, пустословие, по-вашему. Ойка — кликуха сетевая. Верняк — вдвоём в сети залогинились. А раз так застрянут дня на три…
— Молчи, паутина липучая.
— Я не паутина, я паук-к-к-к-к-к-к!
— Молчи! А то выставлю за окно.
— И чё? У меня, дед, второй этаж… Всё, молчу, молчу. По мне — так даже лучше. Свои слова и мысли – только жить мешают. В сети за тебя всё обдумают, всё скажут. А ты только успевай пасть раскрывать — хав-хав, хав-хав…
Пудов Терентий оббежал гнездо Паутинщика глазами. Такой захламлённости и такого разора даже у бандосов не встречал.
Отвесив Пятке на всякий случай внушительный подзатыльник, поехал в цирковую общагу. По дороге думал про отход нынешнего цирка от реальности в надуманные программы. «Нужно цирк набить под завязочку жизнью сегодняшней, всамделишной. А то бурьяном порос. Одна неподвижность. Только медведей и попуг по-старому мучают…»
На коленях у Толстуна
Оленька нашлась быстро. Сидела, весёлая, на коленях у Толстуна (видел его как-то в Новом цирке). Толстун, — голова, как макитра с крышкой, щёки бурые, твёрдые, изрисованные жилками, нос и губы над лицом особо не выступающие, скорее вдавленные – сладко рыкал и закатывал глазки.
«Тут подзатыльником не обойтись».
Выставив Оленьку вон, Пудов Терентий сквозь плотно закрытую дверь слышал её скулёж. Чуть позже через дверь она даже покрикивать стала:
— Он меня в цирк возьмёт! Ты же знаешь! Такие как я девушки лишь для насилия годятся. Вот и заступлюсь сама за себя. Стану ловкой и сильной… Циркачкой стану-у-у…
Вдруг Оленька зарыдала.
— А когда стану сильной — опять никому не нужна буду-у… Мужики любят нежных и мягких. Сильные циркачки им ни к чему. А ты, Терентий Фомич, старый дурак, и ни на что не годен!
— Много ты про мужиков знаешь! — кричал Оленьке через дверь Пудов.
А сам, подобравшись к Толстуну вплотную, крепко защемлял, а потом, не спеша, отворачивал в сторону, — как урки поступают с голубями, — толстуновские яички. Боль и ужас от умелой, почти фокусной работы, сковали на миг Толстуна по рукам и ногам. А вслед за болью нахлынуло на него беспамятство…
Терентий Фомич забрал Оленьку домой. Но она — почти сразу же — свалила к Варюхе.
Варюха-горюха, ещё несовершеннолетняя, но развитая, как былой социализм, якшалась с разносчиками пиццы, паутинщиками и ещё чёрт знает с кем, постоянно.
«Тут, — понял Терентий, — тоже беда». Забрал Оленьку и от подруги.
Варюха-горюха Терентию вслед показала кукиш из-под колена.
В тот же день, зайдя перед встречей с Самохой во вчерашнее кафе, изъял Пудов теперь очутившийся за стойкой бара, шутовской жезл. Головка уцелела, остро-выставленный язычок — тоже. Правда, какая-то сволочь попыталась вырезать на жезле то ли имя, то ли крик поганой душонки. Но, видать, помешали. И вырезать удалось только слог: «Лю…»
Оленька нашлась быстро. Сидела, весёлая, на коленях у Толстуна (видел его как-то в Новом цирке). Толстун, — голова, как макитра с крышкой, щёки бурые, твёрдые, изрисованные жилками, нос и губы над лицом особо не выступающие, скорее вдавленные – сладко рыкал и закатывал глазки.
«Тут подзатыльником не обойтись».
Выставив Оленьку вон, Пудов Терентий сквозь плотно закрытую дверь слышал её скулёж. Чуть позже через дверь она даже покрикивать стала:
— Он меня в цирк возьмёт! Ты же знаешь! Такие как я девушки лишь для насилия годятся. Вот и заступлюсь сама за себя. Стану ловкой и сильной… Циркачкой стану-у-у…
Вдруг Оленька зарыдала.
— А когда стану сильной — опять никому не нужна буду-у… Мужики любят нежных и мягких. Сильные циркачки им ни к чему. А ты, Терентий Фомич, старый дурак, и ни на что не годен!
— Много ты про мужиков знаешь! — кричал Оленьке через дверь Пудов.
А сам, подобравшись к Толстуну вплотную, крепко защемлял, а потом, не спеша, отворачивал в сторону, — как урки поступают с голубями, — толстуновские яички. Боль и ужас от умелой, почти фокусной работы, сковали на миг Толстуна по рукам и ногам. А вслед за болью нахлынуло на него беспамятство…
Терентий Фомич забрал Оленьку домой. Но она — почти сразу же — свалила к Варюхе.
Варюха-горюха, ещё несовершеннолетняя, но развитая, как былой социализм, якшалась с разносчиками пиццы, паутинщиками и ещё чёрт знает с кем, постоянно.
«Тут, — понял Терентий, — тоже беда». Забрал Оленьку и от подруги.
Варюха-горюха Терентию вслед показала кукиш из-под колена.
В тот же день, зайдя перед встречей с Самохой во вчерашнее кафе, изъял Пудов теперь очутившийся за стойкой бара, шутовской жезл. Головка уцелела, остро-выставленный язычок — тоже. Правда, какая-то сволочь попыталась вырезать на жезле то ли имя, то ли крик поганой душонки. Но, видать, помешали. И вырезать удалось только слог: «Лю…»
Блоха человеческая
Тем же вечером, но уже в кафе соседнем, Самоха подробно рассказал Терёшечке про историю Гавайских островов, про коварство былых туземцев, а ныне справных океанических «мериканцев», и, ясен пень, про речку Дон и шустрого аптекаря Шеффера. Чуть взгрустнув, добавил:
— Улетаю, Фомич. Визу-то я получил. А главное — продолжаю слышать зов укулеле! Будешь у нас на островах — попляшем-посмеёмся под бандуру гавайскую. Через Шанхай, «Аэрофлотом» лечу. Прямо в Гонопупу: бултых — и в океан! Такой вот музыкальный водоплеск может со мной приключиться. А уж в Гонопупу…
— Гонолулу, дурашка.
— Поучи меня. Сказано Гонопупу, значит, Гонопупу. Могу, ради тебя, ещё только на Гонолупу сменить. Но лучше — «пупу». Я это слово так издалека на рекламном щите прочитал. Такой вот «пупой» и сидит во мне городишко гавайский. Ну, и ко всему — родственничек далёкий там обнаружился. С ним не пропаду: что ты, что ты, что ты…
— А денежки?
— Я дачу продал, на полёт и на чуток пожить — хватит.
— А потом чего?
— Ну, может, на гавайянке женюсь. Моей-то Люськи давно нету. Или передвижной кукло-цирк им устрою. Русскую удаль должны там помнить. Может, опять в состав России Гавайский архипелаг полностью или хоть парой-тройкой островов запросится. Вот и буду туда-сюда летать, депеши секретные развозить. А в перерывах правителей пародировать. Глядишь, под пальмами, с укулелькой на коленях, и сам чаще лыбиться стану…
В общих чертах про «скачущую блоху» — так по подсказке какого-то музыковеда переводил Самоха название укулеле — грустный шут рассказывал и раньше. Но теперь перешёл к деталям: хвалил укулельские жильные струны, металлические узорные колки, показывал, как перед игрой обстукивает нижнюю и верхнюю деки: нет ли трещин?
Потом, горячась и вскакивая на шаткие длинные ноги, опять начинал рассказывать историю про удачливо-неудачливого капитан-аптекаря…
Терёха про себя чертыхался. Назавтра — парад шутов. Самохе бы во главе колонны идти! С рыбьим хвостом, в короне. А он про толстогубых гавайянок и смутный зов распатякивает.
Уговоры, однако, не помогли. Зов есть зов.
И укатил Самоха в город Во, за музыкальным ананасом и пожитками, чтобы с ними вернуться в Москву, потом на самолёт — и в Гонопупу!
И привиделась в ту же ночь Терёхе пляшущая блоха.
Ростом блоха вымахала не ниже Самохи. Одета — в куцую курточку, звёздно-полосатые бермуды и спецназовские ботинки-берцы, из которых тонюсенькие шерстистые лапки торчат. Говорила блоха по-человечески, иногда вставляя непонятныеслова.
Сперва блоха принялась жаловаться на всех без разбору, а потом прочитала Терёхе по-блошиному скачущую — с пятого на десятое — лекцию. Начала блоха торжественно.
— Мать моя была женщина, а отец — блошиный паук! Через них я и стала блохой человеческой. И учти: я не блоха — ха-ха. Я блоха — ого-го! Всё, что надо для продолжения рода, имею. Только не хочу я род продлевать. Сама хочу жить вечно, а все иные-прочие пусть хоть завтра передохнут! Поэтому, перед лицом вечности не совру тебе ни словечка, а исполню гавайский танец и лекцию по гавайеведению прочту. Так что – стынь и глохни! И учти: я из Гонопупу сюда не просто так на корабельной собаке переехала и тут у вас, на дрожжах российских, взошла. И ещё неизвестно кем завтра стану.
— Кем же блоха может стать? Только мокрым местом.
— Не дождёшься! Мы, блохи, вас в дальний угол задвинем и все человеческие высокие места займём. Поэтому слушай про мои родные Гавайи, вдруг тебя когда-нибудь туда вышлют… Так вот. Когда гавайские имена и предметы отлились в письменную форму, – продолжила блоха уже строже, — многие из них оказались далеки от разговорного варианта. К примеру, Honoruru превратился в Honolulu. Сечёшь? Язык изменился доне́льзя! А тут ещё 1893 году, гавайская народная монархия медным тазом накрылась. И вскоре на 90% белое правительство, вообще запретило говорить, обучать и даже мычать на гавайском языке в гос. школах. Хамское вытеснение языка продолжалось аж до второй половины ХХ века. Но! Несмотря на беспредел правительства, гавайский язык никуда не исчез. Правда, число говорящих на нем сократилось до пяти-шести тысяч.
— Всё, блоха! Кончай, свои лекции.
— И не мечтай, недомерок! Раньше времени не кончу. И знаешь почему? Потому что Гавайи чуть российскими не стали. Поэтому слушай, балбес! Вот тебе на заметку: остров Ниихау — единственная территория в мире, на которой гавайский язык — основной. Соответственно английский — иностранный. Народец ниихау говорит страшно быстро, опуская почти все гласные и целые слоги. Примерно так: «Трх — кргл дрк». Что означает: Терёха — круглый дурак. Ты вообще понимаешь, скотина ты этакая, что гавайский язык является аналитическим, а народ ниихау может оказаться полностью пророссийским? А ты, подлец, ни языка, ни создаваемой им дополнительной музыки жизни, не понимаешь, — от обиды и неутолённой жажды похвал, вдруг заговорила блоха журчливым Самохиным голосом.
— Это ж какая такая в нашей жизни дополнительная музыка есть?
— А такая, — даже подпрыгнула блоха от глупости человеческой, — звук жизни есть у каждого из вас, только не всяк дурак звук этот слышит.
— А всяк умный, тот, значит, слышит?
— А умных звук вообще не колышет. Да и нет почти среди вас умных.
— Ну и какой же, к примеру, у меня звук жизни?
— А высокий, самолётный. Свистишь ты всю дорогу своим соплом, репризки направо-налево раскидываешь. Вот звук сопла и стал для тебя основным. Он тебя вдаль уносит, а умишком своим ты в цирке вонючем застрял. Ну и вот тебе напоследок: вылетишь ты с этим сопельным звуком в трубу. Или вообще его утеряешь и с позором окочуришься!
— Глупости городишь, блоха человеческая.
— Мать моя была женщина! Кто бы про глупости чавкал. Вот я посмотрю, куда тебя завтра сопло свистящее вынесет! Тогда уж точно запоёшь: не блоха — ха-ха, а Терёх — ох-ох!
Тем же вечером, но уже в кафе соседнем, Самоха подробно рассказал Терёшечке про историю Гавайских островов, про коварство былых туземцев, а ныне справных океанических «мериканцев», и, ясен пень, про речку Дон и шустрого аптекаря Шеффера. Чуть взгрустнув, добавил:
— Улетаю, Фомич. Визу-то я получил. А главное — продолжаю слышать зов укулеле! Будешь у нас на островах — попляшем-посмеёмся под бандуру гавайскую. Через Шанхай, «Аэрофлотом» лечу. Прямо в Гонопупу: бултых — и в океан! Такой вот музыкальный водоплеск может со мной приключиться. А уж в Гонопупу…
— Гонолулу, дурашка.
— Поучи меня. Сказано Гонопупу, значит, Гонопупу. Могу, ради тебя, ещё только на Гонолупу сменить. Но лучше — «пупу». Я это слово так издалека на рекламном щите прочитал. Такой вот «пупой» и сидит во мне городишко гавайский. Ну, и ко всему — родственничек далёкий там обнаружился. С ним не пропаду: что ты, что ты, что ты…
— А денежки?
— Я дачу продал, на полёт и на чуток пожить — хватит.
— А потом чего?
— Ну, может, на гавайянке женюсь. Моей-то Люськи давно нету. Или передвижной кукло-цирк им устрою. Русскую удаль должны там помнить. Может, опять в состав России Гавайский архипелаг полностью или хоть парой-тройкой островов запросится. Вот и буду туда-сюда летать, депеши секретные развозить. А в перерывах правителей пародировать. Глядишь, под пальмами, с укулелькой на коленях, и сам чаще лыбиться стану…
В общих чертах про «скачущую блоху» — так по подсказке какого-то музыковеда переводил Самоха название укулеле — грустный шут рассказывал и раньше. Но теперь перешёл к деталям: хвалил укулельские жильные струны, металлические узорные колки, показывал, как перед игрой обстукивает нижнюю и верхнюю деки: нет ли трещин?
Потом, горячась и вскакивая на шаткие длинные ноги, опять начинал рассказывать историю про удачливо-неудачливого капитан-аптекаря…
Терёха про себя чертыхался. Назавтра — парад шутов. Самохе бы во главе колонны идти! С рыбьим хвостом, в короне. А он про толстогубых гавайянок и смутный зов распатякивает.
Уговоры, однако, не помогли. Зов есть зов.
И укатил Самоха в город Во, за музыкальным ананасом и пожитками, чтобы с ними вернуться в Москву, потом на самолёт — и в Гонопупу!
И привиделась в ту же ночь Терёхе пляшущая блоха.
Ростом блоха вымахала не ниже Самохи. Одета — в куцую курточку, звёздно-полосатые бермуды и спецназовские ботинки-берцы, из которых тонюсенькие шерстистые лапки торчат. Говорила блоха по-человечески, иногда вставляя непонятныеслова.
Сперва блоха принялась жаловаться на всех без разбору, а потом прочитала Терёхе по-блошиному скачущую — с пятого на десятое — лекцию. Начала блоха торжественно.
— Мать моя была женщина, а отец — блошиный паук! Через них я и стала блохой человеческой. И учти: я не блоха — ха-ха. Я блоха — ого-го! Всё, что надо для продолжения рода, имею. Только не хочу я род продлевать. Сама хочу жить вечно, а все иные-прочие пусть хоть завтра передохнут! Поэтому, перед лицом вечности не совру тебе ни словечка, а исполню гавайский танец и лекцию по гавайеведению прочту. Так что – стынь и глохни! И учти: я из Гонопупу сюда не просто так на корабельной собаке переехала и тут у вас, на дрожжах российских, взошла. И ещё неизвестно кем завтра стану.
— Кем же блоха может стать? Только мокрым местом.
— Не дождёшься! Мы, блохи, вас в дальний угол задвинем и все человеческие высокие места займём. Поэтому слушай про мои родные Гавайи, вдруг тебя когда-нибудь туда вышлют… Так вот. Когда гавайские имена и предметы отлились в письменную форму, – продолжила блоха уже строже, — многие из них оказались далеки от разговорного варианта. К примеру, Honoruru превратился в Honolulu. Сечёшь? Язык изменился доне́льзя! А тут ещё 1893 году, гавайская народная монархия медным тазом накрылась. И вскоре на 90% белое правительство, вообще запретило говорить, обучать и даже мычать на гавайском языке в гос. школах. Хамское вытеснение языка продолжалось аж до второй половины ХХ века. Но! Несмотря на беспредел правительства, гавайский язык никуда не исчез. Правда, число говорящих на нем сократилось до пяти-шести тысяч.
— Всё, блоха! Кончай, свои лекции.
— И не мечтай, недомерок! Раньше времени не кончу. И знаешь почему? Потому что Гавайи чуть российскими не стали. Поэтому слушай, балбес! Вот тебе на заметку: остров Ниихау — единственная территория в мире, на которой гавайский язык — основной. Соответственно английский — иностранный. Народец ниихау говорит страшно быстро, опуская почти все гласные и целые слоги. Примерно так: «Трх — кргл дрк». Что означает: Терёха — круглый дурак. Ты вообще понимаешь, скотина ты этакая, что гавайский язык является аналитическим, а народ ниихау может оказаться полностью пророссийским? А ты, подлец, ни языка, ни создаваемой им дополнительной музыки жизни, не понимаешь, — от обиды и неутолённой жажды похвал, вдруг заговорила блоха журчливым Самохиным голосом.
— Это ж какая такая в нашей жизни дополнительная музыка есть?
— А такая, — даже подпрыгнула блоха от глупости человеческой, — звук жизни есть у каждого из вас, только не всяк дурак звук этот слышит.
— А всяк умный, тот, значит, слышит?
— А умных звук вообще не колышет. Да и нет почти среди вас умных.
— Ну и какой же, к примеру, у меня звук жизни?
— А высокий, самолётный. Свистишь ты всю дорогу своим соплом, репризки направо-налево раскидываешь. Вот звук сопла и стал для тебя основным. Он тебя вдаль уносит, а умишком своим ты в цирке вонючем застрял. Ну и вот тебе напоследок: вылетишь ты с этим сопельным звуком в трубу. Или вообще его утеряешь и с позором окочуришься!
— Глупости городишь, блоха человеческая.
— Мать моя была женщина! Кто бы про глупости чавкал. Вот я посмотрю, куда тебя завтра сопло свистящее вынесет! Тогда уж точно запоёшь: не блоха — ха-ха, а Терёх — ох-ох!
Варюха-горюха
Крашенная-перекрашенная, снаружи чуть грубоватая, но внутри чутко-ранимая, безнадежно несовершеннолетняя и от этого по временам тоскующая, Варюха-горюха сперва наблюдала за Оленькой и Терентием Фомичом со смехом, потом с удивлением, после с досадой и под конец — с восхищением!
Подростково-родительская жизнь Терентия Фомича и Оленьки представлялась Варюхе в смешных и грубых тонах. Не в смысле домогательств: знала точно — такого нет и быть не может. А в смысле телесной смехотворности: Оленька куколка высоко-стройная, с глянцевым личиком и вкрадчивой повадкой — Фомич диспластик-малорослик: скачущий, как на пружинках, гибкий-прегибкий, но при этом какой-то недотёсанный. Когда вместе идут — смех разбирает…
Про диспластиков Варюхе в кружке «Ранних физиологических отношений» разъяснили: диспластики — люди, у которых в соединительной ткани есть офигенные отклонения от нормы.
— Настоящих диспластиков, конечно, маловато. Просто-таки с воробьиный нос — вразумлял Варюху на индивидуальном собеседовании, препод ранних физиологических отношений. — Ты вот, к примеру, можешь себя узлом завязать?
— А-а.
— Ну, то-то же. А они могут, да ещё как! Они, чёрт бы их побрал, такие гибкие, что легко способны, не сгибая колен, достать локтями до пола. И пальцы на руках у них отводятся от ладони сторону не на сорок пять, а на все сто восемьдесят градусов! А ноги диспластики могут обкрутить одну об другую так, что у тебя, Варюха, глаза на лоб от удивления полезут.
— Обалдайс полный, — сказала в ответ Варюха и, не прощаясь, ушла.
Посещать «эрфэушки» — уроки ранних физиологических отношений — она бросила быстро: во дворе разъясняли предметней и проще.
Освободив часть мозга от «эрфэушек», стала Варюха-горюха снова наблюдать за Оленькой и Фомичом: без всякой задней мысли, а так, с некоторой завистью и лёгким томлением — родители Горюхины погибли в аварии, когда ей было шесть лет, вот и наблюдала.
Крашенная-перекрашенная, снаружи чуть грубоватая, но внутри чутко-ранимая, безнадежно несовершеннолетняя и от этого по временам тоскующая, Варюха-горюха сперва наблюдала за Оленькой и Терентием Фомичом со смехом, потом с удивлением, после с досадой и под конец — с восхищением!
Подростково-родительская жизнь Терентия Фомича и Оленьки представлялась Варюхе в смешных и грубых тонах. Не в смысле домогательств: знала точно — такого нет и быть не может. А в смысле телесной смехотворности: Оленька куколка высоко-стройная, с глянцевым личиком и вкрадчивой повадкой — Фомич диспластик-малорослик: скачущий, как на пружинках, гибкий-прегибкий, но при этом какой-то недотёсанный. Когда вместе идут — смех разбирает…
Про диспластиков Варюхе в кружке «Ранних физиологических отношений» разъяснили: диспластики — люди, у которых в соединительной ткани есть офигенные отклонения от нормы.
— Настоящих диспластиков, конечно, маловато. Просто-таки с воробьиный нос — вразумлял Варюху на индивидуальном собеседовании, препод ранних физиологических отношений. — Ты вот, к примеру, можешь себя узлом завязать?
— А-а.
— Ну, то-то же. А они могут, да ещё как! Они, чёрт бы их побрал, такие гибкие, что легко способны, не сгибая колен, достать локтями до пола. И пальцы на руках у них отводятся от ладони сторону не на сорок пять, а на все сто восемьдесят градусов! А ноги диспластики могут обкрутить одну об другую так, что у тебя, Варюха, глаза на лоб от удивления полезут.
— Обалдайс полный, — сказала в ответ Варюха и, не прощаясь, ушла.
Посещать «эрфэушки» — уроки ранних физиологических отношений — она бросила быстро: во дворе разъясняли предметней и проще.
Освободив часть мозга от «эрфэушек», стала Варюха-горюха снова наблюдать за Оленькой и Фомичом: без всякой задней мысли, а так, с некоторой завистью и лёгким томлением — родители Горюхины погибли в аварии, когда ей было шесть лет, вот и наблюдала.
Жестокий наив
21 марта, в День шута, после проверки реквизита, рупоров, самокатов, ходулей и других праздничных приспособлений, сложенных в двух флигелях прямо у истока будущего шествия, проделав путь от метро «Спортивной» до центра, шёл себе и шёл Терёха московскими сквозными дворами и переулками. Шёл и размышлял, как быть с Оленькой.
После ухода от Варюхи, в дому у Терёхи просидела Оленька ровно один вечер: наутро исчезла опять. Правда, на этот раз записку оставила:
«Папулёк. Не серчай! К цирку я всё равно прибьюсь. Ты и сам когда-то его обожал. Ну, и я такая же».
Устав размышлять об Оленьке, Терёха стал уточнять шёпотком цели-задачи шествия шутов и обалдуев.
«У нас сегодня кроме прочего — де-монстрация! — вразумлял себя Терёха, — развенчание и речевое уничтожение шутов-монстров. Вот одна из целей. Таких монстриков и монстрят и сейчас, и раньше, — хоть задницей ешь. Ещё одна цель – прославление шутов-мудрецов, шутов-поэтов. Их тоже немало. Выведение шутовства из низовой культуры и возведение на высокий престол — вот задачка так задачка! На какой престол? На престол нового искусства, конечно! Но и это не главное. А что? А то! Главное дать властям почувствовать: новая шутовская сила явилась! Её не надо подкупать или осыпать грантами. А нужно постоянно беседовать с этой силой и лучшими её представителями. Вот и буду на самокате вдоль шествия туда-сюда сновать, шутовскую силу сквозь рупор проталкивать…»
Прервав высокие мысли, стал прокачивать Терёха в голове основные коленца сегодняшнего дневного выступления перед подростками.
И выходило: вполне успеет он отстреляться до трёх часов дня, когда был назначен согласованный с мэрией «Парад Шутов», или как презрительно обозвали его в средне-высоких кабинетах: «Шествие дуроломов».
— А ещё важно сегодня понять: кто и зачем следит за моими делами…
Терёха уже почти подошёл к «Театру подростковой книги», куда его почтительно пригласили три дня назад. Настроен был по-детски наивно. Прикидывал, как расскажет ребятам: есть, мол, такая работа и такая пожизненная роль. По-европейски — трикстер, по-русски — шут. Потом покажет шутовской жезл, споёт пару песенок, репризы посмешней выдаст. А напоследок, расскажет про ораторианца, — по-русски «речетворца» — ХVII века Филиппа Нери, признанного позже святым, хоть и не нашей церковью, а всё же.
Ещё изобразит в лицах, как новые способы работы с прихожанами отца Филиппа доводили римских иерархов до рвотного спазма. Потому как невыносимо раздражало их странное поведение священника. «Зачем?» Вопрошали, крючась и вздрагивая, иерархи. «На кой чёрт нам этот флорентиец? На кой, нескончаемые призывы к радости, кусачие издёвки и весёлые пародии в проповедях, частое переодевание в шутовские наряды, с опасной целью высмеять манеры влиятельных римлян…»
А потом и русское шутовство изобразит в речах и ухватках. И явится перед подростками княжеский сын Осип Гвоздь, пробежит на цырлах карлик Яким Волков, вслед за братьями Прозоровскими скрипичный шут Педрилло на одной ноге проскачет…
От всех этих, вскипевших разом мыслей, в одном из переулков он даже приостановился.
Тут из-за поворота как раз и вывернулся, и шажком мелким подступил, сухо-задроченный противник всякой власти Базиль Дергач.
И оказалось: ничуть Базиль на позавчерашние насмешки в кафе не обиделся.
Поэтому, без всяких предисловий стал он рисовать то мрачные, то осветляемые зарубежными приветами, картинки будущего российского житья-бытья.
У Терёхи при ходьбе свои картинки непрерывно возникали. Поэтому, трепотню Базиля слушал он вполуха. Мнилась Терёшечке в эти минуты полная мудрых шутов и развесёлых униформистов, сияющая цирковыми огнями Москва. Беспечальность кругом и приятный галдёж. Шутки, приколы, ласковые подковырки! Но, правда, здесь же и суровые порицания: зачем шуты смиренных чинуш, на осиянных прожекторами площадях Москвы до костей пробирают?
Здесь будущий променад шутов предстал перед Терёхой как на ладони! Впереди, конечно, княжеский сын, Осип Гвоздь. Был актёр-Гвоздь высок и строен, но слегка дураковат. Это печалило, а только лучшего исполнителя на роль Гвоздя не нашлось. За недоработку Терёха себя грыз и грыз: «Шут одна из важнейших позиций в государстве! А ты оглоблю тупую на главную роль взял. А ведь шут в России это ещё и выряженный в цветные одёжки юрод! Юроды, конечно, ближе к церковному раскладу. Раскладу, как воздух необходимому, но чуть в стороне от жизни нынешней разместившемуся. Иное дело связка — царь и шут! Царь делами повседневными ведает. Шут тайных знаний полон. Царь указами злобу дня распрямляет. Шут неведо́мкою в будущее пробирается. Такая вот неразлучная упряжка человеческая: шут и царь, царь и шут! Сказанное шутами порой жестоким наивом или непролазной ересью кажется. Шуты обескураживают, обливают грязью. Но как только их речи схлынут — суть этих речей колючими кристалликами в крови оседает. Да так в стенки сосудов въедается, что ни один царский указ те кристаллики не разрушит! Потому-то цари, шутами попользовавшись, часто налетали на них, как безумцы. Шуты, ясень пень, отшучивались. Но не всегда удачно. Истины жёсткие, истины ранящие, некоторые из шутов с риском для жизни возглашали. Жестокими были и царские ответы…»
Шли дворами. Лёгкими чаинками летела сажа от непогашенного «заробитчанами» строительного костра. Базиль Дергач хватал и хватал Терёху за рукав, тормошил, обзывал по-всякому. Шут, однако, на Дергачёвы наскоки и ухом не вёл. Только однажды, приложив палец к губам, проговорил: «Расслабимся на минуту». И тут же усевшись на горбатую, утыканную иссохшими прошлогодними цветами клумбу, сомкнул Терёха веки.
21 марта, в День шута, после проверки реквизита, рупоров, самокатов, ходулей и других праздничных приспособлений, сложенных в двух флигелях прямо у истока будущего шествия, проделав путь от метро «Спортивной» до центра, шёл себе и шёл Терёха московскими сквозными дворами и переулками. Шёл и размышлял, как быть с Оленькой.
После ухода от Варюхи, в дому у Терёхи просидела Оленька ровно один вечер: наутро исчезла опять. Правда, на этот раз записку оставила:
«Папулёк. Не серчай! К цирку я всё равно прибьюсь. Ты и сам когда-то его обожал. Ну, и я такая же».
Устав размышлять об Оленьке, Терёха стал уточнять шёпотком цели-задачи шествия шутов и обалдуев.
«У нас сегодня кроме прочего — де-монстрация! — вразумлял себя Терёха, — развенчание и речевое уничтожение шутов-монстров. Вот одна из целей. Таких монстриков и монстрят и сейчас, и раньше, — хоть задницей ешь. Ещё одна цель – прославление шутов-мудрецов, шутов-поэтов. Их тоже немало. Выведение шутовства из низовой культуры и возведение на высокий престол — вот задачка так задачка! На какой престол? На престол нового искусства, конечно! Но и это не главное. А что? А то! Главное дать властям почувствовать: новая шутовская сила явилась! Её не надо подкупать или осыпать грантами. А нужно постоянно беседовать с этой силой и лучшими её представителями. Вот и буду на самокате вдоль шествия туда-сюда сновать, шутовскую силу сквозь рупор проталкивать…»
Прервав высокие мысли, стал прокачивать Терёха в голове основные коленца сегодняшнего дневного выступления перед подростками.
И выходило: вполне успеет он отстреляться до трёх часов дня, когда был назначен согласованный с мэрией «Парад Шутов», или как презрительно обозвали его в средне-высоких кабинетах: «Шествие дуроломов».
— А ещё важно сегодня понять: кто и зачем следит за моими делами…
Терёха уже почти подошёл к «Театру подростковой книги», куда его почтительно пригласили три дня назад. Настроен был по-детски наивно. Прикидывал, как расскажет ребятам: есть, мол, такая работа и такая пожизненная роль. По-европейски — трикстер, по-русски — шут. Потом покажет шутовской жезл, споёт пару песенок, репризы посмешней выдаст. А напоследок, расскажет про ораторианца, — по-русски «речетворца» — ХVII века Филиппа Нери, признанного позже святым, хоть и не нашей церковью, а всё же.
Ещё изобразит в лицах, как новые способы работы с прихожанами отца Филиппа доводили римских иерархов до рвотного спазма. Потому как невыносимо раздражало их странное поведение священника. «Зачем?» Вопрошали, крючась и вздрагивая, иерархи. «На кой чёрт нам этот флорентиец? На кой, нескончаемые призывы к радости, кусачие издёвки и весёлые пародии в проповедях, частое переодевание в шутовские наряды, с опасной целью высмеять манеры влиятельных римлян…»
А потом и русское шутовство изобразит в речах и ухватках. И явится перед подростками княжеский сын Осип Гвоздь, пробежит на цырлах карлик Яким Волков, вслед за братьями Прозоровскими скрипичный шут Педрилло на одной ноге проскачет…
От всех этих, вскипевших разом мыслей, в одном из переулков он даже приостановился.
Тут из-за поворота как раз и вывернулся, и шажком мелким подступил, сухо-задроченный противник всякой власти Базиль Дергач.
И оказалось: ничуть Базиль на позавчерашние насмешки в кафе не обиделся.
Поэтому, без всяких предисловий стал он рисовать то мрачные, то осветляемые зарубежными приветами, картинки будущего российского житья-бытья.
У Терёхи при ходьбе свои картинки непрерывно возникали. Поэтому, трепотню Базиля слушал он вполуха. Мнилась Терёшечке в эти минуты полная мудрых шутов и развесёлых униформистов, сияющая цирковыми огнями Москва. Беспечальность кругом и приятный галдёж. Шутки, приколы, ласковые подковырки! Но, правда, здесь же и суровые порицания: зачем шуты смиренных чинуш, на осиянных прожекторами площадях Москвы до костей пробирают?
Здесь будущий променад шутов предстал перед Терёхой как на ладони! Впереди, конечно, княжеский сын, Осип Гвоздь. Был актёр-Гвоздь высок и строен, но слегка дураковат. Это печалило, а только лучшего исполнителя на роль Гвоздя не нашлось. За недоработку Терёха себя грыз и грыз: «Шут одна из важнейших позиций в государстве! А ты оглоблю тупую на главную роль взял. А ведь шут в России это ещё и выряженный в цветные одёжки юрод! Юроды, конечно, ближе к церковному раскладу. Раскладу, как воздух необходимому, но чуть в стороне от жизни нынешней разместившемуся. Иное дело связка — царь и шут! Царь делами повседневными ведает. Шут тайных знаний полон. Царь указами злобу дня распрямляет. Шут неведо́мкою в будущее пробирается. Такая вот неразлучная упряжка человеческая: шут и царь, царь и шут! Сказанное шутами порой жестоким наивом или непролазной ересью кажется. Шуты обескураживают, обливают грязью. Но как только их речи схлынут — суть этих речей колючими кристалликами в крови оседает. Да так в стенки сосудов въедается, что ни один царский указ те кристаллики не разрушит! Потому-то цари, шутами попользовавшись, часто налетали на них, как безумцы. Шуты, ясень пень, отшучивались. Но не всегда удачно. Истины жёсткие, истины ранящие, некоторые из шутов с риском для жизни возглашали. Жестокими были и царские ответы…»
Шли дворами. Лёгкими чаинками летела сажа от непогашенного «заробитчанами» строительного костра. Базиль Дергач хватал и хватал Терёху за рукав, тормошил, обзывал по-всякому. Шут, однако, на Дергачёвы наскоки и ухом не вёл. Только однажды, приложив палец к губам, проговорил: «Расслабимся на минуту». И тут же усевшись на горбатую, утыканную иссохшими прошлогодними цветами клумбу, сомкнул Терёха веки.
Шут на престоле. Осип Гвоздь
На аспидном быке, в золочёных ризах, покачивая головой в трёхверхом колпаке с ослиными ушами и едва слышно позванивая серебряными бубенцами, впереди царя и трёх сотен пеших стрельцов, ехал княжеский сын Осип Гвоздь, уже несколько лет как определённый царём в шуты.
Перед Кремлёвскими палатами царь шута обогнал, завидущие слуги резко Осипа с быка ссадили, смеху ради сбили наземь колпак, содрали золотые облачения. Стрельцы – кроме караульных — разошлись по своим слободам: кто в Толмачи, кто в Кадаши, кто в Земляной город.
— Быка на бойню, — кратко распорядился царь Иван.
Время текло к застолице.
У себя в низенькой опочивальне, царь с урчанием и треском дал храпака. А Гвоздь, сперва разлёгшийся на кошме у царских дверей, томясь неясностью, встал. Мерно переступая негнущимися верблюжьими ногами в тонких сиреневых чулках, чуть покачивая острозатылочной головой с примятым лицом и огромным по-лягушачьи прорезанным ртом, подошёл он к выложенным цветными кусочками окнам, засмотрелся на одну из пробегавших мимо купеческих дочерей.
И захотелось внезапно Осипу жизни простой, не шутейной, пусть даже не княжеской, пусть купеческой, но зато спокойной!
Вздох, две-три пекучих слезинки, слизанных далеко выставленным языком, и снова: жаркая кошма, ожидание чего-то небывалого, и сладко-звенящая жуть в ответ.
А следом за жутью — утробный хохот!..
За трапезой царь был то громогласен, то гнетуще тих. Но глаза-то глаза! Тёмным весельем, как у ловчей, почуявшей добычу птицы, они сверкали.
У Гвоздя мигом свело кишки: знал он этот взгляд царский, знал. Ищет государь в кого бы лють свою соколью коготком острым вонзить!
Тут царь Иван словно бы в нутро Осипово проник, резким словом Гвоздя к столу пригнул:
— Што смолк, шутец? Небось кишка кишке кукиш кажет?
— Про быка закланного думаю. Съешь ты его сегодня целиком, али паха и хвост до завтрего вымачивать станешь?
Государь не то, чтобы засмеялся, а как-то хмыкнул. Может и со злорадством, может, и одобрительно: этого Гвоздь не понял.
Тогда шут решил огоньку добавить:
— Што за диво языком щёлкать? Ты попробуй на быке печёном проехаться. Садись, не боись! Взгляни на улицу. Видишь? Стоит бык печёный, в заду у быка — чеснок толчёный. С одного боку режь, а с другого макай да ешь. А как наешься сыт — взберёшься на быка, но будешь сбит. А коль снова на быка взберёшься — дуралеем вдругорядь назовёшься.
— И назовёмся, и поедим, и порежем, — негромко вымолвил царь и снова поворотился к столу.
После жирной стерльяжьей ухи, поднял государь серебряную братинку и, мерно расставляя слова, — будто порядок их забыл, — возгласил:
— За родственника моего дражайшего. За римского кесаря, богоподобного Августа. Упокой, Господь, безвинную душу его.
Осип, набравший в рот горячей ухи, поперхнулся.
— Смеёшься, шутяра? Мне, кесарю, не веришь?
— Я-то верю! Верю ис-с-стово! — аж взвизгнул, ошпарившийся изнутри жирной ухой шутец, — а вот бык печёный тот сумлевается. Слышь, как ревёт, словно бы дождь приманывает? А ещё — августовского сенца просит. Да где взять? Далече царь Август и сенцо его тож. Далёк и сам Рим. И высок к тому ж. Рази плевком его достану?
Слитным комочком плюнул Гвоздь вверх и слюну свою ловко на ладошку поймал. Кто-то из царских подлипал реготнул сытно.
— Плевать? У меня за столом — плевать!?
— Да ведь не просто плюю. К твоим плевкам готовлюсь. Их, их со сладостью глотать буду!
— Слово — не плевок. А ты! Ты у меня…
Царь Иван вскочил, но тут же сел, задумался, стих. Затем обронил негромко:
— Ладно. Дураку и Бог простит.
Выдохнув облегченно, сел на пол и княжеский сын.
Но тут же накатило на него недоумение, а следом — обволок неясный трепет.
Серо-бурой бесшумной караморой метнулась и зависла над княжеским сыном смертная тень. Он её, вялую, её некусачую, почуял, как чуют в солнечный день внезапно лёгшую на плечи прохладу. Но тут же, состроив обезьянью рожу, — какую подсмотрел в царском зверинце в Алевизовом рву, — от смертной истомы отмахнулся.
Скорченная обезьянья рожа теснотою своей телесной натолкнула на воспоминания…
Третьего дня затеял он с государем шутейную игру. Правда, только спервоначалу была та игра шутейной. И не хотел княжеский сын про игру толковать, а выпалил. Выпалил, а уж потом понял: давным-давно те слова горлянку ему царапают.
Завелась же игра вот с чего: уж минул год, как стал шут Гвоздь про себя знать – завидует он царю Ивану. Подло и жестоко завидует!
«И как не позавидовать? Сущий ведь «татарин», а туда же: в цари пробрался, с кесарем Августом себя без конца равняет. Меня, природного Рюриковича шутом вырядил, над родом нашим древним, родом Приимковых-Гвоздевых надсмехается».
С того памятного дня стали шутки Осиповы ядрёней, злоехидней. И ведь словцо «ядрёней» не просто так внутри порыкивало: ядрами тяжкими, ядрами калёными стали с недавних пор в утробе шутки перекатываться. Да вот беда — применения тем ядрам не было! Верней, применение быть могло, но худое: позволить словесам ядрёным разворотить нутро, а уж после — из живота медленно выкатиться!
Теперь, правда, плёлся год прошедший где-то далеко позади. А, что касаемо последней недели — низкой шквалистой тучей над шутом она висела: уж слишком едко и гневно стал измываться он над царём Иваном. Тот отчего-то терпел. Сам же Осип объяснял государю издёвки тем, что новую игру затевает.
— Поиграем, осударь, ох, поиграем!
В минуты отдыха от мыслей воинских, поиграть царь Иван хоть и нехотя, а соглашался. Правда, смотрел при этом на Гвоздя, как бы к чему-то примеряясь, с прищуром смотрел и загадочно. Иногда негромко, но так чтобы окружающие слышали, приговаривал:
— Как лягва широкорот. Как расстрига жидкобород. Затылок острый. Голова на шейке хлипкой едва держится. Откуда только мыслишки в голове такой берутся? Вот бы в рот заглянуть поглубже: не чёрный ли волос из нёба у шута прёт? Ругатель ведь — почище меня самого. А ума — недалёкого.
— Я-то умён, да мир дурак, — подлаживаясь к царевым словам, едва слышно, отвечал Осип...
Третьего дня собрался-таки с духом: предложил царю Ивану шутовской монастырь основать.
— У того-то монастыря все ступени должны быть златые, а стены — чёрные. Ворота бычьей желчью надобно густо смазать, пороги гвоздями острыми утыкать.
Царь Иван на такие слова отвечать не стал, хмурясь, смолчал.
Тогда Гвоздь — сперва вкрадчиво, осторожно, а потом смелей, раскатистей — завёл речь про монахов и монашенок.
— Да прикажи в монастыре том мужском и женском, монахам быть в шутовских одеждах, с колокольцами и стручками гороховыми в связках вокруг шей. А монашенкам прикажи не Богу служить, а твоей и моей крайней плоти. Всем, кроме одной. Эту одну для особого посмеяния держать будем. На вороную кобылу посадим, тело белое для запоминания ещё разок обсмотрим, катюгу с кнутом за кобылой пустим и, пока вкруг монастыря та кобыла объедет, должно тело монашенки стать чёрно-красным. А опосля объезда, позадь монашенки два чёрта должны на кобылу усесться. То-то смеху будет!
— Что в чертях-то смешного, дурачина!
— Так ить это твои собственные, верноподданные черти будут. И пускай будут они красными, как раки варёные. Мы с тобой и возгласим: мол, только-только в аду, в казане огромном их сварили и к нам сюда для необходимой надобности доставили. Черти похрустывать кожуркой станут, красным рачьим покровом дураков к себе приманывать начнут!
Здесь царь Иван вместо смеху рассерчал не на шутку.
— Так это игра такая, или взаправду подпихиваешь меня монастырь с чертями-раками основать?
— Может, взаправду, а может, и понарошку. Как знать, осударь? Я ить и назад и вперёд глядеть силу имею. Вот и вижу впереди: певчие на небесах по тебе панихиду шутейно справляют. А на кремлёвской площади — наоборот — народец прутьями пушку твою сечёт. Вижу ещё и другое: 2000 невест во дворец к тебе доставляют. И по наущению дохтура Бомелия ты мочу одной из девиц в стакане из гутного стекла рассматриваешь. А шут – не я, не я, другой! — от такого просмотра за портьерой смехом давится. И ещё много чего вижу. Да только от такого подглядыванья за прошедшим и будущим злость меня аж до костей пробирает. Потому как чую: солоно мне от шутовской моей дерзости придётся. Но опосля — вроде сладко станет. А у тебя всё шиворот-навыворот получится: сперва сладко, а потом, целую бочку прогорклого житья-бытья выхлебать тебе придётся.
Царь Иван ещё пуще нахмурился, шут приметил, заскакал, запрыгал на одной ноге:
— Вру, вру! Всё вру! А вру оттого, что подличаю. А ты, ясный наш полумесяц, ты завсегда одну правду молвить изволишь.
Царь Иван, услыхав про полумесяц, намёка не понял, нежно, как девушка, зарделся.
Видя перемену, Гвоздь осмелел:
— А что, ежели игру покруче затеять? На кой чёрт нам в монастыре остолопиться? Лучше престолами поменяемся. Смеху-то будет, смеху! Я денька три-четыре на Царском месте посижу, а ты рядком на кошме уляжешься. И престол шутовской тебе близ кошмы соорудим.
— Што за престол такой шутовской?
— А лубяной престол. И на том лубяном престоле, вместо царя — горшок ночной в виде медной лохани выситься будет. Горшок вместо царя! Животики надорвёшь от смеха! А потом сядешь ты на тот горшок, что нужно справишь, освободишься, наконец, от царской тяжести, и на мой престол из чистого злата, камнями драгоценными утыканный, исподтишка поглядывать станешь.
— На твой престол поглядывать? Так ли я понял?
— Снизу, снизу, шутяра ты этакий, поглядывать будешь! Да смотри, не засиживайся долго на медной лохани! Сделав дело — вставай, бегай, сокочи сорокой, кричи курой, смеши меня до упаду!
— До упаду, говоришь? Мы ж ещё толком не договорились, а ты меня, государя, уже шутом кличешь, на медную лохань сажаешь.
— Так это потому, что боюсь, не согласишься ты. А теперь, когда я тебя именем таким окликнул — ты уже прямой шут и есть. И хорошо, и смешно мне от этого, истинный Бог. Чаю, и тебе, шут Иван, смешно до усерачки будет.
— Чтой-то сегодня не рассмешил ты меня, шут Осип. Под шкуркой смеха твоего — иное чуется! Шут на престоле — боль и погибель. Даже на час — шут на престоле страшен. Да и что станешь ты на троне делать? Какие указы подписывать? Ещё обделаешься от страха!
— Истинно, истинно так. Всенепременно обделаюсь! А ты, бывший царь Иван, бздо моё обонять будешь и, глазки зажмуря, зачнёшь твердить, как и я твердил в прошлом годе: «Корицей и мёдом запахло! Корицей и мёдом, да как сладко!..» Тем часом дело важнецкое я сотворю: вновь чужеземцев призову, они вам зальют сала под кожу, заставят в пост обмочить хвост! Вот тогда — не будь я лягушкин сын — по-старокняжески заживём. Каждый князь опять сам себе хозяин будет. Больше княжеств – больше хмельного веселья. Регот, гогот, пырсканье и умора вокруг! Пырская и регоча, мы тебя в бочку как раз и законопатим, и вниз по речке по Копытовке спустим. Станешь ты трубить из той бочки в отводную трубу, словно падший ангел в толщу вод загнанный. Народ на берег высыплет, кривляясь, провожать тебя станет! Навсегда, насовсемушки! Вот смеху-то будет, ёк-макарёк!
Царь Иван от картины такой стал бледен и словно бы закаменел на месте. Только щека от гнева подёргивалась.
— Что замер, как еврашка у норки? Смешно ведь! Смейся, царь, уводи душу от гнева и печали!
— Кому смешно, — а кому и горе от смеха такого приключиться может.
Чуя, что перебрал, Осип вдруг присел на корточки, растянул рот пальцами до ушей, потом заквакал, запрыгал лягвой.
Здесь государь, наконец, рассмеялся, и, не проронив более ни слова, удалился.
Было это третьего дня, было на реке Скалбе, в селе Братовщине, в загородном царском владении.
Ну, а в день нынешний, после езды на быке и тревожного почивания, явился Гвоздь, как и положено в царскую трапезную шутом послушным, ко всему готовым.
Выставляться не стал: присмотрелся, прислушался. Царь не весел был, а и не зол, про то, что предлагал ему Гвоздь третьего дня сменить трон на медную лохань — вроде не вспоминал.
Время, дымя, неспешно тлело.
Вдруг в животе у шута засвербело. От дальнего конца стола, где удобно пристроился на полу, двинулся он к выходу.
Тут его государь и перехватил.
— Што опять невесел, шутяра?
— Родственников своих вспомнил. Они у меня тоже все до единого из города Рима. Правда, не людьми, а свиньями и боровами родственники мои оказались: «Хрюк-похрюк, хрюк-похрюк…» — бегают себе по Риму, объедки подбирают.
Тут Осип вернулся к столу, уселся на неструганную, нарочно для него поставленную скамеечку, и ноги на стол закинул.
— Вот они, ножки мои поросячьи! Гляди! Это они меня за царским столом неблагодарной свиньёй быть научили. Только ты не боись. Ноги-то мои почище ваших ручонок будут!
Но тут же Осип со стола ноги сдёрнул, кинулся на четвереньки, захрюкал, заурчал боровом.
— Шутейно говоришь про родственников, али правда: как свиньи объедки собирали?
— Правду, чистую правду! Ведь и ты всегда говоришь про своих родственников одну правду. Даже если чуток соврёшь, вранье твоё тут же на лету правдочкой становится.
Царь Иван вскинул брови. А шутяра Гвоздь, словно чёрт его за язык дёрнул, хоть и тихонько, хоть вроде одному только царю, а сказал:
— Оченно хочется мне в шутовском монастыре окормить тебя посмеюнством. Давай я в тех стенах игуменом буду, а ты у меня в послушниках. Славная игра получится, до слёз смешная!
— Игра, говоришь, такая?
— Ага. Смешно тебе будет. Я и жезл для тебя шутовской приготовил. Приказал из дерева ценного выточить: с головой резною, в колпаке, с ослиными ушами. Ты уж заплати резчику копеечку.
— Жезл-то мне на кой? У меня скипетр имеется.
— Примешь жезл — шутом на время станешь. Хоть на час! Смеху-то смеху! До конца жизни надрывать животики будешь.
— А ты, стало быть, царствовать станешь?.. Княжеское достоинство своё вспомнил?
— Что ты, Господь с тобой! Вон оно, моё достоинство, тряпицей на полу сморщилось. Хочешь съем его?
— Ну, ешь.
Осип поднял с полу свой же оторвавшийся от одежды цветной лоскуток, подбежал к поставцу посолил и поперчил, острым ножом лоскуток на кусочки разрезал, начал, смешно двигая кадыком, заглатывать.
Царь Иван рассмеялся уже шире, вольней, как будто что-то важное для себя решил.
— Ну и каково оно, княжеское достоинство, на вкус?
— Ох, пресновато. Одно только царское достоинство сладко. Хочешь моё-то попробовать? — приблизился опасливо Осип к царю Ивану, стал протягивать лоскут в кулаке сжимаемый.
Государь отстранился.
— Ладно. Будя. Давай теперь, как я укажу, поиграем. Ты ведь, небось, одни только весёлые игры любишь? Да ещё и на сытый желудок? Вот я и не хочу, чтобы ты голодным остался. Эй, щей сюда! А ты иди ко мне ближе. Иди, не бойся.
— Иду, иду! И правдочку твою в торбе несу. Хотел бочком на престол, — да видно не для меня рассол. И престол от меня утёк, и монастырёк – ёк!
Принесли на рогаче чугунок дымящихся щей.
— Держи, дурень!
Гвоздь подступил, чтобы дар принять, склонился в поклоне. Царь ему на голову чугунок щей и вылил.
Будто сердце у Гвоздя оторвалось от жил!
В жирном мареве щей поплыл шутовской престол, зашатался и двинулся вплавь по речке Копытовке расколовшийся на куски от остро-пекучего жа́ра чёрный монастырь, красно-кожуристые черти-раки, пятясь, поползли по воздуху, обиженные монашенки скривили губы до боли, до слёз…
Шут заверещал, а царь Иван впервые за день во всю ширь рассмеялся.
— Вот и тебе теперь сытно. Видишь? И я шутковать умею.
Над столом порхнул смешок. Ошпаренный Гвоздь кинулся со всех ног бежать. Но споткнулся, упал и дальше, чтобы умаслить царя, побежал уже на четвереньках.
В три прыжка царь Иван шута догнал, ухватил за шиворот, поддёрнул с полу, поставил на ноги, развернул к себе и с улыбкой, как бы и впрямь играя, резко ткнул Осипа в бок поясным персидским ножом.
Шут упал. На минуту стало тихо, как в склепе.
Лишь откуда-то из дальнего далёка долетел трескуче-писклявый старческий голос:
— Так его, осударь, так! Щами горячими — р-раз!.. кхе-кхе… щи по личику и потекли. А потом – поглубже, ножичком: р-раз! Ещё и язык ему… кхе… урежь!
С блескучего лезвия боязливо стекала кровь. Царь Иван постоял с ножом в руках, затем, уже тише и примирительней проговорил:
— Ну, будя, будя! Вставай, шутец. Поиграли и хватит. Эй, чеканный пряник сюда! Чтобы жизнь шуту сладкой казалась…
Принесли пряник. Шут Осип молчал, глаз не открывал.
Тут из-за стола выбрались двое, подхватили мёртвого княжеского сына под руки, выволокли, не спеша, в сени.
— Эй, кто-нибудь! Дохтура Арнольфа к нему, да поживей!
Враз опав плечьми, возвратился царь Иван за стол. Да так за столом, в неясной думе, и застыл. Молчание повисло и в трапезной: не чавкали, не шутили, посудой отнюдь не громыхали.
Скоро и Арнольф из сеней вернулся, поклонившись, объяснил царю Ивану ломано: нет такой силы, чтоб душу шутовскую обратно в тело вдуть.
Помолчав с минуту, царь Иван, прохрипел:
— Поиграл я с ним неосторожно. А ведь это он хотел со мной поиграть. Вот и доигрался. Теперь-то игра наша трёхдневная — слышь, дохтур? — кончилась.
Государь сделал Арнольфу знак рукой, тот подступил ближе. Понизив голос, царь Иван сказал:
— Думаешь, зверь я? А ничуть. Это сын княжеский душонкой мерзейшей был. Хотел брата свого меньшо́го вместо себя в шуты определить. Монастырь чёрный основать подбивал. И ожить не захотел. Ну, теперь, знамо дело, — улетела душка! А жаль, разухабиста была подружка. Ну, лукашке теперь достанется, там и похохочет... Да и не шут он был, а чистой воды разбойник. Как есть разбойник! Вот те, фряжин, истинный крест!..
Дергач давно толкал Терёху в бока, колотил сухими кулачками в спину, а тот всё досматривал и дослушивал то, что навеялось ему в День шута.
Вдруг Терёха себя резко встряхнул и с клумбы встал. И тут же, почувствовал: тело его ничего не весит. Колкие мурашки побежали по спине, по затылку, головокружение взвинтило тело штопором, подняло выше домов. Терёха глянул на Дергача: видит ли? Однако Дергач смотрел в сторону, кого-то явно выискивая взглядом.
Здесь московский эфирный вихрь, приподнявший Терёху, сладко покачнул его на своей океанской волне. И увидел Терёха сверху свою земную жизнь. Всю, разом, от начала до конца. Увидел, как видят за несколько часов до сражения, что с ними случится дальше некоторые из бойцов, или те, кому предстоит тяжкое хирургическое вмешательство. И здесь полное и никогда раньше не случавшееся успокоение от струимого сквозь шута ветра-пространства, холодком разлилось по телу. Пространство стало пузырчатым, весёлым: от малейшей мысли тело вмиг преодолевало километровые расстояния, возвращалось назад и поднималось вверх, оставаясь внутри себя в состоянии полного покоя. «Как солнечный зайчик», — подумал Терёха про тело, и, впервые за день, широко улыбнулся. Сделался внезапно безразличным парад шутов, позабылись Дергач, Самоха. Даже Оленька выпала из внимания. Но тут же вихрь эфира — легко, безболезненно — Терёху вниз, на сухую клумбу и опустил.
Подождав с минуту — не возвратится ли эфирный ветер — Пудов Терентий с шумом выдохнул вдруг ставший освежающе-горным московский воздух, подхватился с клумбы, отряхнул от сухих стебельков и травинок плотно обтянутый штанцами зад, одёрнул бело-сине-красную, шёлковую с подстёжкой блузу — спереди орёл двуглавый, сзади молот и серп нашиты — и неспешно двинул вперёд.
Пора было на детский концерт.
На аспидном быке, в золочёных ризах, покачивая головой в трёхверхом колпаке с ослиными ушами и едва слышно позванивая серебряными бубенцами, впереди царя и трёх сотен пеших стрельцов, ехал княжеский сын Осип Гвоздь, уже несколько лет как определённый царём в шуты.
Перед Кремлёвскими палатами царь шута обогнал, завидущие слуги резко Осипа с быка ссадили, смеху ради сбили наземь колпак, содрали золотые облачения. Стрельцы – кроме караульных — разошлись по своим слободам: кто в Толмачи, кто в Кадаши, кто в Земляной город.
— Быка на бойню, — кратко распорядился царь Иван.
Время текло к застолице.
У себя в низенькой опочивальне, царь с урчанием и треском дал храпака. А Гвоздь, сперва разлёгшийся на кошме у царских дверей, томясь неясностью, встал. Мерно переступая негнущимися верблюжьими ногами в тонких сиреневых чулках, чуть покачивая острозатылочной головой с примятым лицом и огромным по-лягушачьи прорезанным ртом, подошёл он к выложенным цветными кусочками окнам, засмотрелся на одну из пробегавших мимо купеческих дочерей.
И захотелось внезапно Осипу жизни простой, не шутейной, пусть даже не княжеской, пусть купеческой, но зато спокойной!
Вздох, две-три пекучих слезинки, слизанных далеко выставленным языком, и снова: жаркая кошма, ожидание чего-то небывалого, и сладко-звенящая жуть в ответ.
А следом за жутью — утробный хохот!..
За трапезой царь был то громогласен, то гнетуще тих. Но глаза-то глаза! Тёмным весельем, как у ловчей, почуявшей добычу птицы, они сверкали.
У Гвоздя мигом свело кишки: знал он этот взгляд царский, знал. Ищет государь в кого бы лють свою соколью коготком острым вонзить!
Тут царь Иван словно бы в нутро Осипово проник, резким словом Гвоздя к столу пригнул:
— Што смолк, шутец? Небось кишка кишке кукиш кажет?
— Про быка закланного думаю. Съешь ты его сегодня целиком, али паха и хвост до завтрего вымачивать станешь?
Государь не то, чтобы засмеялся, а как-то хмыкнул. Может и со злорадством, может, и одобрительно: этого Гвоздь не понял.
Тогда шут решил огоньку добавить:
— Што за диво языком щёлкать? Ты попробуй на быке печёном проехаться. Садись, не боись! Взгляни на улицу. Видишь? Стоит бык печёный, в заду у быка — чеснок толчёный. С одного боку режь, а с другого макай да ешь. А как наешься сыт — взберёшься на быка, но будешь сбит. А коль снова на быка взберёшься — дуралеем вдругорядь назовёшься.
— И назовёмся, и поедим, и порежем, — негромко вымолвил царь и снова поворотился к столу.
После жирной стерльяжьей ухи, поднял государь серебряную братинку и, мерно расставляя слова, — будто порядок их забыл, — возгласил:
— За родственника моего дражайшего. За римского кесаря, богоподобного Августа. Упокой, Господь, безвинную душу его.
Осип, набравший в рот горячей ухи, поперхнулся.
— Смеёшься, шутяра? Мне, кесарю, не веришь?
— Я-то верю! Верю ис-с-стово! — аж взвизгнул, ошпарившийся изнутри жирной ухой шутец, — а вот бык печёный тот сумлевается. Слышь, как ревёт, словно бы дождь приманывает? А ещё — августовского сенца просит. Да где взять? Далече царь Август и сенцо его тож. Далёк и сам Рим. И высок к тому ж. Рази плевком его достану?
Слитным комочком плюнул Гвоздь вверх и слюну свою ловко на ладошку поймал. Кто-то из царских подлипал реготнул сытно.
— Плевать? У меня за столом — плевать!?
— Да ведь не просто плюю. К твоим плевкам готовлюсь. Их, их со сладостью глотать буду!
— Слово — не плевок. А ты! Ты у меня…
Царь Иван вскочил, но тут же сел, задумался, стих. Затем обронил негромко:
— Ладно. Дураку и Бог простит.
Выдохнув облегченно, сел на пол и княжеский сын.
Но тут же накатило на него недоумение, а следом — обволок неясный трепет.
Серо-бурой бесшумной караморой метнулась и зависла над княжеским сыном смертная тень. Он её, вялую, её некусачую, почуял, как чуют в солнечный день внезапно лёгшую на плечи прохладу. Но тут же, состроив обезьянью рожу, — какую подсмотрел в царском зверинце в Алевизовом рву, — от смертной истомы отмахнулся.
Скорченная обезьянья рожа теснотою своей телесной натолкнула на воспоминания…
Третьего дня затеял он с государем шутейную игру. Правда, только спервоначалу была та игра шутейной. И не хотел княжеский сын про игру толковать, а выпалил. Выпалил, а уж потом понял: давным-давно те слова горлянку ему царапают.
Завелась же игра вот с чего: уж минул год, как стал шут Гвоздь про себя знать – завидует он царю Ивану. Подло и жестоко завидует!
«И как не позавидовать? Сущий ведь «татарин», а туда же: в цари пробрался, с кесарем Августом себя без конца равняет. Меня, природного Рюриковича шутом вырядил, над родом нашим древним, родом Приимковых-Гвоздевых надсмехается».
С того памятного дня стали шутки Осиповы ядрёней, злоехидней. И ведь словцо «ядрёней» не просто так внутри порыкивало: ядрами тяжкими, ядрами калёными стали с недавних пор в утробе шутки перекатываться. Да вот беда — применения тем ядрам не было! Верней, применение быть могло, но худое: позволить словесам ядрёным разворотить нутро, а уж после — из живота медленно выкатиться!
Теперь, правда, плёлся год прошедший где-то далеко позади. А, что касаемо последней недели — низкой шквалистой тучей над шутом она висела: уж слишком едко и гневно стал измываться он над царём Иваном. Тот отчего-то терпел. Сам же Осип объяснял государю издёвки тем, что новую игру затевает.
— Поиграем, осударь, ох, поиграем!
В минуты отдыха от мыслей воинских, поиграть царь Иван хоть и нехотя, а соглашался. Правда, смотрел при этом на Гвоздя, как бы к чему-то примеряясь, с прищуром смотрел и загадочно. Иногда негромко, но так чтобы окружающие слышали, приговаривал:
— Как лягва широкорот. Как расстрига жидкобород. Затылок острый. Голова на шейке хлипкой едва держится. Откуда только мыслишки в голове такой берутся? Вот бы в рот заглянуть поглубже: не чёрный ли волос из нёба у шута прёт? Ругатель ведь — почище меня самого. А ума — недалёкого.
— Я-то умён, да мир дурак, — подлаживаясь к царевым словам, едва слышно, отвечал Осип...
Третьего дня собрался-таки с духом: предложил царю Ивану шутовской монастырь основать.
— У того-то монастыря все ступени должны быть златые, а стены — чёрные. Ворота бычьей желчью надобно густо смазать, пороги гвоздями острыми утыкать.
Царь Иван на такие слова отвечать не стал, хмурясь, смолчал.
Тогда Гвоздь — сперва вкрадчиво, осторожно, а потом смелей, раскатистей — завёл речь про монахов и монашенок.
— Да прикажи в монастыре том мужском и женском, монахам быть в шутовских одеждах, с колокольцами и стручками гороховыми в связках вокруг шей. А монашенкам прикажи не Богу служить, а твоей и моей крайней плоти. Всем, кроме одной. Эту одну для особого посмеяния держать будем. На вороную кобылу посадим, тело белое для запоминания ещё разок обсмотрим, катюгу с кнутом за кобылой пустим и, пока вкруг монастыря та кобыла объедет, должно тело монашенки стать чёрно-красным. А опосля объезда, позадь монашенки два чёрта должны на кобылу усесться. То-то смеху будет!
— Что в чертях-то смешного, дурачина!
— Так ить это твои собственные, верноподданные черти будут. И пускай будут они красными, как раки варёные. Мы с тобой и возгласим: мол, только-только в аду, в казане огромном их сварили и к нам сюда для необходимой надобности доставили. Черти похрустывать кожуркой станут, красным рачьим покровом дураков к себе приманывать начнут!
Здесь царь Иван вместо смеху рассерчал не на шутку.
— Так это игра такая, или взаправду подпихиваешь меня монастырь с чертями-раками основать?
— Может, взаправду, а может, и понарошку. Как знать, осударь? Я ить и назад и вперёд глядеть силу имею. Вот и вижу впереди: певчие на небесах по тебе панихиду шутейно справляют. А на кремлёвской площади — наоборот — народец прутьями пушку твою сечёт. Вижу ещё и другое: 2000 невест во дворец к тебе доставляют. И по наущению дохтура Бомелия ты мочу одной из девиц в стакане из гутного стекла рассматриваешь. А шут – не я, не я, другой! — от такого просмотра за портьерой смехом давится. И ещё много чего вижу. Да только от такого подглядыванья за прошедшим и будущим злость меня аж до костей пробирает. Потому как чую: солоно мне от шутовской моей дерзости придётся. Но опосля — вроде сладко станет. А у тебя всё шиворот-навыворот получится: сперва сладко, а потом, целую бочку прогорклого житья-бытья выхлебать тебе придётся.
Царь Иван ещё пуще нахмурился, шут приметил, заскакал, запрыгал на одной ноге:
— Вру, вру! Всё вру! А вру оттого, что подличаю. А ты, ясный наш полумесяц, ты завсегда одну правду молвить изволишь.
Царь Иван, услыхав про полумесяц, намёка не понял, нежно, как девушка, зарделся.
Видя перемену, Гвоздь осмелел:
— А что, ежели игру покруче затеять? На кой чёрт нам в монастыре остолопиться? Лучше престолами поменяемся. Смеху-то будет, смеху! Я денька три-четыре на Царском месте посижу, а ты рядком на кошме уляжешься. И престол шутовской тебе близ кошмы соорудим.
— Што за престол такой шутовской?
— А лубяной престол. И на том лубяном престоле, вместо царя — горшок ночной в виде медной лохани выситься будет. Горшок вместо царя! Животики надорвёшь от смеха! А потом сядешь ты на тот горшок, что нужно справишь, освободишься, наконец, от царской тяжести, и на мой престол из чистого злата, камнями драгоценными утыканный, исподтишка поглядывать станешь.
— На твой престол поглядывать? Так ли я понял?
— Снизу, снизу, шутяра ты этакий, поглядывать будешь! Да смотри, не засиживайся долго на медной лохани! Сделав дело — вставай, бегай, сокочи сорокой, кричи курой, смеши меня до упаду!
— До упаду, говоришь? Мы ж ещё толком не договорились, а ты меня, государя, уже шутом кличешь, на медную лохань сажаешь.
— Так это потому, что боюсь, не согласишься ты. А теперь, когда я тебя именем таким окликнул — ты уже прямой шут и есть. И хорошо, и смешно мне от этого, истинный Бог. Чаю, и тебе, шут Иван, смешно до усерачки будет.
— Чтой-то сегодня не рассмешил ты меня, шут Осип. Под шкуркой смеха твоего — иное чуется! Шут на престоле — боль и погибель. Даже на час — шут на престоле страшен. Да и что станешь ты на троне делать? Какие указы подписывать? Ещё обделаешься от страха!
— Истинно, истинно так. Всенепременно обделаюсь! А ты, бывший царь Иван, бздо моё обонять будешь и, глазки зажмуря, зачнёшь твердить, как и я твердил в прошлом годе: «Корицей и мёдом запахло! Корицей и мёдом, да как сладко!..» Тем часом дело важнецкое я сотворю: вновь чужеземцев призову, они вам зальют сала под кожу, заставят в пост обмочить хвост! Вот тогда — не будь я лягушкин сын — по-старокняжески заживём. Каждый князь опять сам себе хозяин будет. Больше княжеств – больше хмельного веселья. Регот, гогот, пырсканье и умора вокруг! Пырская и регоча, мы тебя в бочку как раз и законопатим, и вниз по речке по Копытовке спустим. Станешь ты трубить из той бочки в отводную трубу, словно падший ангел в толщу вод загнанный. Народ на берег высыплет, кривляясь, провожать тебя станет! Навсегда, насовсемушки! Вот смеху-то будет, ёк-макарёк!
Царь Иван от картины такой стал бледен и словно бы закаменел на месте. Только щека от гнева подёргивалась.
— Что замер, как еврашка у норки? Смешно ведь! Смейся, царь, уводи душу от гнева и печали!
— Кому смешно, — а кому и горе от смеха такого приключиться может.
Чуя, что перебрал, Осип вдруг присел на корточки, растянул рот пальцами до ушей, потом заквакал, запрыгал лягвой.
Здесь государь, наконец, рассмеялся, и, не проронив более ни слова, удалился.
Было это третьего дня, было на реке Скалбе, в селе Братовщине, в загородном царском владении.
Ну, а в день нынешний, после езды на быке и тревожного почивания, явился Гвоздь, как и положено в царскую трапезную шутом послушным, ко всему готовым.
Выставляться не стал: присмотрелся, прислушался. Царь не весел был, а и не зол, про то, что предлагал ему Гвоздь третьего дня сменить трон на медную лохань — вроде не вспоминал.
Время, дымя, неспешно тлело.
Вдруг в животе у шута засвербело. От дальнего конца стола, где удобно пристроился на полу, двинулся он к выходу.
Тут его государь и перехватил.
— Што опять невесел, шутяра?
— Родственников своих вспомнил. Они у меня тоже все до единого из города Рима. Правда, не людьми, а свиньями и боровами родственники мои оказались: «Хрюк-похрюк, хрюк-похрюк…» — бегают себе по Риму, объедки подбирают.
Тут Осип вернулся к столу, уселся на неструганную, нарочно для него поставленную скамеечку, и ноги на стол закинул.
— Вот они, ножки мои поросячьи! Гляди! Это они меня за царским столом неблагодарной свиньёй быть научили. Только ты не боись. Ноги-то мои почище ваших ручонок будут!
Но тут же Осип со стола ноги сдёрнул, кинулся на четвереньки, захрюкал, заурчал боровом.
— Шутейно говоришь про родственников, али правда: как свиньи объедки собирали?
— Правду, чистую правду! Ведь и ты всегда говоришь про своих родственников одну правду. Даже если чуток соврёшь, вранье твоё тут же на лету правдочкой становится.
Царь Иван вскинул брови. А шутяра Гвоздь, словно чёрт его за язык дёрнул, хоть и тихонько, хоть вроде одному только царю, а сказал:
— Оченно хочется мне в шутовском монастыре окормить тебя посмеюнством. Давай я в тех стенах игуменом буду, а ты у меня в послушниках. Славная игра получится, до слёз смешная!
— Игра, говоришь, такая?
— Ага. Смешно тебе будет. Я и жезл для тебя шутовской приготовил. Приказал из дерева ценного выточить: с головой резною, в колпаке, с ослиными ушами. Ты уж заплати резчику копеечку.
— Жезл-то мне на кой? У меня скипетр имеется.
— Примешь жезл — шутом на время станешь. Хоть на час! Смеху-то смеху! До конца жизни надрывать животики будешь.
— А ты, стало быть, царствовать станешь?.. Княжеское достоинство своё вспомнил?
— Что ты, Господь с тобой! Вон оно, моё достоинство, тряпицей на полу сморщилось. Хочешь съем его?
— Ну, ешь.
Осип поднял с полу свой же оторвавшийся от одежды цветной лоскуток, подбежал к поставцу посолил и поперчил, острым ножом лоскуток на кусочки разрезал, начал, смешно двигая кадыком, заглатывать.
Царь Иван рассмеялся уже шире, вольней, как будто что-то важное для себя решил.
— Ну и каково оно, княжеское достоинство, на вкус?
— Ох, пресновато. Одно только царское достоинство сладко. Хочешь моё-то попробовать? — приблизился опасливо Осип к царю Ивану, стал протягивать лоскут в кулаке сжимаемый.
Государь отстранился.
— Ладно. Будя. Давай теперь, как я укажу, поиграем. Ты ведь, небось, одни только весёлые игры любишь? Да ещё и на сытый желудок? Вот я и не хочу, чтобы ты голодным остался. Эй, щей сюда! А ты иди ко мне ближе. Иди, не бойся.
— Иду, иду! И правдочку твою в торбе несу. Хотел бочком на престол, — да видно не для меня рассол. И престол от меня утёк, и монастырёк – ёк!
Принесли на рогаче чугунок дымящихся щей.
— Держи, дурень!
Гвоздь подступил, чтобы дар принять, склонился в поклоне. Царь ему на голову чугунок щей и вылил.
Будто сердце у Гвоздя оторвалось от жил!
В жирном мареве щей поплыл шутовской престол, зашатался и двинулся вплавь по речке Копытовке расколовшийся на куски от остро-пекучего жа́ра чёрный монастырь, красно-кожуристые черти-раки, пятясь, поползли по воздуху, обиженные монашенки скривили губы до боли, до слёз…
Шут заверещал, а царь Иван впервые за день во всю ширь рассмеялся.
— Вот и тебе теперь сытно. Видишь? И я шутковать умею.
Над столом порхнул смешок. Ошпаренный Гвоздь кинулся со всех ног бежать. Но споткнулся, упал и дальше, чтобы умаслить царя, побежал уже на четвереньках.
В три прыжка царь Иван шута догнал, ухватил за шиворот, поддёрнул с полу, поставил на ноги, развернул к себе и с улыбкой, как бы и впрямь играя, резко ткнул Осипа в бок поясным персидским ножом.
Шут упал. На минуту стало тихо, как в склепе.
Лишь откуда-то из дальнего далёка долетел трескуче-писклявый старческий голос:
— Так его, осударь, так! Щами горячими — р-раз!.. кхе-кхе… щи по личику и потекли. А потом – поглубже, ножичком: р-раз! Ещё и язык ему… кхе… урежь!
С блескучего лезвия боязливо стекала кровь. Царь Иван постоял с ножом в руках, затем, уже тише и примирительней проговорил:
— Ну, будя, будя! Вставай, шутец. Поиграли и хватит. Эй, чеканный пряник сюда! Чтобы жизнь шуту сладкой казалась…
Принесли пряник. Шут Осип молчал, глаз не открывал.
Тут из-за стола выбрались двое, подхватили мёртвого княжеского сына под руки, выволокли, не спеша, в сени.
— Эй, кто-нибудь! Дохтура Арнольфа к нему, да поживей!
Враз опав плечьми, возвратился царь Иван за стол. Да так за столом, в неясной думе, и застыл. Молчание повисло и в трапезной: не чавкали, не шутили, посудой отнюдь не громыхали.
Скоро и Арнольф из сеней вернулся, поклонившись, объяснил царю Ивану ломано: нет такой силы, чтоб душу шутовскую обратно в тело вдуть.
Помолчав с минуту, царь Иван, прохрипел:
— Поиграл я с ним неосторожно. А ведь это он хотел со мной поиграть. Вот и доигрался. Теперь-то игра наша трёхдневная — слышь, дохтур? — кончилась.
Государь сделал Арнольфу знак рукой, тот подступил ближе. Понизив голос, царь Иван сказал:
— Думаешь, зверь я? А ничуть. Это сын княжеский душонкой мерзейшей был. Хотел брата свого меньшо́го вместо себя в шуты определить. Монастырь чёрный основать подбивал. И ожить не захотел. Ну, теперь, знамо дело, — улетела душка! А жаль, разухабиста была подружка. Ну, лукашке теперь достанется, там и похохочет... Да и не шут он был, а чистой воды разбойник. Как есть разбойник! Вот те, фряжин, истинный крест!..
Дергач давно толкал Терёху в бока, колотил сухими кулачками в спину, а тот всё досматривал и дослушивал то, что навеялось ему в День шута.
Вдруг Терёха себя резко встряхнул и с клумбы встал. И тут же, почувствовал: тело его ничего не весит. Колкие мурашки побежали по спине, по затылку, головокружение взвинтило тело штопором, подняло выше домов. Терёха глянул на Дергача: видит ли? Однако Дергач смотрел в сторону, кого-то явно выискивая взглядом.
Здесь московский эфирный вихрь, приподнявший Терёху, сладко покачнул его на своей океанской волне. И увидел Терёха сверху свою земную жизнь. Всю, разом, от начала до конца. Увидел, как видят за несколько часов до сражения, что с ними случится дальше некоторые из бойцов, или те, кому предстоит тяжкое хирургическое вмешательство. И здесь полное и никогда раньше не случавшееся успокоение от струимого сквозь шута ветра-пространства, холодком разлилось по телу. Пространство стало пузырчатым, весёлым: от малейшей мысли тело вмиг преодолевало километровые расстояния, возвращалось назад и поднималось вверх, оставаясь внутри себя в состоянии полного покоя. «Как солнечный зайчик», — подумал Терёха про тело, и, впервые за день, широко улыбнулся. Сделался внезапно безразличным парад шутов, позабылись Дергач, Самоха. Даже Оленька выпала из внимания. Но тут же вихрь эфира — легко, безболезненно — Терёху вниз, на сухую клумбу и опустил.
Подождав с минуту — не возвратится ли эфирный ветер — Пудов Терентий с шумом выдохнул вдруг ставший освежающе-горным московский воздух, подхватился с клумбы, отряхнул от сухих стебельков и травинок плотно обтянутый штанцами зад, одёрнул бело-сине-красную, шёлковую с подстёжкой блузу — спереди орёл двуглавый, сзади молот и серп нашиты — и неспешно двинул вперёд.
Пора было на детский концерт.
У Стены Скорби
Так и шли по Москве сухотелый Дергач и обрубок Терёха, думая каждый о своём, затаённом. Шли и одним глазком назирали за крутёжкой столичного мира, а другим — наслаждались тем, что у них у самих в головах происходит. В Терёхиных мыслях прокручивался сценарий предстоящего шутовского променада. А у Дергача в голове, как фарш в мясорубке, всякая всячина вертелась. Шли сперва дворами, потом малыми переулками. И нежданно-негаданно вступили на проспект Академика Андрея Сахарова. Там тоже были люди. Правда, не шуты, не остолопы, а на редкость продвинутые и по первому впечатлению настолько милые, что хотелось их всех расцеловать, а потом излить в дружеских нежностях и подгавкиваньях свой щенячий восторг! Хотя, правду сказать, были среди обретавшихся на проспекте и люди чуток взвинченные. Особенно это касалось плотно обдуваемых перво-весенним ветерком дам-этикеток — так сразу прозвал их про себя Терёха. Миленьких, созданных по иностранным образцам этикеток было не так чтобы много, но шум и шелест от них стоял до небес. Никакими полит-вуменшами они, ясен перец, не были. А были дамами безгранично преданными известным политикам. До мозга костей и до визга извилин преданными! До мелкой дрожи в конечностях и крупных ссор меж собой при определении степеней этой преданности.
Некоторые из этикеток держали таблички на палочках с письменами-картинками. Были письмена необычными и не вполне понятными. Пудов Терентий, в последние дни увлечённо изучавший жизнь отдалённых народностей, — отчего, наверное, и привиделась ему блоха человеческая — определил таблички как написанные на языке ронго-ронго. Живописно выполненные письмена совокуплялись между собой в самых разных позициях. Такое рисуночное письмо должно быть нарочно доставили на проспект Сахарова из чужедальних стран, может даже, с острова Пасхи, потому как дамы-этикетки державшие таблички заметно ими кичились. Были, разумеется, и чисто русские плакаты. Три полу-грации и рядом с ними, выкормленный не хуже холощёного жеребца, мелкозавитой переросток, с лоснящимся от жира щеками, держали в руках по плакату, наклеенному на древесно-слоистые плиты. На первом плакате были вычерчены профили Ленина, Сталина и почему-то писателя Достоевского. Надпись под портретами гласила: «Они нам всю экологию портют»! На втором плакате голубовато-коричневого оттенка было начертано:
«За экологию!
Люблю я, Обь, твою муть!»
На третьем:
«Эко с нами!
Хвалю я муть твою, Обь!»
А на четвёртом – совсем кратко:
«Обь твою муть!»
Обозначился невдалеке и табунок разгневанных мужчин. Те почём зря кого-то костерили. Кого именно, Терёха и слышать не хотел. Притормозив, он даже два шага назад сделал, так не хотелось в последние дни окунаться в густо-булькающую политбаланду. «Одно дело, – раздражался про себя Терёха, — шествие дуралеев, пусть даже обалдуев, норовящих, власть обсмеяв, её же вразумить! И совсем другое — сборище опрокинутых шизиков, сдвинутых на политике». Неожиданно для себя, Терёха, выразительно, хоть и негромко пропел два задумчивых куплета из давно позабытой песенки:
Утром в поликлиники,
Всё спешат шизофреники.
Среди них есть Ботвинники,
И кавказские пленники,
Короли и карасики,
Паучки и личинки...
А приятель мой – часики:
Только что из починки.
— Идем, Фомич, идём! Скоро споёшь, да ещё как! Давай быстрей, ждут нас.
Не успел Терёха удивлённо вскинуть бровь, как Дергач взял тоном выше:
— Вот он! Не было, а есть! Привёл… Вы гляньте только! У него и дубина для истязания мировой демократии имеется!
Терёха, застеснявшись, увёл драгоценную маротту за спину.
— Cлушай меня, добрый охлос! Вот он, сикофант! Вот он, провокатор конкретный! Бей его! — Вдруг заорал благим матом в отзывчивое площадное пространство Дергач и сопроводил свой ор прикладыванием обеих рук к сердцу: мол, глядите и ужасайтесь, раскумекав, кого я вам приволок.
Первыми к Терёхе, как ни странно, ринулись дамы. Впереди двуногим конём скакала Колюся Простибоженко. Ставшая женщиной лишь полтора месяца назад, Колюся мужские свои привычки позабыть не успела, и потому, поплевав на ладони, закатила Терёшечке две смачных оплеухи: справа и слева.
— Это тебе за всё! — крикнула Колюся, и хотела добавить ещё что-то сурово-обличительное, однако ойкнула, пискнула и выдала одну только вымученную постельную улыбку.
Колюся — глазки яровистые, носик собчачий, шейка канделашистая, пальчики мизулистые, — застеснялась и даже на миг оступила. Зато стали толкать и пинать Терёху другие мужики и дамы. Ловкий и быстрый, он несколько раз увернулся, но всё-таки под напором толпы рухнул вниз. Правда, жезл при этом не выронил.
Прибился к дамско-мужской толпешке и какой-то коммуно-патриот, или как он тут же себя окрестил — отчизнолюб. Его с проспекта Сахарова стали гнать, но отчизнолюб не растерялся, крикнул, что должен вырвать с мясом из рук стукачонка имперский артефакт, а говоря другими словами, отнять осквернённый клоуном музейный посох.
— Какой осквернённый, — из последних сил отбивался Терёшечка, — я в церковь с мароттой ходил, и ничего, не гнал батюшка!
Слушать шута, однако, никто не стал. Отчизнолюб вырвал из рук лежащего жезл, хотел взять с собой, но потом с отвращением швырнул наземь, ещё и плюнул смачно. И тут же дамы, наваливаясь по очереди, стали таскать Терёху за роскошные, ничуть не седеющие темно-русые волосы, зубами и ногтями, порвали к едрени-фени его шутовской прикид, так что одежда теперь прикрывала шута лишь обрывками и клочьями.
Не отставали от дам-этикеток и мужики. Те — скорей лениво, чем злобно — продолжали пинать лежащего новенькими саламандровскими полуботинками.
Нервная по своей природе, а тут ещё и вмиг заведённая (не наркотой! Резкой программой действий, заложенной в слове «стукач») толпа мяла, била и крутила на месте Терёшечку, как наполовину облупленное, цветное пасхальное яйцо на тарелочке.
Грустно и молчаливо глядела со своей шестиметровой высоты, выполненная из бронзы и камня Стена Скорби на вороватое это побоище.Выбитые на горельефе множественные человеческие фигуры, ставшие символами казней, когда-то надломивших, но так до конца и не поколебавших волю огромной страны, казалось, чуть вздрагивали, и на секунду другую, обретали знакомые черты. Меж фигурамивиднелись двери-просветы, пройдя сквозькоторые,каждый из пришедших могпочувствоватьсебя на месте тех, кто был карательным мерам подвергнут, изановоощутитьценность никем самоуправно и преступно в данный временной отрезок не отнимаемойжизни.
Наперекор дневному времени, мягко, вполнакала пылали прожекторы. И в дневных этих огнях, как-то неохотно сливавшихся с природным светом, трепыхались тени и пятнышки, казавшиеся нацеленному глазу трепыханьем людских душ, стремившихся поскорее уйти со скорбной площади вверх, в небо, но пока невидимыми верёвочками, как те ловчие соколы за ногу, ещё привязанные к незримым колышкам, воткнутым в сырую и горючую землю.
«Кого ловишь, кого стережёшь на Земле человек? Не себя ли самого?» — проговорил негромко Терёха, и тут же подавленно смолк.
Журча, по камням окружавшим стену, стекала вода. В перерывах меж ором и свистом, звук воды хоть и слабо, а был слышен.
— Волоки его, сквозь прорезь! Пусть, гад, почувствует себя законно репрессированным!
«Я и сам-то не больно умён, а тут ещё мир — дурак… — словами Осипа Гвоздя попенял себе Терёха, и сердце его резко шатнулось в сторону, — Ух! Ух! Ничёсе… А всё ж дуралеи лучше умников. И хорошо бы умникам всерьёз прикоснуться к шутовству и дуралейству, в них спрятанному. Глядишь, вокруг посветлеет. А то другим карать не разрешают, а у самих один только сладосрастный репрессанс в мозгах…»
Через срединный просвет в Стене Скорби, подавленного недружелюбием, оглушённого несправедливостью, Терёху и поволокли.
— Стойте, — звенящим латунным дискантом, рассёкшим надвое гам толпы, вскрикнул вдруг какой-то паренёк, — остановитесь! Ишь, затеяли. Тут Стена Скорби! Так и скорбейте. А вы ругней и мордобоем только поганите горестные чувства.
— Наше чуйство такое: в пух и прах здесь всё разнести! Как в песне: до основанья! – Крикнула в ответ Колюся Простибоженко, снова отпавшая от сущности женской, и вернувшаяся к сущности грубой, мужской, — а уж опосля над вами шутами и дураками скорбеть будем.
— Неправда ваша. Жертвы, которые становятся карателями – хуже самих карателей!
— Хватай малолетнего! За такие мыслишки и его через прорезь протащим!
— Хорош орать. Покажи лучше, где он, пацан этот?
— И правда: кто кричал? Тут все свои вроде.
— За стеной, блин, видать спрятался!
Повисшую на мгновенье тишь, вдруг мутно-тинистой волной отплеснул в сторону заполошный буксирный голос:
— «ОМО-О-О-ОН!»
Терёху успели-таки проволочь сквозь прорезь и, чуть оттащив от Стены Скорби, бросили.
И побежали по опрокинутому навзничь шуту люди.
Из-под полуприкрытых век, он видел: обминают его студенточки на шпильках, перепрыгивают подростки в кроссовках, брезгливо обходят похрюкивающие матроны в стоптанных башмаках. И только двое важных господ, — судя по старорежимной ругани и кряхтенью, оба в летах, — свирепо, полной ступнёй, дважды наступили на лежащего: один на живот, другой на область паха.
Обрывки шевелимой ветерками Терёхиной блузы с орлами и серпами, так раздразнили некоторых, что ещё один господин, помоложе, вернулся, наклонился, тоже плюнул в исцарапанное ногтями лицо, сказал что-то на ломаном русском, разломил с хрустом о колено драгоценную маротту, и бросил обломки на тёплый от крови Терёхин живот. Потом подумал, обломки подхватил, отшвырнул подальше.
Поверженный шут закрыл глаза: боль нарастающая, боль адская, словно огромным ржавым шкворнем проткнула его снизу вверх, от паха до грудины.
Веки Терёхины схлопнулись…
Зато до невозможности расширились и округлились глаза тех, кто наблюдал за происходящим из окон ближних домов, тех, кого тоже булгачило и полошило трепыханье дневных огней, проплывавших над Стеной Скорби.
Смотрели на Терёху глаза завидущие и глаза хмельные, глаза мерклые и глаза огненные, глаза налитые кипящим стеклом готовые испепелить всех, на кого глядели, и глаза развратно посвечивавшие белёсой плёнкой, жаждавшие тех, кто хоть на миг в них заглянул, опоить допьяна, до́ смерти… Смотрели на лежащего глаза бегающие, безжизненные, бельмастые. Сухие, осоловелые, заплаканные, тяжко-ртутные! Глядели измученные, запухшие, курослепые, мёртвые. Вонзались лихорадочные, лешачьи, настырно сверлящие и протыкающие насквозь! Смотрели, надолго приникая к биноклям и совсем от них отказавшись. Смотрели с удивлением и сурово, а иногда — лукаво и даже подмигивая, словно собираясь спросить: ну что, шутец, допрыгался?
Разлепи Терёха в эти мгновенья веки — наверняка заметил бы и то, что само небо, как оказалось, тоже состоящее из тысяч и тысяч глаз, из удлинённых белков и выпуклых зрачков, приглядывается к нему. Мог бы ощутить и другое: виден он этому трёхмерному, тысячеглазому небу, раздвинувшему своё пространство в длину, высоту и глубину — до волоска, до красно-коричневых родинок на плечах, до последнего вывиха и мелкой царапины, до барабанных перепонок и забитых серой наружных слуховых проходов!..
Взгляды становились прикосновениями. Прикосновения оборачивались поглаживаниями. Оттого, что нападавшие задели какой-то нерв, Терёха на несколько минут потерял скособоченность зрения, стал видеть мир зорко, прямо…
И увидел он не заволокнутое грязно-дымной пеленой трёхмерное небо. Среди тысяч и тысяч небесных глаз выхватил взглядом — материнские, серо-зелёные. Часто мигая, мать с удивлением смотрела на взрослого Терёшечку и, казалось, не могла поверить тому, что дожил он до своих лет, а не умер, как и она, в молодости. Ну, а вслед за глазами матери, замерцали зрачки совсем уж изумрудно-зелёные: озорные, хитроватые, но и тайно грустящие.
Талка, Талочка! Маленькая, лёгкая, как плывущая по реке Вороне лодочка. Белотелая и быстроногая — шлёп-шлёп босыми ступнями по примятой траве, шлёп-шлёп по линолеуму!
От неожиданности шут застонал. Всё! Конец! Облом и обрыв! Вот почему жизнь без устали кособочила. Напрочь забыл он про Талку-Талочку-Наташку. Забыл как прожил с ней почти год, после того как смыло водочной волной бесштанную Айгуль.
Ниже асфальта, глубже земной коры провалился внезапно Терёха. Перестал ощущать боль, перестал накалять обиды. Чувствовал одно: вместе Талкой ушла из него навсегда тихая, но необоримая страсть к продлению рода, к переливаемому в детей бессмертию, ещё к чему-то высокому, неизъяснимому…
Кряканье скорой прервало мысли, смело́, как ненужный мусор, виде́ния. Туманно мелькнули лица фельдшера, докторицы. Но и они вмиг исказились, распались. И в этом исковерканном пространстве страданий и пустоты, налёгшим после мерцанья Талкиных глаз, оставалось Терёхе одно: ободрять себя речью. Что он и делал, повторяя сквозь боль, неясно откуда впрыгнувшие в мозг слова: «Не дырявь, не дырявь меня, перст Божий! У Стены Скорби я только прохожий!»
Здесь веки шутовские схлопнулись окончательно: жгучая загрудинно-паховая боль, просверлила ещё и ещё раз. Шут продолжал слышать урчание и плеск в животе у пожилого фельдшера, ворочавшего его на носилках, ощущал ласку молоденькой докторицы хлопотавшей рядом. Но потиху помалу начинал сквозь боль повторять про себя слова уже ни к ранению, ни к медперсоналу не относящиеся:
«Вверх-вниз. Рухнул-поднялся. Вниз, в сторону, вверх! Как шутовской жезл. Как целая, не разломленная надвое маротта… Вот, что она такое — жизнь. Зажатая в кулаке шутовская палка! И эту маротту, эту мороку, кто-то всё время подталкивает, как руку, под локоток: ведёт вправо, влево, вверх, вниз. Чтобы потом выбить из рук, уронить наземь, разломить надвое. Жизнь — маротта? Жизнь — морока, морок, мга? А за ней что? Сучья сутемь, тьма непроглядная?»
Шутовской жезл был сломан. Русский трикстер, каким ещё недавно мнил себя Пудов, — превратился в огромный кровоподтёк.
Недалеко от скорой, ещё не защёлкнувшей дверь, застыл Базиль Дергач. Терёху он не видел: смотрел мимо раненного, мимо кареты, мимо всего окружающего. И судя по наркотически расширенным зрачкам, виделось Дергачу нечто от проспекта Сахарова весьма и весьма удалённое. Он негромко повторял вслух:
— Миусская! Хитровская! Боровицкая!.. Театральная! Манежная! Разгуляй! Всюду и везде… Везде и всюду, они, долгожданные!
И впрямь: на Миуссе, на Хитровке, на Боровицкой и на Разгуляе — чуть поскрипывая от тяжко шатаемых, ещё не иссушенных ветром тел, рядами стояли виселицы. Причём виделись Дергачу эти площади в мутно-жёлтом свете. Когда-то он даже к врачу обращался. Врач-якут сперва пробурчал что-то невнятное, но потом выразился яснее: мол, видеть жизнь в жёлтых тонах, это всего-навсего — ксантопсия, происходящая от атеросклероза сосудов головного мозга:
— Нарушение, зрительного анализатора, у тебя, однако, паря, — добавил якут, и радостно засмеялся.
— Нарушение? Пускай! Пусть! Превосходно! Этим нарушением всё происходящее и обрушу! Конкретно обрушу! Де факто!
Чтобы лучше наблюдать мутный желтяк, страдающий ксантопсией Дергач, сплющил веки сильней. Восторг переполнял его.
«Столбы кленовые, петельки шелко́вые!» – Жмурясь, как самец рыси, пришёптывал Базиль, — и на них все прошлые и все нынешние под-правители и правители России: головой вниз, ногами вверх. Все без изъятия! Потому как — понимал, всё сильней зажигаясь от собственных дум Дергач, — тут и разбираться нечего! Будь ты граф Витте, будь Горчаков, будь Чичерин, Косыгин или даже Байбаков, — всех, всех на перекладину!..
Деликатно оправив Терёхину орлино-серпастую одежду, и ещё раз проверив крепость встроенных в «скорую» носилок, докторша, бережно раненного осуждая, сказала фельдшеру: «Как вырядился! Ты только глянь, Данилыч! А? И не холодно ему! Старик, а туда же, развлекухой занялся». «Все они здесь такие. Клоуны, шуты и ослы шестиухие». «Ага, ага, правда…»
Терёха хотел возразить: шуты и клоуны не одно и то же. Одно дело Осип Гвоздь, и совсем другое — паяцик Зеля. А что до осла шестиухого — так это райское, тихо-скорбное и тем-то как раз и располагающее к себе животное. Сил возражать, однако, не было. Да и поперёк собственных возражений почудилось совсем иное. Снова Терёха кожей ощутил потрескиванье маротты и попытался жезл ухватить. Но того рядом не было. Нашаривая жезл, смял он случайно длинный подол всё ещё суетившейся вокруг него докторицы и страшно пожалел о том, что в последние месяцы стал маротту безжалостно ненавидеть…
Так и шли по Москве сухотелый Дергач и обрубок Терёха, думая каждый о своём, затаённом. Шли и одним глазком назирали за крутёжкой столичного мира, а другим — наслаждались тем, что у них у самих в головах происходит. В Терёхиных мыслях прокручивался сценарий предстоящего шутовского променада. А у Дергача в голове, как фарш в мясорубке, всякая всячина вертелась. Шли сперва дворами, потом малыми переулками. И нежданно-негаданно вступили на проспект Академика Андрея Сахарова. Там тоже были люди. Правда, не шуты, не остолопы, а на редкость продвинутые и по первому впечатлению настолько милые, что хотелось их всех расцеловать, а потом излить в дружеских нежностях и подгавкиваньях свой щенячий восторг! Хотя, правду сказать, были среди обретавшихся на проспекте и люди чуток взвинченные. Особенно это касалось плотно обдуваемых перво-весенним ветерком дам-этикеток — так сразу прозвал их про себя Терёха. Миленьких, созданных по иностранным образцам этикеток было не так чтобы много, но шум и шелест от них стоял до небес. Никакими полит-вуменшами они, ясен перец, не были. А были дамами безгранично преданными известным политикам. До мозга костей и до визга извилин преданными! До мелкой дрожи в конечностях и крупных ссор меж собой при определении степеней этой преданности.
Некоторые из этикеток держали таблички на палочках с письменами-картинками. Были письмена необычными и не вполне понятными. Пудов Терентий, в последние дни увлечённо изучавший жизнь отдалённых народностей, — отчего, наверное, и привиделась ему блоха человеческая — определил таблички как написанные на языке ронго-ронго. Живописно выполненные письмена совокуплялись между собой в самых разных позициях. Такое рисуночное письмо должно быть нарочно доставили на проспект Сахарова из чужедальних стран, может даже, с острова Пасхи, потому как дамы-этикетки державшие таблички заметно ими кичились. Были, разумеется, и чисто русские плакаты. Три полу-грации и рядом с ними, выкормленный не хуже холощёного жеребца, мелкозавитой переросток, с лоснящимся от жира щеками, держали в руках по плакату, наклеенному на древесно-слоистые плиты. На первом плакате были вычерчены профили Ленина, Сталина и почему-то писателя Достоевского. Надпись под портретами гласила: «Они нам всю экологию портют»! На втором плакате голубовато-коричневого оттенка было начертано:
«За экологию!
Люблю я, Обь, твою муть!»
На третьем:
«Эко с нами!
Хвалю я муть твою, Обь!»
А на четвёртом – совсем кратко:
«Обь твою муть!»
Обозначился невдалеке и табунок разгневанных мужчин. Те почём зря кого-то костерили. Кого именно, Терёха и слышать не хотел. Притормозив, он даже два шага назад сделал, так не хотелось в последние дни окунаться в густо-булькающую политбаланду. «Одно дело, – раздражался про себя Терёха, — шествие дуралеев, пусть даже обалдуев, норовящих, власть обсмеяв, её же вразумить! И совсем другое — сборище опрокинутых шизиков, сдвинутых на политике». Неожиданно для себя, Терёха, выразительно, хоть и негромко пропел два задумчивых куплета из давно позабытой песенки:
Утром в поликлиники,
Всё спешат шизофреники.
Среди них есть Ботвинники,
И кавказские пленники,
Короли и карасики,
Паучки и личинки...
А приятель мой – часики:
Только что из починки.
— Идем, Фомич, идём! Скоро споёшь, да ещё как! Давай быстрей, ждут нас.
Не успел Терёха удивлённо вскинуть бровь, как Дергач взял тоном выше:
— Вот он! Не было, а есть! Привёл… Вы гляньте только! У него и дубина для истязания мировой демократии имеется!
Терёха, застеснявшись, увёл драгоценную маротту за спину.
— Cлушай меня, добрый охлос! Вот он, сикофант! Вот он, провокатор конкретный! Бей его! — Вдруг заорал благим матом в отзывчивое площадное пространство Дергач и сопроводил свой ор прикладыванием обеих рук к сердцу: мол, глядите и ужасайтесь, раскумекав, кого я вам приволок.
Первыми к Терёхе, как ни странно, ринулись дамы. Впереди двуногим конём скакала Колюся Простибоженко. Ставшая женщиной лишь полтора месяца назад, Колюся мужские свои привычки позабыть не успела, и потому, поплевав на ладони, закатила Терёшечке две смачных оплеухи: справа и слева.
— Это тебе за всё! — крикнула Колюся, и хотела добавить ещё что-то сурово-обличительное, однако ойкнула, пискнула и выдала одну только вымученную постельную улыбку.
Колюся — глазки яровистые, носик собчачий, шейка канделашистая, пальчики мизулистые, — застеснялась и даже на миг оступила. Зато стали толкать и пинать Терёху другие мужики и дамы. Ловкий и быстрый, он несколько раз увернулся, но всё-таки под напором толпы рухнул вниз. Правда, жезл при этом не выронил.
Прибился к дамско-мужской толпешке и какой-то коммуно-патриот, или как он тут же себя окрестил — отчизнолюб. Его с проспекта Сахарова стали гнать, но отчизнолюб не растерялся, крикнул, что должен вырвать с мясом из рук стукачонка имперский артефакт, а говоря другими словами, отнять осквернённый клоуном музейный посох.
— Какой осквернённый, — из последних сил отбивался Терёшечка, — я в церковь с мароттой ходил, и ничего, не гнал батюшка!
Слушать шута, однако, никто не стал. Отчизнолюб вырвал из рук лежащего жезл, хотел взять с собой, но потом с отвращением швырнул наземь, ещё и плюнул смачно. И тут же дамы, наваливаясь по очереди, стали таскать Терёху за роскошные, ничуть не седеющие темно-русые волосы, зубами и ногтями, порвали к едрени-фени его шутовской прикид, так что одежда теперь прикрывала шута лишь обрывками и клочьями.
Не отставали от дам-этикеток и мужики. Те — скорей лениво, чем злобно — продолжали пинать лежащего новенькими саламандровскими полуботинками.
Нервная по своей природе, а тут ещё и вмиг заведённая (не наркотой! Резкой программой действий, заложенной в слове «стукач») толпа мяла, била и крутила на месте Терёшечку, как наполовину облупленное, цветное пасхальное яйцо на тарелочке.
Грустно и молчаливо глядела со своей шестиметровой высоты, выполненная из бронзы и камня Стена Скорби на вороватое это побоище.Выбитые на горельефе множественные человеческие фигуры, ставшие символами казней, когда-то надломивших, но так до конца и не поколебавших волю огромной страны, казалось, чуть вздрагивали, и на секунду другую, обретали знакомые черты. Меж фигурамивиднелись двери-просветы, пройдя сквозькоторые,каждый из пришедших могпочувствоватьсебя на месте тех, кто был карательным мерам подвергнут, изановоощутитьценность никем самоуправно и преступно в данный временной отрезок не отнимаемойжизни.
Наперекор дневному времени, мягко, вполнакала пылали прожекторы. И в дневных этих огнях, как-то неохотно сливавшихся с природным светом, трепыхались тени и пятнышки, казавшиеся нацеленному глазу трепыханьем людских душ, стремившихся поскорее уйти со скорбной площади вверх, в небо, но пока невидимыми верёвочками, как те ловчие соколы за ногу, ещё привязанные к незримым колышкам, воткнутым в сырую и горючую землю.
«Кого ловишь, кого стережёшь на Земле человек? Не себя ли самого?» — проговорил негромко Терёха, и тут же подавленно смолк.
Журча, по камням окружавшим стену, стекала вода. В перерывах меж ором и свистом, звук воды хоть и слабо, а был слышен.
— Волоки его, сквозь прорезь! Пусть, гад, почувствует себя законно репрессированным!
«Я и сам-то не больно умён, а тут ещё мир — дурак… — словами Осипа Гвоздя попенял себе Терёха, и сердце его резко шатнулось в сторону, — Ух! Ух! Ничёсе… А всё ж дуралеи лучше умников. И хорошо бы умникам всерьёз прикоснуться к шутовству и дуралейству, в них спрятанному. Глядишь, вокруг посветлеет. А то другим карать не разрешают, а у самих один только сладосрастный репрессанс в мозгах…»
Через срединный просвет в Стене Скорби, подавленного недружелюбием, оглушённого несправедливостью, Терёху и поволокли.
— Стойте, — звенящим латунным дискантом, рассёкшим надвое гам толпы, вскрикнул вдруг какой-то паренёк, — остановитесь! Ишь, затеяли. Тут Стена Скорби! Так и скорбейте. А вы ругней и мордобоем только поганите горестные чувства.
— Наше чуйство такое: в пух и прах здесь всё разнести! Как в песне: до основанья! – Крикнула в ответ Колюся Простибоженко, снова отпавшая от сущности женской, и вернувшаяся к сущности грубой, мужской, — а уж опосля над вами шутами и дураками скорбеть будем.
— Неправда ваша. Жертвы, которые становятся карателями – хуже самих карателей!
— Хватай малолетнего! За такие мыслишки и его через прорезь протащим!
— Хорош орать. Покажи лучше, где он, пацан этот?
— И правда: кто кричал? Тут все свои вроде.
— За стеной, блин, видать спрятался!
Повисшую на мгновенье тишь, вдруг мутно-тинистой волной отплеснул в сторону заполошный буксирный голос:
— «ОМО-О-О-ОН!»
Терёху успели-таки проволочь сквозь прорезь и, чуть оттащив от Стены Скорби, бросили.
И побежали по опрокинутому навзничь шуту люди.
Из-под полуприкрытых век, он видел: обминают его студенточки на шпильках, перепрыгивают подростки в кроссовках, брезгливо обходят похрюкивающие матроны в стоптанных башмаках. И только двое важных господ, — судя по старорежимной ругани и кряхтенью, оба в летах, — свирепо, полной ступнёй, дважды наступили на лежащего: один на живот, другой на область паха.
Обрывки шевелимой ветерками Терёхиной блузы с орлами и серпами, так раздразнили некоторых, что ещё один господин, помоложе, вернулся, наклонился, тоже плюнул в исцарапанное ногтями лицо, сказал что-то на ломаном русском, разломил с хрустом о колено драгоценную маротту, и бросил обломки на тёплый от крови Терёхин живот. Потом подумал, обломки подхватил, отшвырнул подальше.
Поверженный шут закрыл глаза: боль нарастающая, боль адская, словно огромным ржавым шкворнем проткнула его снизу вверх, от паха до грудины.
Веки Терёхины схлопнулись…
Зато до невозможности расширились и округлились глаза тех, кто наблюдал за происходящим из окон ближних домов, тех, кого тоже булгачило и полошило трепыханье дневных огней, проплывавших над Стеной Скорби.
Смотрели на Терёху глаза завидущие и глаза хмельные, глаза мерклые и глаза огненные, глаза налитые кипящим стеклом готовые испепелить всех, на кого глядели, и глаза развратно посвечивавшие белёсой плёнкой, жаждавшие тех, кто хоть на миг в них заглянул, опоить допьяна, до́ смерти… Смотрели на лежащего глаза бегающие, безжизненные, бельмастые. Сухие, осоловелые, заплаканные, тяжко-ртутные! Глядели измученные, запухшие, курослепые, мёртвые. Вонзались лихорадочные, лешачьи, настырно сверлящие и протыкающие насквозь! Смотрели, надолго приникая к биноклям и совсем от них отказавшись. Смотрели с удивлением и сурово, а иногда — лукаво и даже подмигивая, словно собираясь спросить: ну что, шутец, допрыгался?
Разлепи Терёха в эти мгновенья веки — наверняка заметил бы и то, что само небо, как оказалось, тоже состоящее из тысяч и тысяч глаз, из удлинённых белков и выпуклых зрачков, приглядывается к нему. Мог бы ощутить и другое: виден он этому трёхмерному, тысячеглазому небу, раздвинувшему своё пространство в длину, высоту и глубину — до волоска, до красно-коричневых родинок на плечах, до последнего вывиха и мелкой царапины, до барабанных перепонок и забитых серой наружных слуховых проходов!..
Взгляды становились прикосновениями. Прикосновения оборачивались поглаживаниями. Оттого, что нападавшие задели какой-то нерв, Терёха на несколько минут потерял скособоченность зрения, стал видеть мир зорко, прямо…
И увидел он не заволокнутое грязно-дымной пеленой трёхмерное небо. Среди тысяч и тысяч небесных глаз выхватил взглядом — материнские, серо-зелёные. Часто мигая, мать с удивлением смотрела на взрослого Терёшечку и, казалось, не могла поверить тому, что дожил он до своих лет, а не умер, как и она, в молодости. Ну, а вслед за глазами матери, замерцали зрачки совсем уж изумрудно-зелёные: озорные, хитроватые, но и тайно грустящие.
Талка, Талочка! Маленькая, лёгкая, как плывущая по реке Вороне лодочка. Белотелая и быстроногая — шлёп-шлёп босыми ступнями по примятой траве, шлёп-шлёп по линолеуму!
От неожиданности шут застонал. Всё! Конец! Облом и обрыв! Вот почему жизнь без устали кособочила. Напрочь забыл он про Талку-Талочку-Наташку. Забыл как прожил с ней почти год, после того как смыло водочной волной бесштанную Айгуль.
Ниже асфальта, глубже земной коры провалился внезапно Терёха. Перестал ощущать боль, перестал накалять обиды. Чувствовал одно: вместе Талкой ушла из него навсегда тихая, но необоримая страсть к продлению рода, к переливаемому в детей бессмертию, ещё к чему-то высокому, неизъяснимому…
Кряканье скорой прервало мысли, смело́, как ненужный мусор, виде́ния. Туманно мелькнули лица фельдшера, докторицы. Но и они вмиг исказились, распались. И в этом исковерканном пространстве страданий и пустоты, налёгшим после мерцанья Талкиных глаз, оставалось Терёхе одно: ободрять себя речью. Что он и делал, повторяя сквозь боль, неясно откуда впрыгнувшие в мозг слова: «Не дырявь, не дырявь меня, перст Божий! У Стены Скорби я только прохожий!»
Здесь веки шутовские схлопнулись окончательно: жгучая загрудинно-паховая боль, просверлила ещё и ещё раз. Шут продолжал слышать урчание и плеск в животе у пожилого фельдшера, ворочавшего его на носилках, ощущал ласку молоденькой докторицы хлопотавшей рядом. Но потиху помалу начинал сквозь боль повторять про себя слова уже ни к ранению, ни к медперсоналу не относящиеся:
«Вверх-вниз. Рухнул-поднялся. Вниз, в сторону, вверх! Как шутовской жезл. Как целая, не разломленная надвое маротта… Вот, что она такое — жизнь. Зажатая в кулаке шутовская палка! И эту маротту, эту мороку, кто-то всё время подталкивает, как руку, под локоток: ведёт вправо, влево, вверх, вниз. Чтобы потом выбить из рук, уронить наземь, разломить надвое. Жизнь — маротта? Жизнь — морока, морок, мга? А за ней что? Сучья сутемь, тьма непроглядная?»
Шутовской жезл был сломан. Русский трикстер, каким ещё недавно мнил себя Пудов, — превратился в огромный кровоподтёк.
Недалеко от скорой, ещё не защёлкнувшей дверь, застыл Базиль Дергач. Терёху он не видел: смотрел мимо раненного, мимо кареты, мимо всего окружающего. И судя по наркотически расширенным зрачкам, виделось Дергачу нечто от проспекта Сахарова весьма и весьма удалённое. Он негромко повторял вслух:
— Миусская! Хитровская! Боровицкая!.. Театральная! Манежная! Разгуляй! Всюду и везде… Везде и всюду, они, долгожданные!
И впрямь: на Миуссе, на Хитровке, на Боровицкой и на Разгуляе — чуть поскрипывая от тяжко шатаемых, ещё не иссушенных ветром тел, рядами стояли виселицы. Причём виделись Дергачу эти площади в мутно-жёлтом свете. Когда-то он даже к врачу обращался. Врач-якут сперва пробурчал что-то невнятное, но потом выразился яснее: мол, видеть жизнь в жёлтых тонах, это всего-навсего — ксантопсия, происходящая от атеросклероза сосудов головного мозга:
— Нарушение, зрительного анализатора, у тебя, однако, паря, — добавил якут, и радостно засмеялся.
— Нарушение? Пускай! Пусть! Превосходно! Этим нарушением всё происходящее и обрушу! Конкретно обрушу! Де факто!
Чтобы лучше наблюдать мутный желтяк, страдающий ксантопсией Дергач, сплющил веки сильней. Восторг переполнял его.
«Столбы кленовые, петельки шелко́вые!» – Жмурясь, как самец рыси, пришёптывал Базиль, — и на них все прошлые и все нынешние под-правители и правители России: головой вниз, ногами вверх. Все без изъятия! Потому как — понимал, всё сильней зажигаясь от собственных дум Дергач, — тут и разбираться нечего! Будь ты граф Витте, будь Горчаков, будь Чичерин, Косыгин или даже Байбаков, — всех, всех на перекладину!..
Деликатно оправив Терёхину орлино-серпастую одежду, и ещё раз проверив крепость встроенных в «скорую» носилок, докторша, бережно раненного осуждая, сказала фельдшеру: «Как вырядился! Ты только глянь, Данилыч! А? И не холодно ему! Старик, а туда же, развлекухой занялся». «Все они здесь такие. Клоуны, шуты и ослы шестиухие». «Ага, ага, правда…»
Терёха хотел возразить: шуты и клоуны не одно и то же. Одно дело Осип Гвоздь, и совсем другое — паяцик Зеля. А что до осла шестиухого — так это райское, тихо-скорбное и тем-то как раз и располагающее к себе животное. Сил возражать, однако, не было. Да и поперёк собственных возражений почудилось совсем иное. Снова Терёха кожей ощутил потрескиванье маротты и попытался жезл ухватить. Но того рядом не было. Нашаривая жезл, смял он случайно длинный подол всё ещё суетившейся вокруг него докторицы и страшно пожалел о том, что в последние месяцы стал маротту безжалостно ненавидеть…
Шествие обалдуев
Тем временем «Шествие обалдуев», — как нарекли его в средне-высоких кабинетах, досадуя на то, что нет повода запретить, — решили начать без Терёхи. Бог знает, откуда выискалось в Москве столько шутов и ёр! Всё сильней переполняясь гордостью от числа своего и значения, головная часть колонны, нетерпеливо топталась на месте, готовясь, по первому знаку Синей Бороды, двинуться вперёд.
Еня Пырч, брыластый, белобрысый долгоносик, теперь, вместо индюшачьего зоба повязавший на шею громадный розовый бант, только что настучал по мобилке знакомому подполковнику Росгвардии про творимые шутами безобразия, и с вожделением ждал разгона, пусть и разрешённого, но от хвоста до носа подозрительного шествия. Пырч стоял в середине колоны: вроде отдельно от остальных, но в то же время словно бы и вместе со всеми. Росгвардейского спецназа всё не было. Внутренне Пырч обрушился на спецназ, но внешне, как всегда, предался дешёвому клоунизму. Чтобы отвлечься от ожидания росгвардейского набега Еня, вертанувшись, как самозаводящаяся игрушка, вокруг собственной оси, выкрикнул:
— Слыхали про Путина? В Израиль лечиться двинув.
— А он тебе сообщал? Откуда знаешь, куда он подался?
— Сорока на хвосте принесла.
— Молчи петушатина!
— Я не петух, а крикну курой — сердчишко твоё и оборвётся. Оборвётся, покатится, кошак его схавает, вмиг через кишки пропустит и тем сердчишком разжёванным, у дверей твоей же хаты нашкодит.
— Это што за шкодинзон укропистый тут объявился?
— От шкодинзона слышу! Ты хто, в натуре Я Еня Пырч! А ты старый хрыч кипятком обдатый!
— Винимание! Пошло движение. Господа фарсёры, готовьте ваши сценочки!..
Прибывший в Москву лишь накануне великого шутовского дня француз с русскими корнями мсье Канотье, стоявший от Пырча не слишком близко, но и не так чтобы далеко, видел как суетится рядом с крикуном другой клоун на ходулях, как показывает всем, то прилепленную к штанам обезьянью малиновую задницу, то выставляет изо рта узкий жёлтый язык со змеиной головкой на кончике. Правда, слов шута, желавшего затмить Пырча, француз расслышать не мог. Оставив попытки разобрать слова, мсье Канотье, решил просто любоваться зрелищем. Восхищаясь, он слегка недоумевал: в стране, где столько весёлых людей, должна царить необыкновенная радость. Однако, огладываясь на толпящихся зевак, мсье Канотье (а в детстве-юности — Марат Канатов) видел не столько радость, сколько затаённую горечь и какую-то не соответствующую празднику – наверняка чисто русскую — отрешённость.
Особенно смутила, но и притянула к себе мсье Канатова одна девушка: высокая, миловидная, в глубоком капюшоне, по ходу шествия, то вытиравшая слёзы, то неожиданно улыбавшаяся, потом снова впадавшая в печаль, а после громко смеющаяся, и под конец — прямо-таки хохочущая…
Варюха-горюха круглолицая, Варюха наивноглазая, приехала в Лужники глянуть на парад дуралеев неспроста. Вот только сама себе не могла объяснить, почему время от времени, радостно, но всё ж таки плачет. Может, потому, что не было в шутовских рядах Терентия Фомича, который вчера вскользь сообщил ей про это шествие, и пообещал, что-то очень завлекательное. Может, потому, что чуяла: таится в шутовстве какая-то страшная, дико регочущая, но вместе с тем и рыдающая сила, которую она никак не могла юным своим умом охватить и постигнуть…
Денёк мартовский начинал тускнеть. Но веселья от этого лишь прибавлялось.
Шли, кривляясь, манерные клоунессы, надували щёки площадные паяцы, крутили колёса малорослики-скоморохи. Проскакала, долбя асфальт железными копытами, актриса изображавшая кобылистую Тусю Стульчак. Запрыгал на одной ноге, обтянутой бледно-лиловым чулком, темнолицый и вислоносый Адам Педрилло, шутец Анны Иоанновны. В паузах между прыжками синьор Педрилло, наяривал на скрипочке, иногда как бы случайно прикасаясь кончиком смычка к своему мерцающему имени, выведенному горящим фосфором на лбу.
В толпе на Педриллу обратили внимание. Сбоку от Варюхи приземистый господин, одетый в полузимнее пальто и зелёные замшевые туфли, задрав подбородок, рассказывал даме возвышавшейся над ним на целую голову:
— Мдас…Поговаривают, будто этот самый Педриль женат был на плюгавой дурнушке, с вылупленными глазами и обвислым трясущимся подбородком. Если глянуть издалека, — нестерпимо козья бородка у неё была. Может за это, может, за что другое, а только жену педрильскую так и прозвали козой. И быдто бы одного разу сам обер-камергер Бирон, решив поддеть шута, спросил: “Правда ль, Адам, что на козе ты женат?” – “Истинная правда, мой повелитель! И теперь коза моя брюхата, с часу на час родит»,— ответил Бирону хитрый шут. Повременив добавил: «Будьте милостивы, не откажете по русскому обычаю навестить мою жёнушку и подарить что-нибудь младенцу-козлёнку на зубок”. И Бирон быдто бы передал разговор Анне Иоанновне. Та решила поразвлечься. Приказала шуту, сразу после родов жены лечь в постель с настоящей козой и пригласила весь свой двор навестить “радостную пару”. Коза в постели лежала смирно, лишь иногда помэкивала, и ножкой выставленной из-под одеяла игриво подрыгивала. Чем придворных сразу и привела в восторг. «На зубок» младенцу отвалили щедро. Мдас… В один день огромный капитал Педриль нажил. Стал в каретах ездить, из посуды золотой кушать.
Вот как, сладкая моя Рахиль, раньше шуты зарабатывали! Не то, что эти оборванцы!»
Вслед за Педриллой шестовали братья Прозоровские с медведем на длинной цепи.
Тех одели по-современному. Обряжать в старинные одежды денег видно не нашлось, поэтому просто навесили таблички с именами. Наперекор всеобщей шутовской радости, братья вели себя как-то злобновато: не стали, как при Иване Четвёртом, друг друга дубасить, зато сцепились с медведем — видно надоел им.
Но медведь не смирно-историческим, а современным оказался: вмиг раскровил кисть руки Прозоровскому младшему, после чего и старшего ударом лапы на асфальт опрокинул.
Шутки медвежьи зрителям не понравилось. Топтыгина вместе с братьями быстро увела полиция, мсье Канотье чертыхнулся, а Варюха сочувственно вздохнула.
Обратил на себя внимание и плакат, который несли двое ряженых. Надпись на плакате гласила: «Петровский карлик Яким Волков». Ехал под плакатом на крохотном самоходном автопогрузчике маленький краснощёкий человек. Был он обтянут натуральной волчьей шкурой, щедро обсыпан мукой и охапка иссохших цветов с левого плеча веником свисала. Карлик часто привставал, расстёгивал и опять застёгивал железную молнию на волчьей шкуре и, плотоядно касаясь губами нагрудного микрофона, пел песенку про кабацкую Францию, чем господина Канотье сильно умилил:
В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь ломаю руки,
От ярости и муки,
И людям что-то жалобно пою.
Звенят, гудят джаз-банды,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты…
Правда, конец песенки показался месье Канатову слишком уж русским и неоправданно грубым:
Свет сразу потушили,
Я помню, меня били,
По морде, словно в новый барабан…
За шутами шли скованные серебряными, а иногда и золотыми цепями, чернильные души. А говоря проще — пародируемые шутами городские чиндралы. Многие из них тянули руки ко рту, желая попробовать цепное золото на зубок. Однако дежурящие над ними малые дроны, вмиг подлетев, безжалостно клевали жадюг в темечко.
Особенно выделялся один из чиноманов: чубасто-носастый, с ушами, поросшими рыжей густой шерстью. Тот лизал драгметалл муравьедским далеко выставленным языком, слюну, выступавшую на губах втягивал, булькал ею, и глотал её, позолоченную, глотал! Частый заглот вызывал рвотный рефлекс. Золотистая жидкость выхлёстывала обратно изо рта и шутам-модераторам приходилось время от времени навешивать скованному цепью по рукам и ногам чубасто-носастому на грудь свежие слюнявчики.
Слюна драгоценная сверкала, чинодралы, едва сдерживая на людях страсть к добыче драгметалла из городских золотоносных жил, с вожделением постанывали.
Вдруг над шествием раздался двойной, дерзкий, враз разорвавший барабанные перепонки, звук. Словно разодрали надвое, а потом ещё и на четвертинки громадной газетный лист. Чиноманы как по команде присели. Испугавшись разрыва и треска, сплющили веки слабонервные, приложили руки к сердцам слабодушные, замерли в тоске безвольные.
— Quésaco? Это что есть? — вскрикнул месье Канотье, и не только он один.
— Такэто… Морда у критикана Дранишникова треснула, — пояснил проезжавший на самокате дежурный шут, — всё тянул и тянул денежки из нищих писак, всё мало и мало ему было. Да ещё и вокруг чинуш иноземных, под прикрытием у нас подрабатывающих, без конца увивался. Вот и будет теперь ходить с треснувшей пополам харей!..
Скованные цепями богопротивной прибыли и бесстыжего мздоимства, хапуны и куроцапы стали мало-помалу, отдаляться.
Ну, а после хапужников, дивно разнообразными походочками, выступили прекрасные и прекраснейшие! Проще говоря, двинулись по мостовой не обременённые тяжким трудом, не оскорблённые ватниками и грубой рабочей одеждой женщины. Пудов ласково звал их «шутовскими тростиночками» и рольки им предназначил хоть и комичные, а всё ж таки не слишком слабый пол принижающие.
И походочки, надо признать, были на загляденье! Рьяно-подпрыгивающие и упёрто-ровные, козьи и пацанские, мученические и пиратски-вкрадчивые. Ну и, понятное дело, разнообразно виляющие. Правда, некоторые из обладательниц круто-виляющих походок выступали на подиумных ногах почему-то закрыв глаза, и поэтому от напряжения мышц часто спотыкались, даже падали. Но неостановимо двигались вперёд, вдаль!
Притянули внимание толпы и дамы ступавшие по-медвежьи. Особенно выделялась среди них одна: с истомляюще знакомым лицом, мелькавшим, то в одной, то в другой телепрограмме. Эта мадам в строгой синей форме — правда, без знаков различия — шла на скошенных квадратных каблуках, косолапя и разъезжаясь на собственных ногах. Но этим отнюдь не смущалась, наоборот, грозно зыркала по сторонам: кому бы из глядящих на неё и при этом беззаконно хохочущих зевак, прищемить хвост, обломать рога, кого бы приструнить, прищучить, притянуть к ответственности!
Невзирая на разность походок, цель у группы шутовских подруг, осмеивавших, надо сказать, лишь крохотную часть современных российских женщин, была одна. Гундя в навесные микрофоны, сговаривались они и от мужиков, и от детей навсегда свалить.
— Чайлдфри, чайлдфри, чайлдфри! — курлыкали прекрасные и прекраснейшие.
Валить — судя по плакатам — собирались на Фиджи или в Новую Каледонию. Где и собирались предаться любви к природе, совокуплению с ракушками и растениями, а также подглядыванью за пингвинами, на лету занимающимися любовью и следующими воздушным путём (обязательно воздушным! Так про пингвинов отчего-то дамам мечталось) из Новой Каледонии в Южную Африку.
Особенно хороша была вперёдсмотрящая Халат-Чурекова: крутившаяся юлой под огромным транспарантом с надписью: «Вот вам — наш свободный «Танец мира»! Вот вам наш «Peace Danse»!
В прозрачном мотоциклетном шлеме и нежно-фиалковых штанцах-алладинах, с крупным гусиным пером лихо встромленным пониже спины, — вперёд смотрящая, танцуя, с ласковой похотью поглядывала, то вправо, то влево, то назад, то вперёд! И при этом — опять-таки в микрофон — зазывно пела.
Ох, и песня вылетала из уст госпожи Халат-Чурековой, ох, и песенка!
Ты наплюй на меня, наплюй,
А потом всю мордень, размалюй!
А иначе тебя, мужика,
Переедет, как трактор, тоска…
Но и этот рабовладельческий романс затмил распахнутый, изнутри и снаружи пурпурный гроб, который, вслед за исполнявшей «Танец мира» Халат-Чурековой, поставив на попа, толкали на тележке со спинкой четыре мутнолицых нано-яванца...
И стоял в гробу муляж человеческий. Под ним надпись — «Л. И. Брежнев». Несли и портрет Генсека. Причём стоял Леонид Ильич в гробу спиной к зрителям. Пиджак его был поддёрнут, а брюки те, наоборот, приспущены. Один из шутов время от времени подбегал к гробу и почтительно целовал муляж в мягкое место.
Чтобы не оставалось сомнений в бережном и даже благоговейном отношении к муляжу, ещё один шут, повторял в рупор ловко придуманный, но, правду сказать, слегка будоражащий диалог, озвучивая его двумя голосами: ломающимся подростковым тенорком и голосом давно почившего Генсека.
— Дорогой Леонид Ильич, а почему Вы завещали похоронить себя спиной вверх?
— Да потому, мальчик, что я точно знал: в годы ваших прт… прт… пер-тур-ба-ций, вы ещё миллион раз в мягкие места меня поцелуете!
Сквозь шум и гам праздничного веселья, мсье Канотье всё пытался втолковать своему соседу, бритому наголо татарину, на часок отвалившему от ремонтно-мусорных дел:
— Поймите, почтеннейший! Корни шутовства уходят в глубь мифологии, — вспоминал мсье Канатов недавно им читанное, — а она, общая для всех культур и народов. Шут сегодняшний сильно напоминает старинного трикстера — ниспровергателя правил, ловкача, пройдоху. Лучшие трикстеры, мсье, — царь китайских обезьян Сунь-Укун и греческий Гермес.
Мсье татарин загадочно кивал, не мешая стебанутому немцу испражнять свои мысли. И лишь иногда, сыто икая, приговаривал:
— Видали мы ваших трикстеро́в. В гробешнике… ик… видали.
— И потом, мсье: с точки зрения вселенской гармонии, трикстер — это и разрушение, и созидание разом. Он придаёт окостенелому миру нежность и смак. Он есть — ожидаемо неожиданный. Трикстер — есть такой мужчина, который не хочет ни блага, ни зла, а хочет только их осмеяния! Он есть — ваш русский Никитос Хрущов.
— Манали… ик… мы твого Хруща.
Обидевшись на равнодушие собеседника, мсье Канатов развернулся в другую сторону, и мигом устремил движения своего ума и тела к девушке в глубоком капюшоне…
Варюха маялась сердцем: Терентия Фомича всё не было. Уже пронесли трёхметровую раскрытую табакерку с внутренней гравировкой: «Шут Терёха». Но никто из табакерки не выпрыгнул, не заорал командирским голосом: «За мной — шут-тяры!» Табакерка была пуста.
Зато увидала Варюха другое: вырос внезапно над шествием надувной, парящий в воздухе мост, крупно изрисованный голубенькими ночными горшками. Под мост этот медленно въехал на четырёхколёсном, с широкой платформой вместо туловища, деревянном осле, влекомый двумя «гуталинчиками» — так Варюха называла афроамериканцев – развалившийся на вышитой украинской попоне, лысостриженный, а может, и природно лысый человечишко. Из-за пазухи торчит крупный, наполовину обгрызенный кукурузный початок. От початка — густой пар. Лишь только пар от початка рассеялся, на лысой голове волшебным образом образовалась горка пепла. И над этой горкой — чья-то курительная трубка, поддёргиваемая верёвочкой свисавшей с надувного моста, стала сама себя выбивать о лысый череп. Стукнет раз — горка пепла на лысине вырастет. Стукнет два — пепел, как ветром сдует. И так без конца, без краю. Подивилась и обрадовалась Варюха такой чудесной механике. Но вот некоторым зевакам московским выбивание трубки о лысину не понравилось. Раздался свист, кто-то истошно взвыл.
— Оттепель! Он же оттепель нам из Штатов привёз!
— Хлябь он привёз, а не оттепель, остолопы!
— Ох, и р-р-ростепелюга, девочки вы мои хор-рошие, — из глубины народных толп, взрокотал грозно-старушечий бас, — ох, и ростепелюга при нём была!..
— Бахвал и трухач! И ещё чепушило. Вот он кто, ваш Кукуцапо́ль! — звонко отвечал голосок понежней, помоложе.
— Дура ты, и дурацкое имечко пришпандорила!
— И ничего не пришпандорила. Его так все и звали: Кукуцаполь! Что означает – кукуруза царица полей. А вместо министерства ж/д транспорта, он сразу два министерства создал: министерство «Туда» — и министерство «Сюда»! Даже столица из-за него была вынуждена на печное отопление перейти. На целый год! Помните?
— Не помню, — рокотнула старуха — с чего бы это Москве на печное отопление переходить?
— Так ведь слишком много дров Кукуцаполь ваш наломал!
Услыхав про Кукуцаполя мсье Канатов так расхохотался, что чуть импланты не выпали.
«А и правда, противный какой. Только не Кукуцаполь он, а Лысовер…», — произнесла в четверть звука Варюха. И как только она это произнесла, – «Лысовер» с кукурузным початком за пазухой исчез. Но горка пепла человеческого, (а что пепел человеческий, Варюхе ясно стало сразу) благодаря световым эффектам и всяким иным штучкам-дрючкам висеть осталась. «Сажа жирна. Пепел сух», — вспомнились Варюхе слова Терентия Фомича. — «А тутошний пепел не сухой. Он тощий какой-то. Видно от недокормленных людей произошёл», — уже в который раз за день, всхлипнула Варюха… Тут униформисты в нежно-фиолетовых пиджаках, поволокли на верёвке, как бычка на бойню, раздутого водянкой фигляра с лицом цвета папируса, в представительском дорогом костюме. Фигляр был мёртв. Но зачем-то притворялся живым. По виду — ни дать, ни взять Горбачёв. Однако, надпись на темечке косо начертанная, сообщала другое: «Азеф Иудыч». Мёртво-живой человек, раздутый водянкой сказанных когда-то лишних слов, часто и беспомощно озирался, иногда бухался на колени. Но сочувствия не вызывал: только издёвки, ругань, свист. Кто-то даже крикнул: «Вы только на него гляньте! Сам умер, а сам перед нами тут вышагивает. Тогда он даже не Иудыч, он — Имудоныч!..»
Внезапно сбоку, справа, резко оттеснив в сторону никому не нужного теперь Имудоныча, примкнули к шествию два шута, один из которых Варюху сразу же покорил. «Ушлёпок» и «Ерон» было вычерчено на таблицах зацепленных верёвочками за чисто вымытые белые шеи. Ушлёпок ехал на Ероне, подбадривая того коваными пятками и криками: «Покажи им, Ерон Питерский! Покажи своё шутовское седло, расстегни поскорей штаны!»
Варюха, стыдясь, отвернулась, но краем глаза заметила: никакие штаны Ерон Питерский расстёгивать даже не собирался. Больше того: сбросив Ушлёпка на асфальт, стал того дубасить. Что-то явно пошло не так, не по сценарию, написанному сметливым Терёхой… Из приёмного покоя 23-й, имени доктора Давыдовского больницы, потасовку между Ероном и Ушлёпком, видеть Терёха, конечно, не мог. Но что-то похожее, смутно чуял. Ещё месяц назад послал он эсэмэски в Питер сразу пяти шутам. Согласились участвовать двое: Терёхин любимый шут Ерон — само имя грело душу своим первоначальным греческим значением: «священный», — и нелюбимый, но со вздохом вставленный в программу клоуняра Ушлёпок. Терёха всегда любил Питер стройный, Питер раздумчивый. Приезжая туда, шутовство, словно дырявый плащ, сбрасывал на пол, бузить прекращал, ходил по Невскому пружинисто, едва-едва касаясь земли, смеялся необидно. Не дождавшись Терёхи, Ерон и Ушлёпок самочинно врезались в толпу шутов и теперь пинались и кричали, что не вполне соответствовало их шутовским ролям. Вдруг Ерон пинаться перестал. Распрямившись во весь свой немалый рост: «Сантиметров 185 не меньше», — с восхищением подумала Варюха — Питерский братски погладил Ушлёпка по голове и не истраченным на ругань и проклятия голосом, в навесной микрофон запел:
Питер-свет, Питер-смех,
Ты, конечно, краше всех!
Питер-луч и Питер-соль
Для тебя готовят боль.
Здесь даже Ушлёпок сам себя приструнил, быстренько переменил на лице маску, стал благообразней, печальней. Вдруг решившись, он стремительно присел и похлопал себя по плечам: садись, мол. Ерону Питерскому дважды повторять не надо было. Он вскочил Ушлёпку на спину и, несильно колотя того пятками по бёдрам, песенку свою продолжил:
Но сквозь боль и через смех
Станешь, Питер, крепче всех!
А на будущей войне,
Будешь славен ты вдвойне!
Чем Ерон так понравился Варюхе, она и сама бы сказать не могла. Может, тем, что песенку спел волнительную и Ушлёпка по щеке поплескал незлобиво, ласково. Или, тем, что всем своим видом и прикладыванием руки к вилочковой железе (или к железе счастья, про которую Варюхе объяснили в группе «Ранней физиологической близости») — старался показать: он, Ерон, отнюдь не запроданец, как Имудоныч, не чепушило, как мордожопый Кукуцаполь! Да и шутовское облачение имел на себе Ерон Питерский едва ли не ангельское: золотистое, полупрозрачное, а в словах представал возвышенно-ироничным. Даже его огромные, лаковые, 67-го размера ботинки, с расквашенными, но жутко радостными носами сразу к себе располагали.
— Что мы шествием этим хотели сказать? – внезапно спросил зевак Ерон. И сам себе в микрофон ответил: — Всю тайную драматургию этого дела раскроет позже шут Терентий. А пока скажу одно: нет конца и края злу! Но нет конца-краю и насмешке над ним! А где есть сурово-комичное шутовство — там зло, как негодная ткань трещит и рвётся. Железные кандалы и тиски разламываются, опадают вниз. Земля ускоряет вращенье и медленно, но верно приближается к созревшей для ласк крутобокой Луне. Жизнь выпадает из обыденных скреп и входит в область эфирных тайн. Вот поэтому – ждёт нас в скором времени действительность несказанная. Отяжелённое грузом зла и страстей бытие человеческое вдруг обретёт крылышки. И тогда, пролетая над былым, искусанным цифровой корыстью, иссечённым наследственными распрями существованием, разбрызнется богомудрый смех, зазвучит озорная нескончаемая пародия или как раньше её называли — перепеснь. А вслед за перепеснью шуто-притчевое слово зазвучит… И станет это слово опять, как и во время оно, причиной всего, что случится дальше!
— Поняли, мархуры винторогие, что вам Ерон говорит? — крикнул, ликуя, враз выпрямившийся и даже побледневший от гордости за Ероновы слова, Ушлёпок.
— И станет это слово, — продолжил неожиданную речь Ерон — воздушным, едва уследимым именем, станет тонкотелесным имяславием: наделённым неимоверной силой и способностью проникать в недоступные до той поры глубины, высоты...
Про то, что одежонкой и расквашенными ботинками для Ерона разжился именно Терентий Фомич, — Варюхе, ясное дело, известно не было. Но всё равно: что-то приязненное, давно знакомое и даже родное почуялось девушке в Ероне. Именно в миг восхищения Ероном, залившим тёпло-сладким стыдом Варюхины щёчки, мсье Канотье с девушкой в глубоком капюшоне знакомиться и подошёл. Разговор его — в меру франкофонистый, в меру уснащённый русскими уменьшительными суффиксами – был нежен, горяч, руки так и норовили дотронуться до Варюхиных плеч, сдёрнуть капюшон, обхватить плечи, а затем и манящие бёдра. Но раздобары и телодвижения француза были Варюхе до одного места. Правда, пнуть приезжего или огреть его сумочкой по спине она почему-то не решалась. Да и не до того в эти мгновения было, так сильно увлёк её шут Ерон, сказавший враз обогревшие, хоть и не вполне понятные слова!
Ерон Питерский давно скрылся, француз не отступал, вот почему снова стали душить Варюху слёзы, ни капли сочувствия, как ей становилось ясно, у города и мира не вызывавшие. А когда стал приближаться прозрачный — 2 на 4 метра — куб, который несли на плечах четыре нанайца с жёлтыми лентами в косичках, то и вовсе засобиралась она уходить. Может, раздосадовала девушку косая надпись на кубе, гласившая: «Вакантные места — здесь!», может, что-то другое, но, только, круто развернув себя на каблучках, Варюха-горюха шутовской променаж стремительно покинула.
Тем временем «Шествие обалдуев», — как нарекли его в средне-высоких кабинетах, досадуя на то, что нет повода запретить, — решили начать без Терёхи. Бог знает, откуда выискалось в Москве столько шутов и ёр! Всё сильней переполняясь гордостью от числа своего и значения, головная часть колонны, нетерпеливо топталась на месте, готовясь, по первому знаку Синей Бороды, двинуться вперёд.
Еня Пырч, брыластый, белобрысый долгоносик, теперь, вместо индюшачьего зоба повязавший на шею громадный розовый бант, только что настучал по мобилке знакомому подполковнику Росгвардии про творимые шутами безобразия, и с вожделением ждал разгона, пусть и разрешённого, но от хвоста до носа подозрительного шествия. Пырч стоял в середине колоны: вроде отдельно от остальных, но в то же время словно бы и вместе со всеми. Росгвардейского спецназа всё не было. Внутренне Пырч обрушился на спецназ, но внешне, как всегда, предался дешёвому клоунизму. Чтобы отвлечься от ожидания росгвардейского набега Еня, вертанувшись, как самозаводящаяся игрушка, вокруг собственной оси, выкрикнул:
— Слыхали про Путина? В Израиль лечиться двинув.
— А он тебе сообщал? Откуда знаешь, куда он подался?
— Сорока на хвосте принесла.
— Молчи петушатина!
— Я не петух, а крикну курой — сердчишко твоё и оборвётся. Оборвётся, покатится, кошак его схавает, вмиг через кишки пропустит и тем сердчишком разжёванным, у дверей твоей же хаты нашкодит.
— Это што за шкодинзон укропистый тут объявился?
— От шкодинзона слышу! Ты хто, в натуре Я Еня Пырч! А ты старый хрыч кипятком обдатый!
— Винимание! Пошло движение. Господа фарсёры, готовьте ваши сценочки!..
Прибывший в Москву лишь накануне великого шутовского дня француз с русскими корнями мсье Канотье, стоявший от Пырча не слишком близко, но и не так чтобы далеко, видел как суетится рядом с крикуном другой клоун на ходулях, как показывает всем, то прилепленную к штанам обезьянью малиновую задницу, то выставляет изо рта узкий жёлтый язык со змеиной головкой на кончике. Правда, слов шута, желавшего затмить Пырча, француз расслышать не мог. Оставив попытки разобрать слова, мсье Канотье, решил просто любоваться зрелищем. Восхищаясь, он слегка недоумевал: в стране, где столько весёлых людей, должна царить необыкновенная радость. Однако, огладываясь на толпящихся зевак, мсье Канотье (а в детстве-юности — Марат Канатов) видел не столько радость, сколько затаённую горечь и какую-то не соответствующую празднику – наверняка чисто русскую — отрешённость.
Особенно смутила, но и притянула к себе мсье Канатова одна девушка: высокая, миловидная, в глубоком капюшоне, по ходу шествия, то вытиравшая слёзы, то неожиданно улыбавшаяся, потом снова впадавшая в печаль, а после громко смеющаяся, и под конец — прямо-таки хохочущая…
Варюха-горюха круглолицая, Варюха наивноглазая, приехала в Лужники глянуть на парад дуралеев неспроста. Вот только сама себе не могла объяснить, почему время от времени, радостно, но всё ж таки плачет. Может, потому, что не было в шутовских рядах Терентия Фомича, который вчера вскользь сообщил ей про это шествие, и пообещал, что-то очень завлекательное. Может, потому, что чуяла: таится в шутовстве какая-то страшная, дико регочущая, но вместе с тем и рыдающая сила, которую она никак не могла юным своим умом охватить и постигнуть…
Денёк мартовский начинал тускнеть. Но веселья от этого лишь прибавлялось.
Шли, кривляясь, манерные клоунессы, надували щёки площадные паяцы, крутили колёса малорослики-скоморохи. Проскакала, долбя асфальт железными копытами, актриса изображавшая кобылистую Тусю Стульчак. Запрыгал на одной ноге, обтянутой бледно-лиловым чулком, темнолицый и вислоносый Адам Педрилло, шутец Анны Иоанновны. В паузах между прыжками синьор Педрилло, наяривал на скрипочке, иногда как бы случайно прикасаясь кончиком смычка к своему мерцающему имени, выведенному горящим фосфором на лбу.
В толпе на Педриллу обратили внимание. Сбоку от Варюхи приземистый господин, одетый в полузимнее пальто и зелёные замшевые туфли, задрав подбородок, рассказывал даме возвышавшейся над ним на целую голову:
— Мдас…Поговаривают, будто этот самый Педриль женат был на плюгавой дурнушке, с вылупленными глазами и обвислым трясущимся подбородком. Если глянуть издалека, — нестерпимо козья бородка у неё была. Может за это, может, за что другое, а только жену педрильскую так и прозвали козой. И быдто бы одного разу сам обер-камергер Бирон, решив поддеть шута, спросил: “Правда ль, Адам, что на козе ты женат?” – “Истинная правда, мой повелитель! И теперь коза моя брюхата, с часу на час родит»,— ответил Бирону хитрый шут. Повременив добавил: «Будьте милостивы, не откажете по русскому обычаю навестить мою жёнушку и подарить что-нибудь младенцу-козлёнку на зубок”. И Бирон быдто бы передал разговор Анне Иоанновне. Та решила поразвлечься. Приказала шуту, сразу после родов жены лечь в постель с настоящей козой и пригласила весь свой двор навестить “радостную пару”. Коза в постели лежала смирно, лишь иногда помэкивала, и ножкой выставленной из-под одеяла игриво подрыгивала. Чем придворных сразу и привела в восторг. «На зубок» младенцу отвалили щедро. Мдас… В один день огромный капитал Педриль нажил. Стал в каретах ездить, из посуды золотой кушать.
Вот как, сладкая моя Рахиль, раньше шуты зарабатывали! Не то, что эти оборванцы!»
Вслед за Педриллой шестовали братья Прозоровские с медведем на длинной цепи.
Тех одели по-современному. Обряжать в старинные одежды денег видно не нашлось, поэтому просто навесили таблички с именами. Наперекор всеобщей шутовской радости, братья вели себя как-то злобновато: не стали, как при Иване Четвёртом, друг друга дубасить, зато сцепились с медведем — видно надоел им.
Но медведь не смирно-историческим, а современным оказался: вмиг раскровил кисть руки Прозоровскому младшему, после чего и старшего ударом лапы на асфальт опрокинул.
Шутки медвежьи зрителям не понравилось. Топтыгина вместе с братьями быстро увела полиция, мсье Канотье чертыхнулся, а Варюха сочувственно вздохнула.
Обратил на себя внимание и плакат, который несли двое ряженых. Надпись на плакате гласила: «Петровский карлик Яким Волков». Ехал под плакатом на крохотном самоходном автопогрузчике маленький краснощёкий человек. Был он обтянут натуральной волчьей шкурой, щедро обсыпан мукой и охапка иссохших цветов с левого плеча веником свисала. Карлик часто привставал, расстёгивал и опять застёгивал железную молнию на волчьей шкуре и, плотоядно касаясь губами нагрудного микрофона, пел песенку про кабацкую Францию, чем господина Канотье сильно умилил:
В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь ломаю руки,
От ярости и муки,
И людям что-то жалобно пою.
Звенят, гудят джаз-банды,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты…
Правда, конец песенки показался месье Канатову слишком уж русским и неоправданно грубым:
Свет сразу потушили,
Я помню, меня били,
По морде, словно в новый барабан…
За шутами шли скованные серебряными, а иногда и золотыми цепями, чернильные души. А говоря проще — пародируемые шутами городские чиндралы. Многие из них тянули руки ко рту, желая попробовать цепное золото на зубок. Однако дежурящие над ними малые дроны, вмиг подлетев, безжалостно клевали жадюг в темечко.
Особенно выделялся один из чиноманов: чубасто-носастый, с ушами, поросшими рыжей густой шерстью. Тот лизал драгметалл муравьедским далеко выставленным языком, слюну, выступавшую на губах втягивал, булькал ею, и глотал её, позолоченную, глотал! Частый заглот вызывал рвотный рефлекс. Золотистая жидкость выхлёстывала обратно изо рта и шутам-модераторам приходилось время от времени навешивать скованному цепью по рукам и ногам чубасто-носастому на грудь свежие слюнявчики.
Слюна драгоценная сверкала, чинодралы, едва сдерживая на людях страсть к добыче драгметалла из городских золотоносных жил, с вожделением постанывали.
Вдруг над шествием раздался двойной, дерзкий, враз разорвавший барабанные перепонки, звук. Словно разодрали надвое, а потом ещё и на четвертинки громадной газетный лист. Чиноманы как по команде присели. Испугавшись разрыва и треска, сплющили веки слабонервные, приложили руки к сердцам слабодушные, замерли в тоске безвольные.
— Quésaco? Это что есть? — вскрикнул месье Канотье, и не только он один.
— Такэто… Морда у критикана Дранишникова треснула, — пояснил проезжавший на самокате дежурный шут, — всё тянул и тянул денежки из нищих писак, всё мало и мало ему было. Да ещё и вокруг чинуш иноземных, под прикрытием у нас подрабатывающих, без конца увивался. Вот и будет теперь ходить с треснувшей пополам харей!..
Скованные цепями богопротивной прибыли и бесстыжего мздоимства, хапуны и куроцапы стали мало-помалу, отдаляться.
Ну, а после хапужников, дивно разнообразными походочками, выступили прекрасные и прекраснейшие! Проще говоря, двинулись по мостовой не обременённые тяжким трудом, не оскорблённые ватниками и грубой рабочей одеждой женщины. Пудов ласково звал их «шутовскими тростиночками» и рольки им предназначил хоть и комичные, а всё ж таки не слишком слабый пол принижающие.
И походочки, надо признать, были на загляденье! Рьяно-подпрыгивающие и упёрто-ровные, козьи и пацанские, мученические и пиратски-вкрадчивые. Ну и, понятное дело, разнообразно виляющие. Правда, некоторые из обладательниц круто-виляющих походок выступали на подиумных ногах почему-то закрыв глаза, и поэтому от напряжения мышц часто спотыкались, даже падали. Но неостановимо двигались вперёд, вдаль!
Притянули внимание толпы и дамы ступавшие по-медвежьи. Особенно выделялась среди них одна: с истомляюще знакомым лицом, мелькавшим, то в одной, то в другой телепрограмме. Эта мадам в строгой синей форме — правда, без знаков различия — шла на скошенных квадратных каблуках, косолапя и разъезжаясь на собственных ногах. Но этим отнюдь не смущалась, наоборот, грозно зыркала по сторонам: кому бы из глядящих на неё и при этом беззаконно хохочущих зевак, прищемить хвост, обломать рога, кого бы приструнить, прищучить, притянуть к ответственности!
Невзирая на разность походок, цель у группы шутовских подруг, осмеивавших, надо сказать, лишь крохотную часть современных российских женщин, была одна. Гундя в навесные микрофоны, сговаривались они и от мужиков, и от детей навсегда свалить.
— Чайлдфри, чайлдфри, чайлдфри! — курлыкали прекрасные и прекраснейшие.
Валить — судя по плакатам — собирались на Фиджи или в Новую Каледонию. Где и собирались предаться любви к природе, совокуплению с ракушками и растениями, а также подглядыванью за пингвинами, на лету занимающимися любовью и следующими воздушным путём (обязательно воздушным! Так про пингвинов отчего-то дамам мечталось) из Новой Каледонии в Южную Африку.
Особенно хороша была вперёдсмотрящая Халат-Чурекова: крутившаяся юлой под огромным транспарантом с надписью: «Вот вам — наш свободный «Танец мира»! Вот вам наш «Peace Danse»!
В прозрачном мотоциклетном шлеме и нежно-фиалковых штанцах-алладинах, с крупным гусиным пером лихо встромленным пониже спины, — вперёд смотрящая, танцуя, с ласковой похотью поглядывала, то вправо, то влево, то назад, то вперёд! И при этом — опять-таки в микрофон — зазывно пела.
Ох, и песня вылетала из уст госпожи Халат-Чурековой, ох, и песенка!
Ты наплюй на меня, наплюй,
А потом всю мордень, размалюй!
А иначе тебя, мужика,
Переедет, как трактор, тоска…
Но и этот рабовладельческий романс затмил распахнутый, изнутри и снаружи пурпурный гроб, который, вслед за исполнявшей «Танец мира» Халат-Чурековой, поставив на попа, толкали на тележке со спинкой четыре мутнолицых нано-яванца...
И стоял в гробу муляж человеческий. Под ним надпись — «Л. И. Брежнев». Несли и портрет Генсека. Причём стоял Леонид Ильич в гробу спиной к зрителям. Пиджак его был поддёрнут, а брюки те, наоборот, приспущены. Один из шутов время от времени подбегал к гробу и почтительно целовал муляж в мягкое место.
Чтобы не оставалось сомнений в бережном и даже благоговейном отношении к муляжу, ещё один шут, повторял в рупор ловко придуманный, но, правду сказать, слегка будоражащий диалог, озвучивая его двумя голосами: ломающимся подростковым тенорком и голосом давно почившего Генсека.
— Дорогой Леонид Ильич, а почему Вы завещали похоронить себя спиной вверх?
— Да потому, мальчик, что я точно знал: в годы ваших прт… прт… пер-тур-ба-ций, вы ещё миллион раз в мягкие места меня поцелуете!
Сквозь шум и гам праздничного веселья, мсье Канотье всё пытался втолковать своему соседу, бритому наголо татарину, на часок отвалившему от ремонтно-мусорных дел:
— Поймите, почтеннейший! Корни шутовства уходят в глубь мифологии, — вспоминал мсье Канатов недавно им читанное, — а она, общая для всех культур и народов. Шут сегодняшний сильно напоминает старинного трикстера — ниспровергателя правил, ловкача, пройдоху. Лучшие трикстеры, мсье, — царь китайских обезьян Сунь-Укун и греческий Гермес.
Мсье татарин загадочно кивал, не мешая стебанутому немцу испражнять свои мысли. И лишь иногда, сыто икая, приговаривал:
— Видали мы ваших трикстеро́в. В гробешнике… ик… видали.
— И потом, мсье: с точки зрения вселенской гармонии, трикстер — это и разрушение, и созидание разом. Он придаёт окостенелому миру нежность и смак. Он есть — ожидаемо неожиданный. Трикстер — есть такой мужчина, который не хочет ни блага, ни зла, а хочет только их осмеяния! Он есть — ваш русский Никитос Хрущов.
— Манали… ик… мы твого Хруща.
Обидевшись на равнодушие собеседника, мсье Канатов развернулся в другую сторону, и мигом устремил движения своего ума и тела к девушке в глубоком капюшоне…
Варюха маялась сердцем: Терентия Фомича всё не было. Уже пронесли трёхметровую раскрытую табакерку с внутренней гравировкой: «Шут Терёха». Но никто из табакерки не выпрыгнул, не заорал командирским голосом: «За мной — шут-тяры!» Табакерка была пуста.
Зато увидала Варюха другое: вырос внезапно над шествием надувной, парящий в воздухе мост, крупно изрисованный голубенькими ночными горшками. Под мост этот медленно въехал на четырёхколёсном, с широкой платформой вместо туловища, деревянном осле, влекомый двумя «гуталинчиками» — так Варюха называла афроамериканцев – развалившийся на вышитой украинской попоне, лысостриженный, а может, и природно лысый человечишко. Из-за пазухи торчит крупный, наполовину обгрызенный кукурузный початок. От початка — густой пар. Лишь только пар от початка рассеялся, на лысой голове волшебным образом образовалась горка пепла. И над этой горкой — чья-то курительная трубка, поддёргиваемая верёвочкой свисавшей с надувного моста, стала сама себя выбивать о лысый череп. Стукнет раз — горка пепла на лысине вырастет. Стукнет два — пепел, как ветром сдует. И так без конца, без краю. Подивилась и обрадовалась Варюха такой чудесной механике. Но вот некоторым зевакам московским выбивание трубки о лысину не понравилось. Раздался свист, кто-то истошно взвыл.
— Оттепель! Он же оттепель нам из Штатов привёз!
— Хлябь он привёз, а не оттепель, остолопы!
— Ох, и р-р-ростепелюга, девочки вы мои хор-рошие, — из глубины народных толп, взрокотал грозно-старушечий бас, — ох, и ростепелюга при нём была!..
— Бахвал и трухач! И ещё чепушило. Вот он кто, ваш Кукуцапо́ль! — звонко отвечал голосок понежней, помоложе.
— Дура ты, и дурацкое имечко пришпандорила!
— И ничего не пришпандорила. Его так все и звали: Кукуцаполь! Что означает – кукуруза царица полей. А вместо министерства ж/д транспорта, он сразу два министерства создал: министерство «Туда» — и министерство «Сюда»! Даже столица из-за него была вынуждена на печное отопление перейти. На целый год! Помните?
— Не помню, — рокотнула старуха — с чего бы это Москве на печное отопление переходить?
— Так ведь слишком много дров Кукуцаполь ваш наломал!
Услыхав про Кукуцаполя мсье Канатов так расхохотался, что чуть импланты не выпали.
«А и правда, противный какой. Только не Кукуцаполь он, а Лысовер…», — произнесла в четверть звука Варюха. И как только она это произнесла, – «Лысовер» с кукурузным початком за пазухой исчез. Но горка пепла человеческого, (а что пепел человеческий, Варюхе ясно стало сразу) благодаря световым эффектам и всяким иным штучкам-дрючкам висеть осталась. «Сажа жирна. Пепел сух», — вспомнились Варюхе слова Терентия Фомича. — «А тутошний пепел не сухой. Он тощий какой-то. Видно от недокормленных людей произошёл», — уже в который раз за день, всхлипнула Варюха… Тут униформисты в нежно-фиолетовых пиджаках, поволокли на верёвке, как бычка на бойню, раздутого водянкой фигляра с лицом цвета папируса, в представительском дорогом костюме. Фигляр был мёртв. Но зачем-то притворялся живым. По виду — ни дать, ни взять Горбачёв. Однако, надпись на темечке косо начертанная, сообщала другое: «Азеф Иудыч». Мёртво-живой человек, раздутый водянкой сказанных когда-то лишних слов, часто и беспомощно озирался, иногда бухался на колени. Но сочувствия не вызывал: только издёвки, ругань, свист. Кто-то даже крикнул: «Вы только на него гляньте! Сам умер, а сам перед нами тут вышагивает. Тогда он даже не Иудыч, он — Имудоныч!..»
Внезапно сбоку, справа, резко оттеснив в сторону никому не нужного теперь Имудоныча, примкнули к шествию два шута, один из которых Варюху сразу же покорил. «Ушлёпок» и «Ерон» было вычерчено на таблицах зацепленных верёвочками за чисто вымытые белые шеи. Ушлёпок ехал на Ероне, подбадривая того коваными пятками и криками: «Покажи им, Ерон Питерский! Покажи своё шутовское седло, расстегни поскорей штаны!»
Варюха, стыдясь, отвернулась, но краем глаза заметила: никакие штаны Ерон Питерский расстёгивать даже не собирался. Больше того: сбросив Ушлёпка на асфальт, стал того дубасить. Что-то явно пошло не так, не по сценарию, написанному сметливым Терёхой… Из приёмного покоя 23-й, имени доктора Давыдовского больницы, потасовку между Ероном и Ушлёпком, видеть Терёха, конечно, не мог. Но что-то похожее, смутно чуял. Ещё месяц назад послал он эсэмэски в Питер сразу пяти шутам. Согласились участвовать двое: Терёхин любимый шут Ерон — само имя грело душу своим первоначальным греческим значением: «священный», — и нелюбимый, но со вздохом вставленный в программу клоуняра Ушлёпок. Терёха всегда любил Питер стройный, Питер раздумчивый. Приезжая туда, шутовство, словно дырявый плащ, сбрасывал на пол, бузить прекращал, ходил по Невскому пружинисто, едва-едва касаясь земли, смеялся необидно. Не дождавшись Терёхи, Ерон и Ушлёпок самочинно врезались в толпу шутов и теперь пинались и кричали, что не вполне соответствовало их шутовским ролям. Вдруг Ерон пинаться перестал. Распрямившись во весь свой немалый рост: «Сантиметров 185 не меньше», — с восхищением подумала Варюха — Питерский братски погладил Ушлёпка по голове и не истраченным на ругань и проклятия голосом, в навесной микрофон запел:
Питер-свет, Питер-смех,
Ты, конечно, краше всех!
Питер-луч и Питер-соль
Для тебя готовят боль.
Здесь даже Ушлёпок сам себя приструнил, быстренько переменил на лице маску, стал благообразней, печальней. Вдруг решившись, он стремительно присел и похлопал себя по плечам: садись, мол. Ерону Питерскому дважды повторять не надо было. Он вскочил Ушлёпку на спину и, несильно колотя того пятками по бёдрам, песенку свою продолжил:
Но сквозь боль и через смех
Станешь, Питер, крепче всех!
А на будущей войне,
Будешь славен ты вдвойне!
Чем Ерон так понравился Варюхе, она и сама бы сказать не могла. Может, тем, что песенку спел волнительную и Ушлёпка по щеке поплескал незлобиво, ласково. Или, тем, что всем своим видом и прикладыванием руки к вилочковой железе (или к железе счастья, про которую Варюхе объяснили в группе «Ранней физиологической близости») — старался показать: он, Ерон, отнюдь не запроданец, как Имудоныч, не чепушило, как мордожопый Кукуцаполь! Да и шутовское облачение имел на себе Ерон Питерский едва ли не ангельское: золотистое, полупрозрачное, а в словах представал возвышенно-ироничным. Даже его огромные, лаковые, 67-го размера ботинки, с расквашенными, но жутко радостными носами сразу к себе располагали.
— Что мы шествием этим хотели сказать? – внезапно спросил зевак Ерон. И сам себе в микрофон ответил: — Всю тайную драматургию этого дела раскроет позже шут Терентий. А пока скажу одно: нет конца и края злу! Но нет конца-краю и насмешке над ним! А где есть сурово-комичное шутовство — там зло, как негодная ткань трещит и рвётся. Железные кандалы и тиски разламываются, опадают вниз. Земля ускоряет вращенье и медленно, но верно приближается к созревшей для ласк крутобокой Луне. Жизнь выпадает из обыденных скреп и входит в область эфирных тайн. Вот поэтому – ждёт нас в скором времени действительность несказанная. Отяжелённое грузом зла и страстей бытие человеческое вдруг обретёт крылышки. И тогда, пролетая над былым, искусанным цифровой корыстью, иссечённым наследственными распрями существованием, разбрызнется богомудрый смех, зазвучит озорная нескончаемая пародия или как раньше её называли — перепеснь. А вслед за перепеснью шуто-притчевое слово зазвучит… И станет это слово опять, как и во время оно, причиной всего, что случится дальше!
— Поняли, мархуры винторогие, что вам Ерон говорит? — крикнул, ликуя, враз выпрямившийся и даже побледневший от гордости за Ероновы слова, Ушлёпок.
— И станет это слово, — продолжил неожиданную речь Ерон — воздушным, едва уследимым именем, станет тонкотелесным имяславием: наделённым неимоверной силой и способностью проникать в недоступные до той поры глубины, высоты...
Про то, что одежонкой и расквашенными ботинками для Ерона разжился именно Терентий Фомич, — Варюхе, ясное дело, известно не было. Но всё равно: что-то приязненное, давно знакомое и даже родное почуялось девушке в Ероне. Именно в миг восхищения Ероном, залившим тёпло-сладким стыдом Варюхины щёчки, мсье Канотье с девушкой в глубоком капюшоне знакомиться и подошёл. Разговор его — в меру франкофонистый, в меру уснащённый русскими уменьшительными суффиксами – был нежен, горяч, руки так и норовили дотронуться до Варюхиных плеч, сдёрнуть капюшон, обхватить плечи, а затем и манящие бёдра. Но раздобары и телодвижения француза были Варюхе до одного места. Правда, пнуть приезжего или огреть его сумочкой по спине она почему-то не решалась. Да и не до того в эти мгновения было, так сильно увлёк её шут Ерон, сказавший враз обогревшие, хоть и не вполне понятные слова!
Ерон Питерский давно скрылся, француз не отступал, вот почему снова стали душить Варюху слёзы, ни капли сочувствия, как ей становилось ясно, у города и мира не вызывавшие. А когда стал приближаться прозрачный — 2 на 4 метра — куб, который несли на плечах четыре нанайца с жёлтыми лентами в косичках, то и вовсе засобиралась она уходить. Может, раздосадовала девушку косая надпись на кубе, гласившая: «Вакантные места — здесь!», может, что-то другое, но, только, круто развернув себя на каблучках, Варюха-горюха шутовской променаж стремительно покинула.
Москва Питерская
Высказав своё, наболевшее, Ерон Питерский, — тряхнул длинными каштановыми волосами, тронул пальцем нежно бьющую на мраморном виске жилку, — вывернулся из бесконечной ленты шутов, и по вечереющей Москве двинулся от Лужников по Абрикосовскому переулку к Погодинской улице и дальше, глубже в Хамовники. На ангельский свой «прикид» накинул он вынутую из лёгкого заплечного сидора куртку, торопясь, надел её и заспешил, чтобы не упустить девушку в глубоком капюшоне, наискосок от которой внезапно остановился, разъезжая на Ушлёпке. Тогда же заметил он и неприятно обрюзгшего человека с головой-макитрой, скорее всего бывшего циркача, возможно даже укротителя, стоявшего неподалёку от девушки и тяжко глядевшего ей в затылок. Давно наловчившись ухватывать на лету злобные намерения, Ерон не ждал от встречи девушки со зверосмирителем, а, может, и заклинателем змей, — ничего хорошего.
Толстун пошёл за Варюхой не просто так. Оленька без явного умысла, но всё-таки нажаловалась ему на подругу. Сказала: Варюха-горюха давно на Терентия пялится и страшно жаль, если ей за это ничего не будет. Вскипевшей в тихой Оленьке внезапной ярости, Толстун тогда сильно удивился. Но тут же решил: нужно через Варюху отомстить Терентию. От радости он даже захлопал в ладоши: «Мы ей… Да я ей всю морду… Ты не дрефь! Я только с одного боку на личико плесну. Как будто лишай на щёчке у неё проступит! Пусть знает, как на чужое добро рот разевать!» Оленька ничего не ответила, томно улыбнулась и бесшумно выскользнула из Толстуновой комнаты, где как-то удивительно властно, по-хозяйски уже несколько дней распоряжалась.
Потому-то из кармана у Толстуна, во время шествия и торчала бутылочка, заткнутая чёрной резиновой пробкой. Её и заприметил дальнозоркий Ерон, она-то его и смутила. Как только миновали старинную фабрику-усадьбу Ганешиных и, чуток не доходя, до узорчатой Погодинской избы, Ерон, обогнав бывшего заклинателя, бутылочку с буровато-жёлтой жидкостью, — скорей всего с едкой серной кислотой — из кармана толстуновского пиджака легко, как факир, выдернул. Тут же, свернув в один из дворов, он бутылочку с кислотой в старое пожарное ведро, стоявшее за мусорным баком, и опустил. Затем окольным путём вернулся, подкрался на цыпочках сзади и несильно, но точно ударил Толстуна локтём в бок. Тот сразу схватился за печень, запричитал, занюнил, сел на невысокую железную ограду, плюнул Варюхе вслед и решил больше с ней не связываться: «Пусть Оленька сама с подругой отношения выясняет! Только мне и забот за малолетками по улицам шастать!» Разобравшись с Толстуном, оставив того хлюпать носом, а девушку в капюшоне проводив грустно-весёлым взглядом, Ерон Питерский углубился в московские переулки…
Он любил Москву лучистую, светозарную, любил Москву царственную, возвышенную. Хамовники, звенящие струной, по-старинному молодецкие, летом до обморока густо-зелёные, весной и осенью трепетно прозрачные, называл Ерон про себя — «Москвой Питерской». Здесь утихал на время безудержный московский гомон, разговоры становились стройней, сами собой очищались от языкового сору. Меж домами призрачной дымкой витала не замечаемая сквернителями городов архитектурная свежесть, вместе с ней — ласковая сказочность, наводившая Ерона на мысль о спрятавшемся здесь от шумигама, звонко-ритмичном сердце Москвы. «А, может даже, — подумалось неожиданно Ерону Питерскому, — правильней назвать это радостное сплетение людей, домов, деревьев, этот пульсирующий в спокойном, а не сумасшедшем темпе овал благодати, — душой Москвы. И душа Москвы, и тонкое тело Хамовников, вот они, здесь они!..»
Тут Ерон стал думать о самом имени Москвы. И показалось: засияло имя мягким янтарным светом, крупными яхонтами заблистало. А вслед за именем го́рода заплескались у речных пристаней навсегда привязанные к Москве имена человеческие и просторенные ими навечно людские судьбы. «Новое городское имяславие! Царство весёлого имени… Славлю ликующее имя: Москва»! — вырвалось нечаянно у Ерона. Рассмеявшись, вынул он из заплечного сидора набор фломастеров, и на внутренней стороне своей правой ладони вывел пурпурным цветом: Москва. А на левой ладони, ярко-синим — Питер. К названиям городов пририсовал он двуглавого орла и восьмилучевую звезду-октограмму…
Уже совсем стемнело, когда завершив свои графические наброски, священный шут Ерон сбросил, наконец, надоевшую куртку, аккуратно разложил её возле мусорника (чтоб видно было: не взрывчатка, одежда), остался в своём лёгком золотисто-кремовом одеянии, весело разбежался и растворился в сладко вздрагивающем от предчувствия бурной ночи, речном московском сумраке.
Высказав своё, наболевшее, Ерон Питерский, — тряхнул длинными каштановыми волосами, тронул пальцем нежно бьющую на мраморном виске жилку, — вывернулся из бесконечной ленты шутов, и по вечереющей Москве двинулся от Лужников по Абрикосовскому переулку к Погодинской улице и дальше, глубже в Хамовники. На ангельский свой «прикид» накинул он вынутую из лёгкого заплечного сидора куртку, торопясь, надел её и заспешил, чтобы не упустить девушку в глубоком капюшоне, наискосок от которой внезапно остановился, разъезжая на Ушлёпке. Тогда же заметил он и неприятно обрюзгшего человека с головой-макитрой, скорее всего бывшего циркача, возможно даже укротителя, стоявшего неподалёку от девушки и тяжко глядевшего ей в затылок. Давно наловчившись ухватывать на лету злобные намерения, Ерон не ждал от встречи девушки со зверосмирителем, а, может, и заклинателем змей, — ничего хорошего.
Толстун пошёл за Варюхой не просто так. Оленька без явного умысла, но всё-таки нажаловалась ему на подругу. Сказала: Варюха-горюха давно на Терентия пялится и страшно жаль, если ей за это ничего не будет. Вскипевшей в тихой Оленьке внезапной ярости, Толстун тогда сильно удивился. Но тут же решил: нужно через Варюху отомстить Терентию. От радости он даже захлопал в ладоши: «Мы ей… Да я ей всю морду… Ты не дрефь! Я только с одного боку на личико плесну. Как будто лишай на щёчке у неё проступит! Пусть знает, как на чужое добро рот разевать!» Оленька ничего не ответила, томно улыбнулась и бесшумно выскользнула из Толстуновой комнаты, где как-то удивительно властно, по-хозяйски уже несколько дней распоряжалась.
Потому-то из кармана у Толстуна, во время шествия и торчала бутылочка, заткнутая чёрной резиновой пробкой. Её и заприметил дальнозоркий Ерон, она-то его и смутила. Как только миновали старинную фабрику-усадьбу Ганешиных и, чуток не доходя, до узорчатой Погодинской избы, Ерон, обогнав бывшего заклинателя, бутылочку с буровато-жёлтой жидкостью, — скорей всего с едкой серной кислотой — из кармана толстуновского пиджака легко, как факир, выдернул. Тут же, свернув в один из дворов, он бутылочку с кислотой в старое пожарное ведро, стоявшее за мусорным баком, и опустил. Затем окольным путём вернулся, подкрался на цыпочках сзади и несильно, но точно ударил Толстуна локтём в бок. Тот сразу схватился за печень, запричитал, занюнил, сел на невысокую железную ограду, плюнул Варюхе вслед и решил больше с ней не связываться: «Пусть Оленька сама с подругой отношения выясняет! Только мне и забот за малолетками по улицам шастать!» Разобравшись с Толстуном, оставив того хлюпать носом, а девушку в капюшоне проводив грустно-весёлым взглядом, Ерон Питерский углубился в московские переулки…
Он любил Москву лучистую, светозарную, любил Москву царственную, возвышенную. Хамовники, звенящие струной, по-старинному молодецкие, летом до обморока густо-зелёные, весной и осенью трепетно прозрачные, называл Ерон про себя — «Москвой Питерской». Здесь утихал на время безудержный московский гомон, разговоры становились стройней, сами собой очищались от языкового сору. Меж домами призрачной дымкой витала не замечаемая сквернителями городов архитектурная свежесть, вместе с ней — ласковая сказочность, наводившая Ерона на мысль о спрятавшемся здесь от шумигама, звонко-ритмичном сердце Москвы. «А, может даже, — подумалось неожиданно Ерону Питерскому, — правильней назвать это радостное сплетение людей, домов, деревьев, этот пульсирующий в спокойном, а не сумасшедшем темпе овал благодати, — душой Москвы. И душа Москвы, и тонкое тело Хамовников, вот они, здесь они!..»
Тут Ерон стал думать о самом имени Москвы. И показалось: засияло имя мягким янтарным светом, крупными яхонтами заблистало. А вслед за именем го́рода заплескались у речных пристаней навсегда привязанные к Москве имена человеческие и просторенные ими навечно людские судьбы. «Новое городское имяславие! Царство весёлого имени… Славлю ликующее имя: Москва»! — вырвалось нечаянно у Ерона. Рассмеявшись, вынул он из заплечного сидора набор фломастеров, и на внутренней стороне своей правой ладони вывел пурпурным цветом: Москва. А на левой ладони, ярко-синим — Питер. К названиям городов пририсовал он двуглавого орла и восьмилучевую звезду-октограмму…
Уже совсем стемнело, когда завершив свои графические наброски, священный шут Ерон сбросил, наконец, надоевшую куртку, аккуратно разложил её возле мусорника (чтоб видно было: не взрывчатка, одежда), остался в своём лёгком золотисто-кремовом одеянии, весело разбежался и растворился в сладко вздрагивающем от предчувствия бурной ночи, речном московском сумраке.
Нет мира без войны. Нет войны без мира.
(Святой Терентий и бомолох)
В карете скорой Терёху порядком растрясло. Правда, тряска стала пусть и временным, но всё-таки отвлечением от боли. Скорей всего, от тяжко-приятной тряски и вплыл Терёха своим истончившимся вмиг телом в какую-то невозможную, но при этом чутко и плотно — подушечками пальцев, губами, щеками! — осязаемую жизнь.
Обтёк его сухой, слегка потрескивающий от жары воздух, отозвалась болью в ступнях скакнувшая под ноги каменистая площадь, и на ней – старинный, вылепленный из глины рынок: без деревьев, без покупателей и торговцев, без пронырливых базарных подростков, но зато с двумя десятками ишачков, судя по мерному хрусту, добывавшими из висящих на шеях торб сухие ветки кустарников.
Не зная, куда двинуться дальше, Терёха присел в растерянности на глиняный выступ перед какой-то лавкой без окон, но с распахнутой дверью. Здесь-то к нему и подступил человек в белоснежном бурнусе: оливково-смуглый, пегобородый.
Подошедший поклонился и заговорил с Терёхой по-русски, хотя рынок и вся округа даже отдалённо отечество не напоминали.
— Тёзка я твой, — сказал простоволосый человек в бурнусе, и на минуту-другую смолк.
Терёха подумал: разговору больше не будет, и встал, чтобы где-нибудь спрятаться от иступляющей жары.
— Присядь, тут прохладней всего. А я ведь не просто твой тёзка. Я — мученик. Святой Терентий Африканский меня зовут.
— Где мы? Что за домишки глиняные? Откуда взялся этот безлюдный город?
— Оттуда, откуда приходит к вам то, что потом навек с вами остаётся. А город зовётся Карт-хадашт. Или Карфаген, чтобы тебе яснее было.
— А время, время какое? Век, спрашиваю тебя, какой?
— Время не должно тебя сейчас беспокоить. Время здесь только твоё и моё. И называется оно — наше собственное время. Ну, а что до меня, то жил я в III веке после Рождества Христова. Ты вот — в ХХI веке живёшь. Но разницы между веками и временами сейчас для тебя никакой нет. Разве в одеждах и в людских, каждому веку свойственных установках, небольшую разницу ощутишь. И то не сразу.
Терёха опять привстал.
— Мне говорить дальше? Или ты под нож торопишься?
Медленно оглядевшись, Терёха снова присел. Скошенный набок Карт-хадашт увиделся зернистей, подробней.
Плоские крыши, всё те же привязанные к глиняным тумбам, хрумтящие кормом ишачки, две неприятно, до головной боли сужающиеся и стремительно уводящие к холму улочки, похожие на те, которые год назад видел в Тунисе. И на краю всего этого преломляемого Терёхиным подпорченным зрением африканского пекла — воздушно, на цыпочках ступающая, одна-единственная женщина в тёмных одеждах, с лицом наполовину затянутым плотной тканью.
Тут же пристроился к женщине какой-то старый хрыч, но заговорил — Терёха слышал это ясно, чётко — молодым высоким голосом.
— Здравствуй, Царица Луны!
Затянутая плотной тканью, ускорила шаг.
— Как дневная луна незаметно плывёшь ты, но веселья и радости от такого плаванья у тебя нет. Вот я и послан тебя развеселить.
Тут, как перед сеансом в старом кинотеатре, где Терёха бывал с матерью в детстве, стало быстро темнеть, заблестела вдали вечерняя вода, шевельнулись тени пиний.
— Присядь, Царица. На минуту всего! Увидишь и услышишь нечто смешное и забавное.
Женщина, чуть помешкав, но так и не открыв лица, села на глиняную приступочку.
— Смотри на воду. Если интересно и весело станет — подходи к воде ближе.
Тут надоедливый хрыч, скинул все свои накидки и повязки, мелькнул жёлтым телом, показал курчавый старческий живот и кинулся в воду.
Мигом всплеснулись и высоко взлетели вверх, лунообразные, розовые и жёлтые рыбы. Они кувыркались в воздухе, а потом весело шлёпались назад, в воду. Заиграли, запели огни. Звонко ударяясь о камни, рассыпался монетами-шекелями чей-то смех.
Женщина, из любопытства, подступила к окаймлённой пиниями воде.
С нею вместе, крадучись, сделал два шага к воде и Терёха. Рыбы, смеясь, исчезли. И вынырнула из воды ласковая и прекрасная женщина-львица. Она несколько раз встряхнула длинной гривой, брызги взлетели и застыли в ночном воздухе малыми каплями звёзд и лунными прозрачными осколками. Стало светлей, приятней. Поигрывая тугим, матово блещущим телом, женщина-львица, стала выбираться на берег.
— Смейся, или прикажу насадить тебе на шею львиную голову. Груди твои сделаю каменными, соски колючими, спину негнущейся. Смейся тихо и страстно, и в смехе ищи печаль. А в радостной печали находи счастье жизни, — выбравшись на берег, стала увещевать всё ещё закрывавшую лицо женщину, обольстительная львица, — ибо это я настоящая Царица Луны. И поэтому сперва тебя служанкой сделаю, а потом ты сама госпожой моей станешь. Радуйся, что не растленному царьку-чудовищу досталась. Под шумок нескончаемых битв, которые ведут его сыновья, он тебя сюда и зазвал.
Здесь пришедшая рассмеялась и кинулась, как была, в одеждах, в бурлящую от плотского нетерпения воду.
— Ну вот, теперь уже ты Царица Луны, а я служанка твоя, — пропела львиноголовая, тоже входя в воду, — о, великий Карт-хадашт, как приятен и красив ты по ночам! Как манишь мужским мускулистым телом. Пребудь с нами вечно! И в этой мудрой вечности избавь нас от спешки и суетности, позволь от души смеяться и в минуты любви, и в минуты печали… И ты, путешествующая ночью одна без спутника, эту радость печали, эту наивысшую точку вечной любви, сейчас испытаешь! Ты обманула мужа и ответила на зов чудовища. Тебя сейчас могут убить, посланные за тобой головорезы. Но этого не случится. Потому что убью их я. Расправлюсь я и с чудовищем, позвавшим тебя, и ты, наблюдая за его конвульсиями, будешь любить меня, а не его, потому что больше самой любви возбуждает тебя драма жизни. Драма горячит кровь, так, милая?
Здесь вынырнула из воды треугольная рыбья голова с человечьим носом, губами и ушами. Уши отвратно шевелились. Тонкой длинной спицей, похожей на лазерную указку, женщина-львица проткнула ухо чудовища. Кончик спицы, сверкнув, выставился из другого уха, чудовище обречённо рыкнуло и выставило до половины из воды бородавчатое, как у жабы тело. Тут же на глазах у незнакомки женщина-львица превратила себя в мужчину с львиной головой, нежно и быстро раздела ночную путешественницу, окунула в прозрачную воду с головой и вошла в неё, как входит властелин в свою рабу: решительно и крепко.
Рыбье чудище, пронзённое спицей, замигало, захлопало человеческими глазами. И сразу же из глаз чудища густо хлынула кровь, нос провалился и голова запрокинулась набок. Львица превратившая себя в жёлто-лунного льва мягко рассмеялась и притянув к себе голову незнакомки теперь уже совсем негромко спросила:
— Драма убийства не позволит уйти возбуждению. Оно будет длиться и длиться. Возбуждение — сама вечность и есть! Так, милая?
Терёха дёрнулся, чтобы и самому кинуться в прохладную воду, подгрести к любовникам поближе, втянуть в себя вместе с каплями воды чарующую силу кровавой драмы, но лишь застонал и скорчился от резкой боли в животе.
— Сиди спокойно. Такая вечность обманчива. Вечен дух. Вечна духовная плоть. Душе-тела вечны. А плоть играющая — приманит и схлынет. Так что, утихомирь поскорей круговерть своих миражей. Не я их на тебя наслал… — святой Терентий опять помолчал, — тебе и так больно, а миражи лишь прибавят боли. Уйми изнуряющие видения, откинь груды химер.
— Про то, что жизнь химера — слыхал я. Как же, как же! «Наш мир – иллюзия, мираж». «Мы — просто голографическая проекция в пространстве». «Мы — ничто. Потому что мы — в матрице». И другую лабусню сто раз от умных дурней слыхал. Но драма — не химера!
— Про драму любви — верно: не химера она. А вот другие, сказанные тобой слова — забудь. Ничего они не объясняют. И ничем, — кроме клокочущего тщеславия исходящего от тех, кто тебе все эти матрицы навязал, — не являются… Спрошу в последний раз: мне говорить дальше или ты всё ещё на операционный стол торопишься?
— Говори, — встряхнулся Терёха — к врачам успею. А не успею — так и хрен со мной. Говори, святой Терентий, и не серчай, если отвлекусь на видения или ругнусь мимовольно. А ещё, сделай милость, поясни про собственное время: не совсем про него я понял.
— Есть три времени мира. Я ваш мир разумею. Есть время скоротечное, по-иному – суетное. Это время пустяковое, пустозвонное, понукаемое человеком и умирающее вместе с ним. Такое время теряется безвозвратно. Есть время расширений и погружений, или по-иному — время замедленных состояний. Оно готовит вас ко времени слитному: неразделимому на сегодняшнее, завтрашнее, вчерашнее. И есть время собственное: время истончения тел и озарения умов — самое сладкое и самое нужное для человека. Оно движется с той скоростью и в том направлении, в котором ты сам его запустил. Собственно-личное эфирное тело времени остаётся в пространстве навсегда, оно неуничтожимо. Сейчас твоё собственное и моё собственное время — они совместились. И хорошо мне от этого. А тебе?
— Мне тоже вроде получше стало. Только не слишком я тебе верю: больно мудрёные вещи первому встречному поперечному выбалтываешь.
— Ты не первый встречный. Ты — один из контуров моего имени. Имя же — есть новая и притом истинная плоть человека. Летучая, бессмертная плоть! Если уж говорить правду: имя — сам новый человек и есть. Для жизни имени нет границ. И нет подходящего измерения для могущества имени. Именем мир создан, именем мир держится.Мне продолжать или будешь привередничать дальше?
— Расскажи, как мучеником стал.
— Пострадал я во времена императора Деция, носившего ещё несколько имён. Звали его «Восстановитель Дакии», «Германский Величайший» и ещё по-другому…
Тут сильно тряхнуло: то ли задрожал от любовных драм глиняный Карт-хадашт, то ли запрыгала на ухабах карета «скорой». Этого Терёха понять не смог, лишь стоном отозвался.
Как только тряска кончилась — стал рассказывать Святой Терентий про свою жизнь и свою кончину. Причём рассказывал – что шута сильно озадачило — языком русским, современным, лишь изредка вставляя греческие и латинские словечки.
— Не так, как святому положено, говоришь ты, мученик!
— Такой уж у святых обычай: с каждым говорить на его языке и желательно в его же интонациях.
— Не знал этого. Тогда — лады, тогда дальше рассказывай.
— Паннониец Квинт Траян Деций — христиан не любил. Это, бомолох, говорю тебе я, Терентий Карфагенский.
Израненный Терёха, хоть и сквозь стон, а возразил:
— Зачем дразнишься? Какой я тебе лох?
— Бомолох — это хитрец простодушный из греческой комедии. Ты ведь простодушен?
— Есть такое дело.
— Но ты же одновременно и хитрец мрачноватый? Так? Нет?
— Не совсем так, но предположим…
— А ещё — старым временам ты привержен и правду приоткрывать насмешками, ох, как любишь.
— И здесь ты угадал почти.
— Однако насмешки твои не терзают и до смерти не убивают. Не стараются перевернуть мир, лишь смехачества ради. Стало быть, ты всё-таки не трикстер, каким себя считаешь, а бомолох. Это первое. А второе — именем ты связан со мною крепко, хоть для самого себя и незаметно. Стало быть, всё, что в мои времена происходило и к тебе отношение имеет. Поэтому повторю тебе, бомолох: император Деций, во времена которого я был казнён, христиан не любил. А любил паннониец свою жену и боготворил битвы.
— Ну ладно, допустим с тобой я связан. Только зачем лишнее рассказываешь? К примеру, про Дециеву жену. На кой чёрт она мне сдалась? У меня живот порван, кишки — наружу, и нога, чую, сломана. Про Деция — ещё послушаю…
— Вот смотрю на тебя и убеждаюсь: как раз сейчас нужно тебе про мучения мои рассказать. Сравнишь свои и мои — тебе легче станет. Ну, а жена Дециева и другие жившие тогда люди, с их особенностями, привычками и одеждой нужны для подлинности картин. Иначе ты рассказу моему не поверишь.
— Ладно, говори, потерплю пока.
— Напрочь христиан император Деций изничтожить не желал. Однако в 250 году после Рождества Христова, издал-таки грозный указ, в котором повелевал подданным постоянно приносить жертвы языческим идолам. Указом смущены были многие. В их числе и супруга Деция: Геренния Купрессения Этрусцилла, происходившая, — в отличие от худородного мужа-паннонийца — из старинного этрусского рода. Этрусцилла пользовалась в войсках популярностью, и даже заслужила почётный титул «Матери лагерей», потому как сопровождала Деция во многих военных походах.
— Воинам нашим такой указ может и не понравиться, — сказала «Мать лагерей» Децию, — Христианское учение уже глубоко их захватило.
Деций сглотнул подступившую к горлу желудочную кислоту и супруге ничего не ответил. Одёрнув влипший в тело пурпурный хламис, вышел в сад, стал обдумывать новые указы. Мешала ему, однако, в тот день птица: в саду почти беспрерывно кричал удод.
Хрипловатый, непрочищенный, тревожно-требовательный голос удода услыхал Терёха близко, рядом. Удод о чём-то настойчиво сообщал, словно хотел внушить Квинту Децию какую-то мысль. Шуту это было ясно как день. А вот Деций тот продолжал смотреть сквозь утренний слезящийся воздух на вздрагивающий перед ним ветвями старый плодовый сад, словно рассчитывая увидеть в саду нечто великое, важное, навсегда, а не на короткое время укрепляющее душу.
— Ху-ту-тут, ху-ту-тут, — настойчиво делился печалью удод.
Однако «Восстановитель Дакии» от птицы и во второй, и в третий раз отмахнулся.
Здесь Терентий Африканец вздохнул и продолжил:
— Вообще-то ни уничтожения христианства как религии, ни устранения церкви как обретающей зримые черты великой общности, Деций не желал. Многим взятым под стражу христианам даже разрешалось принимать единоверцев, в том числе пресвитеров, разрешалось вести религиозную переписку. А главное, в отличие от некоторых других римских властителей, не требовал Деций выдавать на растерзание священные папирусы..
Однако несмотря на всё это, не позже января 250 года (а, может, и в конце года предыдущего) издал Деций ещё один строгий указ, где говорилось о том, что каждый житель империи должен публично, в присутствии местных властей и совета состоящего из уполномоченных комиссариев, принести жертву и вкусить жертвенного мяса, после чего получить специальное свидетельство — либеллус — это жертвенное деяние удостоверявшее. Отказ от жертвоприношений вёл к жестокому наказанию: к пожизненной каторге или смертной казни. Сам указ Деция утерян, но о нём есть свидетельства у Лактанция и Евсевия. Захочешь – прочтёшь. Вот, к примеру, либеллус, составленный моим учеником и последователем, а позже перебежчиком и вероотступником Титом Мерканцием, отступничеством своим страшно возгордившимся:
«Коммисариям, призванным наблюдать за чистотой принесения жертв. От Тита Мерканция, сына мореплавателя из Карфагена.
Денно и нощно приносил я жертвы богам, неотступно и преданно. И теперь с радостью и благоговением, согласуя свои действия с указом Императора, совершил я возлияние и принёс жертву, и отведал часть от жертвенного быка. Что и прошу вас засвидетельствовать. Прощайте. Составил Тит Мерканций, 38 лет от роду, раненный при защите Карфагена стрелой в бедро…»
— Слушаю тебя — и печёного быка времён царя Ивана вспоминаю. Царь-то наш Иван Четвёртый мне точно нужен, для осознания того, что сейчас у нас происходит. А Тит Мерканций, он-то мне на кой?
— Раз я имел с ним дело — и тебе пригодится. Чужие судьбы наглядней судьбы собственной. Да и понять из наших разговоров ты одну важную вещь сможешь: судьбы всех людей на земле схожи. Человек во всех землях и государствах, и раньше, и теперь укоренился в семи основных состояниях: живоглот, апологет, каторжанин, надсмотрщик. А ещё — утеснитель, отступник, учитель-ученик.
— Что за помесь такая нелепая: учитель-ученик?
— Раз ученик, то, значит, уже и учитель. Раз учитель, то непременно ещё и ученик. А ты… Если ты взглянуть на себя со стороны сил не имеешь — взгляни хоть на других. Поэтому скручу тебе сейчас из многих верёвочек в один жгут недлинный рассказ. А ты слушай и, сострадая, извлекай пользу для дела твоей жизни.
…Получив указ Деция, правитель Африки Фортунатиан, собрал людей в Карфагене на базарной площади и велел принести и выставить напоказ устрашающие орудия пыток: бронзовые колёса дробящие кости, щипцы с зазубринами, железные штыри для раскаливания и введения в задний проход, кресты с обрывками верёвок и кровью мучеников к перекладинам присохшей.
Близился вечер, щипцы и штыри поблёскивали в лучах потухающего солнца. Показав орудия пыток, правитель объявил: больные, калеки, старые, малые, женщины и андрогины должны усердно и постоянно приносить жертвы идолам. Многие, устрашась мучений, согласились. Пугливыми выкриками дали они знать: будут принесены жертвы, будут! Однако сорок христиан, которых уже три года наставлял Терентий, твёрдо заявили о верности Спасителю. Такой смелостью Фортунатиан был уязвлён. Негодуя, спросил: как они, разумные люди, могут называть Богом того, кто по воле иудеев был распят как злодей. За всех Фортунатиану ответил Терентий:
— Веруют они в Спасителя, добровольно претерпевшего крестную смерть и в третий день Воскресшего.
Здесь Фортунатиан впал в безудержный гнев, сбросил на землю лежавший перед ним на поставце папирус, и даже закрыл на минуту глаза. Не сразу, но понял: слова Терентия лишь воодушевляют его учеников, как явных, так и тайных. И тут же велел заточить в темницу самого Терентия и трёх самых стойких его приверженцев: Адриана, Максима и Помпия. Остальных сторонников Христа, в том числе Зинона, Александра и Феодора, правитель Африки решил принудить к отречению от своего Бога силой. Однако ни крики, ни ужас мук сторонников не поколебали, хотя тем же вечером, при свете брызгавших смоляным огнём факелов, жгли их раскаленным железом, поливали раны из узкогорлых сосудов едким уксусом, втирали в кожу крупную красно-серую соль, рвали спины хорошо заточенными железными когтями.
Насладившись пытками, Фортунатиан смотревший на всё это из укрытия, велел на следующий день привести истерзанных к языческому храму. Что и было исполнено.
Перед храмом, истязаемых принудили заголиться и показать друг другу рваные раны, ссадины, порезы. И это не помогло. Прибывший к храму правитель Африки, оглядев внимательно узников и храмовую площадь, еще раз потребовал принести жертву идолам. Тогда, не сговариваясь, однако, почти все разом, — кто про себя, кто вслух — приверженцы Иисуса воззвали: "Бог Всесильный, Бог праведный, проливший некогда огонь на Содом за беззаконие его и распутство, разори этот храм нечестивый, храм идольский. Ради истины Твоей, разори".
После этих слов над площадью на невидимых пыточных петлях повисло безмолвие. И никакие звуки или дела безмолвие это не нарушали. Равнодушие высших сил стало мучительным, непоправимым. Громадным комом в узко-каменном горле Карт-хадашта застряла тишь. Фортунатиан скривил тонкие губы в усмешке и приготовился сказать язвительные слова о казнённом Боге, навсегда покинувшим истязаемых.
И здесь в прожаренном до скрипа воздухе что-то дрогнуло, сдвинулось. А потом, даже сам воздух – так показалось — куда-то пропал. От наступившей безвоздушности у всех казнимых и у большинства стражников широко раззявились рты, задрожали искусанные губы, ходуном заходили лишённые дыхания лёгкие. Была ли эта дрожь ответом на мольбы, или почувствовал глиняный Карт-хадашт близкое сотрясение земли, — но не успел пальчик золотого амура, прикреплённого к одному из поплавков на часах-клепсидрах изготовленных ловким механиком Ктесибием указать на очередное деление времени, — как где-то далеко, в безоблачном небе, неравномерным камнепадом грохотнул далёкий гром. Слёзная вода из глаз амура продолжала вытекать, однако крадущие время клепсидры вдруг шатнулись, и остатний воздух, вмиг натянувшийся крепким парусом, лопнул. Следом раздался ступенчатый треск. Грозно нарастая, скакал сверху вниз по ступеням за раскатом раскат! Внезапно стало видно и слышно: идолы, установленные в храме, один за другим с грохотом пали ниц, раскололись в куски, и лишь затем, медленно, как во сне, обрушилась и осела на землю вся храмина.
(Святой Терентий и бомолох)
В карете скорой Терёху порядком растрясло. Правда, тряска стала пусть и временным, но всё-таки отвлечением от боли. Скорей всего, от тяжко-приятной тряски и вплыл Терёха своим истончившимся вмиг телом в какую-то невозможную, но при этом чутко и плотно — подушечками пальцев, губами, щеками! — осязаемую жизнь.
Обтёк его сухой, слегка потрескивающий от жары воздух, отозвалась болью в ступнях скакнувшая под ноги каменистая площадь, и на ней – старинный, вылепленный из глины рынок: без деревьев, без покупателей и торговцев, без пронырливых базарных подростков, но зато с двумя десятками ишачков, судя по мерному хрусту, добывавшими из висящих на шеях торб сухие ветки кустарников.
Не зная, куда двинуться дальше, Терёха присел в растерянности на глиняный выступ перед какой-то лавкой без окон, но с распахнутой дверью. Здесь-то к нему и подступил человек в белоснежном бурнусе: оливково-смуглый, пегобородый.
Подошедший поклонился и заговорил с Терёхой по-русски, хотя рынок и вся округа даже отдалённо отечество не напоминали.
— Тёзка я твой, — сказал простоволосый человек в бурнусе, и на минуту-другую смолк.
Терёха подумал: разговору больше не будет, и встал, чтобы где-нибудь спрятаться от иступляющей жары.
— Присядь, тут прохладней всего. А я ведь не просто твой тёзка. Я — мученик. Святой Терентий Африканский меня зовут.
— Где мы? Что за домишки глиняные? Откуда взялся этот безлюдный город?
— Оттуда, откуда приходит к вам то, что потом навек с вами остаётся. А город зовётся Карт-хадашт. Или Карфаген, чтобы тебе яснее было.
— А время, время какое? Век, спрашиваю тебя, какой?
— Время не должно тебя сейчас беспокоить. Время здесь только твоё и моё. И называется оно — наше собственное время. Ну, а что до меня, то жил я в III веке после Рождества Христова. Ты вот — в ХХI веке живёшь. Но разницы между веками и временами сейчас для тебя никакой нет. Разве в одеждах и в людских, каждому веку свойственных установках, небольшую разницу ощутишь. И то не сразу.
Терёха опять привстал.
— Мне говорить дальше? Или ты под нож торопишься?
Медленно оглядевшись, Терёха снова присел. Скошенный набок Карт-хадашт увиделся зернистей, подробней.
Плоские крыши, всё те же привязанные к глиняным тумбам, хрумтящие кормом ишачки, две неприятно, до головной боли сужающиеся и стремительно уводящие к холму улочки, похожие на те, которые год назад видел в Тунисе. И на краю всего этого преломляемого Терёхиным подпорченным зрением африканского пекла — воздушно, на цыпочках ступающая, одна-единственная женщина в тёмных одеждах, с лицом наполовину затянутым плотной тканью.
Тут же пристроился к женщине какой-то старый хрыч, но заговорил — Терёха слышал это ясно, чётко — молодым высоким голосом.
— Здравствуй, Царица Луны!
Затянутая плотной тканью, ускорила шаг.
— Как дневная луна незаметно плывёшь ты, но веселья и радости от такого плаванья у тебя нет. Вот я и послан тебя развеселить.
Тут, как перед сеансом в старом кинотеатре, где Терёха бывал с матерью в детстве, стало быстро темнеть, заблестела вдали вечерняя вода, шевельнулись тени пиний.
— Присядь, Царица. На минуту всего! Увидишь и услышишь нечто смешное и забавное.
Женщина, чуть помешкав, но так и не открыв лица, села на глиняную приступочку.
— Смотри на воду. Если интересно и весело станет — подходи к воде ближе.
Тут надоедливый хрыч, скинул все свои накидки и повязки, мелькнул жёлтым телом, показал курчавый старческий живот и кинулся в воду.
Мигом всплеснулись и высоко взлетели вверх, лунообразные, розовые и жёлтые рыбы. Они кувыркались в воздухе, а потом весело шлёпались назад, в воду. Заиграли, запели огни. Звонко ударяясь о камни, рассыпался монетами-шекелями чей-то смех.
Женщина, из любопытства, подступила к окаймлённой пиниями воде.
С нею вместе, крадучись, сделал два шага к воде и Терёха. Рыбы, смеясь, исчезли. И вынырнула из воды ласковая и прекрасная женщина-львица. Она несколько раз встряхнула длинной гривой, брызги взлетели и застыли в ночном воздухе малыми каплями звёзд и лунными прозрачными осколками. Стало светлей, приятней. Поигрывая тугим, матово блещущим телом, женщина-львица, стала выбираться на берег.
— Смейся, или прикажу насадить тебе на шею львиную голову. Груди твои сделаю каменными, соски колючими, спину негнущейся. Смейся тихо и страстно, и в смехе ищи печаль. А в радостной печали находи счастье жизни, — выбравшись на берег, стала увещевать всё ещё закрывавшую лицо женщину, обольстительная львица, — ибо это я настоящая Царица Луны. И поэтому сперва тебя служанкой сделаю, а потом ты сама госпожой моей станешь. Радуйся, что не растленному царьку-чудовищу досталась. Под шумок нескончаемых битв, которые ведут его сыновья, он тебя сюда и зазвал.
Здесь пришедшая рассмеялась и кинулась, как была, в одеждах, в бурлящую от плотского нетерпения воду.
— Ну вот, теперь уже ты Царица Луны, а я служанка твоя, — пропела львиноголовая, тоже входя в воду, — о, великий Карт-хадашт, как приятен и красив ты по ночам! Как манишь мужским мускулистым телом. Пребудь с нами вечно! И в этой мудрой вечности избавь нас от спешки и суетности, позволь от души смеяться и в минуты любви, и в минуты печали… И ты, путешествующая ночью одна без спутника, эту радость печали, эту наивысшую точку вечной любви, сейчас испытаешь! Ты обманула мужа и ответила на зов чудовища. Тебя сейчас могут убить, посланные за тобой головорезы. Но этого не случится. Потому что убью их я. Расправлюсь я и с чудовищем, позвавшим тебя, и ты, наблюдая за его конвульсиями, будешь любить меня, а не его, потому что больше самой любви возбуждает тебя драма жизни. Драма горячит кровь, так, милая?
Здесь вынырнула из воды треугольная рыбья голова с человечьим носом, губами и ушами. Уши отвратно шевелились. Тонкой длинной спицей, похожей на лазерную указку, женщина-львица проткнула ухо чудовища. Кончик спицы, сверкнув, выставился из другого уха, чудовище обречённо рыкнуло и выставило до половины из воды бородавчатое, как у жабы тело. Тут же на глазах у незнакомки женщина-львица превратила себя в мужчину с львиной головой, нежно и быстро раздела ночную путешественницу, окунула в прозрачную воду с головой и вошла в неё, как входит властелин в свою рабу: решительно и крепко.
Рыбье чудище, пронзённое спицей, замигало, захлопало человеческими глазами. И сразу же из глаз чудища густо хлынула кровь, нос провалился и голова запрокинулась набок. Львица превратившая себя в жёлто-лунного льва мягко рассмеялась и притянув к себе голову незнакомки теперь уже совсем негромко спросила:
— Драма убийства не позволит уйти возбуждению. Оно будет длиться и длиться. Возбуждение — сама вечность и есть! Так, милая?
Терёха дёрнулся, чтобы и самому кинуться в прохладную воду, подгрести к любовникам поближе, втянуть в себя вместе с каплями воды чарующую силу кровавой драмы, но лишь застонал и скорчился от резкой боли в животе.
— Сиди спокойно. Такая вечность обманчива. Вечен дух. Вечна духовная плоть. Душе-тела вечны. А плоть играющая — приманит и схлынет. Так что, утихомирь поскорей круговерть своих миражей. Не я их на тебя наслал… — святой Терентий опять помолчал, — тебе и так больно, а миражи лишь прибавят боли. Уйми изнуряющие видения, откинь груды химер.
— Про то, что жизнь химера — слыхал я. Как же, как же! «Наш мир – иллюзия, мираж». «Мы — просто голографическая проекция в пространстве». «Мы — ничто. Потому что мы — в матрице». И другую лабусню сто раз от умных дурней слыхал. Но драма — не химера!
— Про драму любви — верно: не химера она. А вот другие, сказанные тобой слова — забудь. Ничего они не объясняют. И ничем, — кроме клокочущего тщеславия исходящего от тех, кто тебе все эти матрицы навязал, — не являются… Спрошу в последний раз: мне говорить дальше или ты всё ещё на операционный стол торопишься?
— Говори, — встряхнулся Терёха — к врачам успею. А не успею — так и хрен со мной. Говори, святой Терентий, и не серчай, если отвлекусь на видения или ругнусь мимовольно. А ещё, сделай милость, поясни про собственное время: не совсем про него я понял.
— Есть три времени мира. Я ваш мир разумею. Есть время скоротечное, по-иному – суетное. Это время пустяковое, пустозвонное, понукаемое человеком и умирающее вместе с ним. Такое время теряется безвозвратно. Есть время расширений и погружений, или по-иному — время замедленных состояний. Оно готовит вас ко времени слитному: неразделимому на сегодняшнее, завтрашнее, вчерашнее. И есть время собственное: время истончения тел и озарения умов — самое сладкое и самое нужное для человека. Оно движется с той скоростью и в том направлении, в котором ты сам его запустил. Собственно-личное эфирное тело времени остаётся в пространстве навсегда, оно неуничтожимо. Сейчас твоё собственное и моё собственное время — они совместились. И хорошо мне от этого. А тебе?
— Мне тоже вроде получше стало. Только не слишком я тебе верю: больно мудрёные вещи первому встречному поперечному выбалтываешь.
— Ты не первый встречный. Ты — один из контуров моего имени. Имя же — есть новая и притом истинная плоть человека. Летучая, бессмертная плоть! Если уж говорить правду: имя — сам новый человек и есть. Для жизни имени нет границ. И нет подходящего измерения для могущества имени. Именем мир создан, именем мир держится.Мне продолжать или будешь привередничать дальше?
— Расскажи, как мучеником стал.
— Пострадал я во времена императора Деция, носившего ещё несколько имён. Звали его «Восстановитель Дакии», «Германский Величайший» и ещё по-другому…
Тут сильно тряхнуло: то ли задрожал от любовных драм глиняный Карт-хадашт, то ли запрыгала на ухабах карета «скорой». Этого Терёха понять не смог, лишь стоном отозвался.
Как только тряска кончилась — стал рассказывать Святой Терентий про свою жизнь и свою кончину. Причём рассказывал – что шута сильно озадачило — языком русским, современным, лишь изредка вставляя греческие и латинские словечки.
— Не так, как святому положено, говоришь ты, мученик!
— Такой уж у святых обычай: с каждым говорить на его языке и желательно в его же интонациях.
— Не знал этого. Тогда — лады, тогда дальше рассказывай.
— Паннониец Квинт Траян Деций — христиан не любил. Это, бомолох, говорю тебе я, Терентий Карфагенский.
Израненный Терёха, хоть и сквозь стон, а возразил:
— Зачем дразнишься? Какой я тебе лох?
— Бомолох — это хитрец простодушный из греческой комедии. Ты ведь простодушен?
— Есть такое дело.
— Но ты же одновременно и хитрец мрачноватый? Так? Нет?
— Не совсем так, но предположим…
— А ещё — старым временам ты привержен и правду приоткрывать насмешками, ох, как любишь.
— И здесь ты угадал почти.
— Однако насмешки твои не терзают и до смерти не убивают. Не стараются перевернуть мир, лишь смехачества ради. Стало быть, ты всё-таки не трикстер, каким себя считаешь, а бомолох. Это первое. А второе — именем ты связан со мною крепко, хоть для самого себя и незаметно. Стало быть, всё, что в мои времена происходило и к тебе отношение имеет. Поэтому повторю тебе, бомолох: император Деций, во времена которого я был казнён, христиан не любил. А любил паннониец свою жену и боготворил битвы.
— Ну ладно, допустим с тобой я связан. Только зачем лишнее рассказываешь? К примеру, про Дециеву жену. На кой чёрт она мне сдалась? У меня живот порван, кишки — наружу, и нога, чую, сломана. Про Деция — ещё послушаю…
— Вот смотрю на тебя и убеждаюсь: как раз сейчас нужно тебе про мучения мои рассказать. Сравнишь свои и мои — тебе легче станет. Ну, а жена Дециева и другие жившие тогда люди, с их особенностями, привычками и одеждой нужны для подлинности картин. Иначе ты рассказу моему не поверишь.
— Ладно, говори, потерплю пока.
— Напрочь христиан император Деций изничтожить не желал. Однако в 250 году после Рождества Христова, издал-таки грозный указ, в котором повелевал подданным постоянно приносить жертвы языческим идолам. Указом смущены были многие. В их числе и супруга Деция: Геренния Купрессения Этрусцилла, происходившая, — в отличие от худородного мужа-паннонийца — из старинного этрусского рода. Этрусцилла пользовалась в войсках популярностью, и даже заслужила почётный титул «Матери лагерей», потому как сопровождала Деция во многих военных походах.
— Воинам нашим такой указ может и не понравиться, — сказала «Мать лагерей» Децию, — Христианское учение уже глубоко их захватило.
Деций сглотнул подступившую к горлу желудочную кислоту и супруге ничего не ответил. Одёрнув влипший в тело пурпурный хламис, вышел в сад, стал обдумывать новые указы. Мешала ему, однако, в тот день птица: в саду почти беспрерывно кричал удод.
Хрипловатый, непрочищенный, тревожно-требовательный голос удода услыхал Терёха близко, рядом. Удод о чём-то настойчиво сообщал, словно хотел внушить Квинту Децию какую-то мысль. Шуту это было ясно как день. А вот Деций тот продолжал смотреть сквозь утренний слезящийся воздух на вздрагивающий перед ним ветвями старый плодовый сад, словно рассчитывая увидеть в саду нечто великое, важное, навсегда, а не на короткое время укрепляющее душу.
— Ху-ту-тут, ху-ту-тут, — настойчиво делился печалью удод.
Однако «Восстановитель Дакии» от птицы и во второй, и в третий раз отмахнулся.
Здесь Терентий Африканец вздохнул и продолжил:
— Вообще-то ни уничтожения христианства как религии, ни устранения церкви как обретающей зримые черты великой общности, Деций не желал. Многим взятым под стражу христианам даже разрешалось принимать единоверцев, в том числе пресвитеров, разрешалось вести религиозную переписку. А главное, в отличие от некоторых других римских властителей, не требовал Деций выдавать на растерзание священные папирусы..
Однако несмотря на всё это, не позже января 250 года (а, может, и в конце года предыдущего) издал Деций ещё один строгий указ, где говорилось о том, что каждый житель империи должен публично, в присутствии местных властей и совета состоящего из уполномоченных комиссариев, принести жертву и вкусить жертвенного мяса, после чего получить специальное свидетельство — либеллус — это жертвенное деяние удостоверявшее. Отказ от жертвоприношений вёл к жестокому наказанию: к пожизненной каторге или смертной казни. Сам указ Деция утерян, но о нём есть свидетельства у Лактанция и Евсевия. Захочешь – прочтёшь. Вот, к примеру, либеллус, составленный моим учеником и последователем, а позже перебежчиком и вероотступником Титом Мерканцием, отступничеством своим страшно возгордившимся:
«Коммисариям, призванным наблюдать за чистотой принесения жертв. От Тита Мерканция, сына мореплавателя из Карфагена.
Денно и нощно приносил я жертвы богам, неотступно и преданно. И теперь с радостью и благоговением, согласуя свои действия с указом Императора, совершил я возлияние и принёс жертву, и отведал часть от жертвенного быка. Что и прошу вас засвидетельствовать. Прощайте. Составил Тит Мерканций, 38 лет от роду, раненный при защите Карфагена стрелой в бедро…»
— Слушаю тебя — и печёного быка времён царя Ивана вспоминаю. Царь-то наш Иван Четвёртый мне точно нужен, для осознания того, что сейчас у нас происходит. А Тит Мерканций, он-то мне на кой?
— Раз я имел с ним дело — и тебе пригодится. Чужие судьбы наглядней судьбы собственной. Да и понять из наших разговоров ты одну важную вещь сможешь: судьбы всех людей на земле схожи. Человек во всех землях и государствах, и раньше, и теперь укоренился в семи основных состояниях: живоглот, апологет, каторжанин, надсмотрщик. А ещё — утеснитель, отступник, учитель-ученик.
— Что за помесь такая нелепая: учитель-ученик?
— Раз ученик, то, значит, уже и учитель. Раз учитель, то непременно ещё и ученик. А ты… Если ты взглянуть на себя со стороны сил не имеешь — взгляни хоть на других. Поэтому скручу тебе сейчас из многих верёвочек в один жгут недлинный рассказ. А ты слушай и, сострадая, извлекай пользу для дела твоей жизни.
…Получив указ Деция, правитель Африки Фортунатиан, собрал людей в Карфагене на базарной площади и велел принести и выставить напоказ устрашающие орудия пыток: бронзовые колёса дробящие кости, щипцы с зазубринами, железные штыри для раскаливания и введения в задний проход, кресты с обрывками верёвок и кровью мучеников к перекладинам присохшей.
Близился вечер, щипцы и штыри поблёскивали в лучах потухающего солнца. Показав орудия пыток, правитель объявил: больные, калеки, старые, малые, женщины и андрогины должны усердно и постоянно приносить жертвы идолам. Многие, устрашась мучений, согласились. Пугливыми выкриками дали они знать: будут принесены жертвы, будут! Однако сорок христиан, которых уже три года наставлял Терентий, твёрдо заявили о верности Спасителю. Такой смелостью Фортунатиан был уязвлён. Негодуя, спросил: как они, разумные люди, могут называть Богом того, кто по воле иудеев был распят как злодей. За всех Фортунатиану ответил Терентий:
— Веруют они в Спасителя, добровольно претерпевшего крестную смерть и в третий день Воскресшего.
Здесь Фортунатиан впал в безудержный гнев, сбросил на землю лежавший перед ним на поставце папирус, и даже закрыл на минуту глаза. Не сразу, но понял: слова Терентия лишь воодушевляют его учеников, как явных, так и тайных. И тут же велел заточить в темницу самого Терентия и трёх самых стойких его приверженцев: Адриана, Максима и Помпия. Остальных сторонников Христа, в том числе Зинона, Александра и Феодора, правитель Африки решил принудить к отречению от своего Бога силой. Однако ни крики, ни ужас мук сторонников не поколебали, хотя тем же вечером, при свете брызгавших смоляным огнём факелов, жгли их раскаленным железом, поливали раны из узкогорлых сосудов едким уксусом, втирали в кожу крупную красно-серую соль, рвали спины хорошо заточенными железными когтями.
Насладившись пытками, Фортунатиан смотревший на всё это из укрытия, велел на следующий день привести истерзанных к языческому храму. Что и было исполнено.
Перед храмом, истязаемых принудили заголиться и показать друг другу рваные раны, ссадины, порезы. И это не помогло. Прибывший к храму правитель Африки, оглядев внимательно узников и храмовую площадь, еще раз потребовал принести жертву идолам. Тогда, не сговариваясь, однако, почти все разом, — кто про себя, кто вслух — приверженцы Иисуса воззвали: "Бог Всесильный, Бог праведный, проливший некогда огонь на Содом за беззаконие его и распутство, разори этот храм нечестивый, храм идольский. Ради истины Твоей, разори".
После этих слов над площадью на невидимых пыточных петлях повисло безмолвие. И никакие звуки или дела безмолвие это не нарушали. Равнодушие высших сил стало мучительным, непоправимым. Громадным комом в узко-каменном горле Карт-хадашта застряла тишь. Фортунатиан скривил тонкие губы в усмешке и приготовился сказать язвительные слова о казнённом Боге, навсегда покинувшим истязаемых.
И здесь в прожаренном до скрипа воздухе что-то дрогнуло, сдвинулось. А потом, даже сам воздух – так показалось — куда-то пропал. От наступившей безвоздушности у всех казнимых и у большинства стражников широко раззявились рты, задрожали искусанные губы, ходуном заходили лишённые дыхания лёгкие. Была ли эта дрожь ответом на мольбы, или почувствовал глиняный Карт-хадашт близкое сотрясение земли, — но не успел пальчик золотого амура, прикреплённого к одному из поплавков на часах-клепсидрах изготовленных ловким механиком Ктесибием указать на очередное деление времени, — как где-то далеко, в безоблачном небе, неравномерным камнепадом грохотнул далёкий гром. Слёзная вода из глаз амура продолжала вытекать, однако крадущие время клепсидры вдруг шатнулись, и остатний воздух, вмиг натянувшийся крепким парусом, лопнул. Следом раздался ступенчатый треск. Грозно нарастая, скакал сверху вниз по ступеням за раскатом раскат! Внезапно стало видно и слышно: идолы, установленные в храме, один за другим с грохотом пали ниц, раскололись в куски, и лишь затем, медленно, как во сне, обрушилась и осела на землю вся храмина.
Пыль от разрушенного храма язычников, вопреки законам указанным всё тем же хитромудрым Ктесибием, установщиком времени из Александрии, поднялась вверх и на миг заволокла солнце и небо.
Разъяренный гибелью идолов Фортунатиан тут же приказал всех подвергнутых пыткам — за исключением четверых — казнить.
Поздним вечером, почти ночью, после казни тридцати шести мучеников, правитель Африки велел привести к себе Терентия, Адриана, Максима и Помпия и показал им изувеченные тела казненных. После этого снова предложил принести жертву спешно установленным прямо на площади новым идолам. Все четверо отказались. Побагровев от ярости, Фортунатиан отдал приказ наложить на несломленных тяжкие — имеющие в себе полный талант весу — оковы и уморить голодом в темнице.
Ночью Ангел Силы — Angelos Potestatеs — напитал узников влагой своего дыхания и снял с них оковы. Нежно, кончиками крыльев, дотронулся он до одного из узников и унял неостановимое носовое кровотечение, мучавшее Терентия сильнее ран, отнимавшего у него мужество и отвагу.
Наутро стража нашла всех четверых свежими и полными сил. Рассвирепев, Фортунатиан приказал волхвам и заклинателям наслать на темницу змей и всяких иных существ и гадов: панцирных ящеров называемых анкилозаврами, змеевласых горгоний, гадюк и чёрных скорпионов. Следующим вечером, при свете луны и звёзд, через круглое отверстие в крыше заглянули стражники в темницу и увидели Терентия, Адриана, Максима и Помпия живыми и нерастерзанными. И ещё увидели: все четверо молятся, а панцирные ящеры, змеи и даже змеевласые горгонии, вызванные из морских пещер, чтобы обратить упрямцев в камень, ползают у их ног. Когда же волхователи, исполняя приказание, открыли двери темницы, гады и панцирные ящеры, не слушая заклинаний, бросились на вошедших, стали кромсать и рвать их тела на части.
Тогда Фортунатиан, впавший от увиденного в дикую свирепость, как бешеный пёс, роняя изо рта слюну и пену, повелел всех четверых обезглавить. Однако когда совершилась казнь, вместо буйной радости взвыл правитель, как раненный зверь: отрубленная голова Терентия не осталась смирно лежать у ног палача: мелькнув пегой бородой заляпанной кровью и перерубленными жилами, торчащими из обрубка шеи, запрыгала она сперва по ступеням высокого помоста, а затем по городским камням. Голова, вращаясь, подпрыгивала, катилась дальше, дальше! Её не умели догнать, были бессильны остановить, не могли, изловчась, ухватить за волосы, чтобы преподнести в дар, корчившемуся в эти мгновения от судорог ума и тела, собирателю черепов человеческих Фортунатиану…
А вскоре час истины настал и для императора Деция. Весной 251 года Деций и его сподвижник Галл решили возобновить боевые действия против предводителя готов Книвы, который в те дни неожиданно отступил к Дунаю. И сперва Дунай — Danuvius — приносил римлянам успех. Однако по ходу дела вдруг вспыхнул заговор против самого Деция. Римляне-заговорщики обратились за помощью не к кому-нибудь, а к готам. Возликовав от удачи, те согласились. Готы разделили своё войско на три части и стали лагерем близ заболоченных мест неподалёку от Абритта, что в римской провинции Мёзия. Битва разгорелась 1 июля. Децию удалось разгромить два крупных соединения готской армии. Но когда войска императора подошли к болотам, в спину им неожиданно ударил третий готский корпус. Римляне, не ждавшие такого маневра, были разбиты наголову. Потери их были устрашающе велики.
В болотистой местности, на краю дунайской поймы, наголову разбитый коварными готами, подмятый взбесившейся — сперва понёсшей, а затем упавшей — лошадью, император Гай Ме́ссий Квинт Траян Деций воззвал к богам и крепко смежил веки. Лицо его при этом исказила судорога: полной веры богам уже не было, иногда хотелось над ними смеяться, перекривлять их, вышучивать. Усилием воли, распрямив мышцы лица, император подождал помощи. Не дождавшись, стал сам выбираться из-под коня, тяжко подмявшего под себя императорские ноги и нижнюю часть спины.
Невдалеке блеснул приманчиво участок мутно-сизой, поросшей по краю цветущими жёлтыми лилиями, воды. Выбравшись из-под околевающей лошади и не видя рядом ни собственных воинов, ни бешеных готов, ни союзных с ними дакийцев, ни римлян-заговорщиков, император пошёл к воде, развязал и сбросил сандалии, омыл по очереди ступни ног. Затем, сделав два шага вперёд, стал омывать лицо и шею. Раздался коварный, грубо-смокчущий звук. И тут же закричал, невесть откуда взявшийся в дунайской пойме, удод. Низкий и хриплый птичий голос опять что-то сообщал, о чём-то предупреждал, словно хотел тайное сделать явным. Однако голос удода вызвал у Деция лишь усмешку. Дважды вслух он передразнил птицу, повторив её крик на свой лад. Чуть помедлив, Деций призвал богов снова. Это промедление, отвлёкшее мысли от водной мути, его и погубило: развратно чавкая сизым мертвецким ртом, болото, которое император принял за часть дунайской поймы, жадно потянуло вниз. Сделав резкое движение, чтобы выхватить укреплённый на бедре меч и разрубить надвое вдруг мелькнувшего призрачным телом рукокрылого демона трясин, Деций лишь ухудшил своё положение. Пекучая мысль о каком-то другом Боге на миг промелькнула в его уме. Но, как и настырного удода, мысль эту Деций от себя отшвырнул. И тут же чавканье возобновилось с новой силой. В три-четыре мгновения всё было кончено: Гай Ме́ссий Квинт Траян Деций исчез навсегда…
Запнувшись на полуслове, Терентий Африканец, смолк. Терёхе Пудову стало святого жаль, и он спросил, думая рассказчика утешить:
— Тело Деция, было предано земле с почестями?
— Этого не случилось, бомолох. Теми, кто послан был его искать, тело императора так и не было обнаружено…
Взбаламученный дунайский воздух, смешанный с резким конским потом и запахом расклёванных вороньём гниющих тел, как из широченного сточного жёлоба, хлынул на шута.
А тут ещё святой Терентий тёмно-оливковое лицо своё нахмурил и чуть помедлив, сказал:
— Ты невнимателен и слушаешь меня плохо. Мыслями, Бог знает где, витаешь. Оно и понятно. Ранен ты, едва жив. А всё ж таки напряги ум свой. Я ведь не просто так тебе явился. А явился сказать: ты не кривляка заурядный, не шут гороховый, не уязвлённый насмешник над птицами, людьми и царящей над тобой высшей властью, каким был Деций, не оскорбитель веры живых и покоя мёртвых, каким был Фортунатиан.
— А тогда, кто же я?
— Покамест — бомолох. А дальше — поглядим. Может, Шутом Божиим станешь.
— Это ж за какие такие заслуги?
— Шут Божий — не заслуга: святая обязанность. Коротко сказать — это такой шут, у которого не одни только грубые земные проказы на уме, но и кое-что иное.
— А тогда про это иное ясней скажи.
— Иное — это когда Шут Божий и ангелов, и самого Создателя в минуты скорби от не слишком удавшейся земной жизни сперва отвлечь, а потом и развеселить способен. И не только развеселить. Шуты в старину обладали способностью, или, точней, искусством — исцелять. Почему б и сейчас тайным исцелением душ земных и небесных им не заняться? Правда, не худо помнить: даже врачуя, случалось шутам дерзкими своими подковырками, только что излечившихся наповал сражать.
— Тогда я первый шут, который не убить подковыркой хочет, а сам готов убитым стать! Хотя точно знаю: перед шутовской смертью захочется, ох, захочется мне властолюбивых — оборжать, занёсшихся — опохабить, предавших — облить, как известью!
— Ты это верно сказал: часто шут добровольная жертва и есть. Такая вот ходячая, только, не унывная, а хохочущая жертва. Ну а похабы творить после будешь. Перед тем как час суда грянет. А то и впрямь, как Осип Гвоздь, жизнь свою на ноже кончишь. Ты ведь мыслями всё ещё к встрече с правителем устремлён?
— Ну, допустим.
— А зря.
— Зря — не зря. Не в том сейчас дело. И про Гвоздя ты не ко времени вспомнил… Осип, Осип, княжеский сын горемычный! Не могу сейчас про него думать. Хуже и тяжелей от этого мне становится. А ты… С чего вдруг ты на смеси языка прокурорского и древнерусского заговорил?
— Так ведь святые они, что в иной, что в вашей жизни всегда эволюцию претерпевают, не только духовного, но и языкового опыта набираются. Вот я к римскому своему словарю — византийско-русских ноток и добавил. И приятно мне это. И тебе приятно будет. Если...
Тут голос Африканца пресекся, и святой развеществился. Да и сам Терёха из лихорадки дальних странствий, — как расчёска из прохудившегося кармана, ещё цепляясь зубчиками за материю жизни иной, — стал потихоньку выпадать.
Как раз в эти мгновения тонко-едкий, надтреснутый смешок, схожий со смехом человека, потешавшегося над заколотым Осипом, мысли шутовские и перебил. Неприятным, расколотым колокольцем, оцарапал смешок этот Терёхин слух. Стал он отыскивать взглядом Терентия Африканского. Слышал ли? Нет?
И тогда исчезнувший было Африканец, вернулся вновь. Он заметно хмурился. Видно смешок, долетевший после убийства Гвоздя с дальнего конца царского стола и до святого, был в их деле лишним. И вообще показалось: осерчал Терентий! Даже чуть сгорбился с досады. Чтобы не огорчать себя видом святого, оттесняя боль книзу и в сторону, Терёха в поисках источника смеха оббежал внутренние свои пространства, принявшие в те минуты, вид нескончаемой полынной степи. Но смехотунчика взглядом не уцепил.
Тем временем, вдали, на краю полынной степи выкруглились два кургана. По краям курганов стояли светлокожие берберские пастухи в зелёных одеждах. Берберы держали в руках загнутые на концах пастушьи герлыги. Дробно блеяли овцы. Степь колыхалась. Полынь что-то пыталась на языке своём изъяснить.
Вдруг из мировых неясностей выставилось, а потом стало, как в кино, наплывать, возрастая и расширяясь над степью, огромное дерево. Рядом с ним — широченный пень.
Смешок треснул и просыпался сухим горохом ещё раз. Стало ясно: смеётся и потрескивает сам пень. И тогда Терентий Африканский, не пожалев своего бурнуса — или, скорей, своей белой ризы — на пень этот уселся. Смешок мигом лопнул. С облегчением выдохнув из себя воздух, Африканец сам себе посочувствовал:
— Из самого Карфагена за мной это смеховместилище тащится.
— Что за смеховместилище такое?
— А бесёнок двуполый. «Полторы ноги» — прозвали его черти-товарищи. Хромает сильно. И чтоб недостаток телесный, посланный ему в виде хромоты, как-то восполнить – набивает с утра до вечера утробу свою трескучим смехом, а потом смех этот по горам, по долам разбрасывает…
— Раз ты вернулся, позволь, и я мыслью назад убегу. Из твоего разговора, Африканец, выходит: шуты и на небе нужны. Сильно сомневаюсь я. Короче — не верю! Здесь, на земле наше дело, ещё, пожалуй, кой-кому нужно: через издёвку и посмеяние высшую правду в мозги обывателям, а иногда и власть имущим вколачивать. А ещё для того мы, трагические шуты, существуем — чтоб каждый из тех, кто нас на арене жизни заприметит, дотронулся в самом себе до ласкового дуралея внутри у него сидящего. С таким-то внутренним дуралеем несуразицы жизни откидывать от себя легче. И потом: отыскав в себе рычажок наивного дуралейства, любое из искусств, — оттолкнувшись как следует от всё того же дуралейства, — легче высоким сделать.
— Всё ваше искусство – шутовство. Впрочем, в хорошем, иногда даже в священномудром смысле.
— Не говори так! Не всё наше искусство шутовское. И, слава Богу. Ты там, у себя на небесах, «Тамань» читал? А «Святою ночью», а «Жизнь Арсеньева»? А «Херувимскую» №5 Бортнянского Дмитрия Степановича слышал? Искусство — особый путь к Богу. Никем не придуманный, извне не навязанный, чисто человеческий. Наверное, путь этот слабей и бессильней церковного. Но пускай он путаный, извилистый, нередко о камни нас расшибающий, — зато свой собственный, опасно-прекрасный, хоть на мгновение, а ещё при жизни на небо возносящий… И ещё скажу то, чего вы там у себя в наднебесье не знаете. Когда свежего и неожиданного искусства много — политика, как побитая собака, в конуру свою прячется. А это уже плюс. И немалый.
— Давай оставим политику политикам. Шут с ней, с политикой, как у вас говорят. А что касаемо земного слова и земного звука – поговорим обязательно. Но в другой раз. Когда завершать путь свой будешь. А путь и у тебя, и у других шутов башковитых – один: смеясь, помогать перерождению зла.
— Это ещё, что за новость? Зло есть зло. Добро есть добро.
— Так было вплоть до середины ХХ века. Но ближе к его окончанию, пересмотр в тонах и оттенках добра и зла начался́. Раз не удаётся победить зло, значит, нужно его преобразовать, видоизменить! Попытаться утихомирить зло путём его перерождения в добро особого рода. Причём исполнение этого дела будет у дьявола отнято и отдано в другие руки.
— Ну и ну. Мысль сучковатая, непривычная.
— А ты привыкай! И уразумей: мир ваш человеческой в трёхчастную драму втиснут.
Часть I. Иссякание добра, несмотря на все усилия церквей и мирских праведников. Часть II. Непомерное увеличение, а затем и преобладание в жизни земной зла. Часть III. Как уже было сказано: перерождение зла с помощью неба и самого человека в добро иного рода. Здесь-то, в третьей части земной драмы, шуты, ох, как понадобятся. Ведь если не будут предприняты чрезвычайные усилия против разрастания зла, против наносимых им ран и увечий – всё может закончиться крахом. Нелепо и непредусмотренно закончиться может…
— Продумать твои слова нужно. Не могу я сразу трёхчастную эту драму осмыслить. А только замечу: как раз драматизм жизни и заставляет нас любить её безмерно. Трусоватая бездрамность она для слабодушных. Сродни идиотизму или старческому маразму она.
— Ты перебил, но я продолжу: созерцать рвано-кровавые отметины мира нам в наднебесье иногда просто необходимо. Но время от времени неплохо бы сопровождать это созерцание шутовским толкованием. На высотах наших тоже, знаешь ли, иногда не жизнь, а кисель застывший. Поэтому необходимо млечные пути расшевелить, кисельные берега раздвинуть. Хочется и нам грубо-едкую правду про землю, — стыдливо прикрыв крылышками лицо, — иной раз услышать.
— Зачем же лицо прикрывать? И почему вы сами едкую правду сказать себе не можете? Погостили у нас, поглядели, меры, как говорится, взяли, и опять кругосветку свою запустили.
— Не всё так просто, Терентий Фомич, не всё. Поэтому и нужны нам, не тугодумы в ханжеские одежды рядящиеся, а грозные искатели праведности: грубо говорящие, нередко похабы творящие.
— Так это вам не шуты, вам юроды нужны.
— И они, конечно, тоже. Есть, однако, тонкая грань, между шутовством и юродством.
— Это какая же?
— Юрод — изначально Божий человек. И всегда под нашей защитой. А шуты – на свой страх и риск живут и умирают. И до Божьего заступничества им бывает ох, как далеко. Через шутов — реальную жизнь в её беззащитности хотим наблюдать! Нам такая беззащитность дороже заплесневелых слов, скрывающих порок одеяний и сытой отгороженности от мира… А ещё развита среди вас, шутов, полувоенная шутовская маскировка, мимикрия по-гречески. Применяют шуты и ещё одно важное противозаразное средство: покровительственную окраску. Такие способы борьбы со злом, сейчас, ох, как полезны. Ну, а юроды — те покровительственной окраски и защитной маскировки не приемлют. Дубасят и секут, кромсают и размахивают правдой, словно палкой с набалдашником: направо и налево. Они конечно тоже пригодятся, но не сейчас, позже… Ну, а касаемо тебя, — тут ведь как? Ты про Осипа Гвоздя вспомнил – плотный мыслеобраз по небесному Интернету к нам и прилетел. Потому-то я здесь: вразумить и предупредить тебя.
— Значит и ваши мозги «Ишак» законопатил!
— Какой ещё ишак?
— «Ишаком» мы Интернет Эксплорер зовём.
— Ну-ну. Доиграетесь вы с подменой слов, с неоправданной подменой их смыслов! Скоро совсем без языка родного останетесь. А тупоголовым шутам на заразно-вирусном языке свои мыслишки вырабатывающим, у нас один путь — вниз! Ладно, заканчивать пора. Тяжелит меня воздух земной. Слишком криками насыщен, воплями и воздушно-капельной кровью набит под завязочку. Поэтому — кратко: живи, смеши, выкругляй новые арены, слезами горючими радуй. Но и меру знай, не заносись, не калечь ближних словами. И помни: шутовство — серьёзное дело. А что до жезла твоего шутовского, то хоть роль он свою для тебя и сыграл, не откидывай его пока, повремени. Иначе не Шутом Божьим – рабом низких помыслов можешь стать…
— Что же я тут один, Шут Божий, сделать могу? Должен образоваться новый Круг Божий. Я цирк, имею в виду. Жизнь на земле должна стать весёлой, воздушно-акробатической, как на хорошем цирковом представлении. А она, видишь, вокруг какая? Ни тебе дня без подстав и полдянок, ни тебе дня без ручейков и потоков крови.
— Эк, ты загнул, Терёха. Ранен ты, понимаю. Но ведь не в голову же. Шут Божий — это только на небе. Там только цирк Божий и возможен. И то в редких случаях. А что до земных дел, то запомни: нет мира без войны и нет войны без мира. Не противоположны эти понятия, а навек связаны. Нет человека без крови, и кровь эта должна и будет литься! Чтобы досыта напитать землю, которая человеческой крови ждёт и жаждет, хоть жёстко её и не требует. Ведь даже душа в небесах обитающая и та свою особую кровь имеет.
— Так значит, по-твоему, это не капиталюги загребистые, а сама земля требует кровь лить и лить? Как у нас на проспекте Сахарова? Как укро-фашизоиды в Донбассе? Как пиндосы полосатые когда-то в Югославии? Смешно про землю и кровь ты сказал! Обсмею и опозорю и тебя, и мысль твою, как только на ноги встану. Так и знай!
— Смутил ты меня, Терёха. Я ведь святой и мысли у меня тоже должны быть святые. Есть, конечно, некий разлад между волей земли и своеволием человека. Что поделать, есть! Поэтому давай лучше о другом. Переведи взгляд выше. Видишь? Я теперь на дереве африканском и сладко мне. И ты воспари над реками земной крови. Тебе тоже сладко станет. На тонком плане не всё ещё решено. На вашем земном плане — тем более. Поэтому через шутовство донеси мои слова до людей ваших.
— А без шутовства — никак?
— Сам знаешь: без шутовства не поверят. Невосприимчив к праведным словам и поступкам стал нынешний человек. Вот через новый парад шутов и передашь кое-что из нашей беседы. Прощай, ухожу…
Тут снова увидел Терёха высокое и раскидистое африканское дерево. А на нём — шевелимых ветерками близко-далёких людей с бородами и без, в основном мужчин, но также и женщин в платочках и лазоревых длинных одеждах.
Дерево африканское росло, разрасталось! Не быстро, но всё ж таки заметно. Тщетно пытались выдраться на неохватный ствол готы и римляне. Напрасно карабкался император Деций Траян вместе со своей супругой Этрусциллой и свирепым правителем Фортунатианом. Впустую бегали рядом с узластым стволом, к шутовскому шествию Терёхой подготовленные, но в реальности так им и не отсмотренные: запроданец Имудоныч и наломавший дров Кукуцаполь. Горячились близ дерева и другие люди: несли к стволу приставные лестницы, подгоняли краны с выдвижной стрелой. Но не было им позволения влезть на облепленные бело-золотым цветом не слишком толстые, зато прочные ветви! И поэтому становились людишки суетящиеся у толстенного комля меньше, тоньше, пока не превратились в шерстистых двуногих гусениц, то глядящих с вожделением на дерево, то со страхом на стаю красно-коричневых птиц, по виду напоминавших ибисов с хирургическими серпообразными клювами, уже готовых двуногих гусениц поддеть, подбросить вверх, на лету поймать и меж костями своего клюва расплющить…
Терёха встряхнулся, попытался убрать картинку, продолжить разговор. Он его и продолжил, но тише, глуше. Да и Святой Терентий исчез, хоть голос его издалека и доносился.
— Разволновал ты меня своими мыслями, Терёха. Потому я от тебя и отдалился. Но вопреки небесным законам снова голосом к тебе возвращаюсь. Доложу о тебе выше. Там разберутся с мозгами современными, которые мало что в жизни земной, подготовляющей жизнь небесную, постигли…
— До Бога далеко, а черти — они всегда рядом!
— Не так далеко до Бога, как думают. Иногда — очень даже близко. Протянешь руку, птица на неё сядет — это Бог. Глянешь на небо, опрокинулась радуга — опять-таки Он.
— Ты тоже меня не слушаешь! О другом я. Не будет мне покоя, пока чертей, хоть на время, подальше не отгоню, на земле жизнь бесслёзную не устрою. Пусть даже через несовершенный цирк наш: цирк не кончающийся, цирк без мучений, без смертей любимых зверей и зверушек, без прогнувшихся перед политиками клоунов-подлипал, готовых без конца лизать и нахваливать, нахваливать и лизать…
— Всё, прощай. Скажу ещё тебе напоследок. Если хочешь властвовать временем — опережай его. Опережая собственное время, окажешься в пневмо-потоках высшего бытия, в которых будущая жизнь твоя и отразится: как в небыстрой реке отражаются — если вглядеться — будущие войны, перемирия и радость, не вмещаемая умом и сердцем!
Здесь Терёха дёрнулся, потянулся всем телом к святому и далекому дереву, но от боли в животе, вмиг потерял сознание.
Разъяренный гибелью идолов Фортунатиан тут же приказал всех подвергнутых пыткам — за исключением четверых — казнить.
Поздним вечером, почти ночью, после казни тридцати шести мучеников, правитель Африки велел привести к себе Терентия, Адриана, Максима и Помпия и показал им изувеченные тела казненных. После этого снова предложил принести жертву спешно установленным прямо на площади новым идолам. Все четверо отказались. Побагровев от ярости, Фортунатиан отдал приказ наложить на несломленных тяжкие — имеющие в себе полный талант весу — оковы и уморить голодом в темнице.
Ночью Ангел Силы — Angelos Potestatеs — напитал узников влагой своего дыхания и снял с них оковы. Нежно, кончиками крыльев, дотронулся он до одного из узников и унял неостановимое носовое кровотечение, мучавшее Терентия сильнее ран, отнимавшего у него мужество и отвагу.
Наутро стража нашла всех четверых свежими и полными сил. Рассвирепев, Фортунатиан приказал волхвам и заклинателям наслать на темницу змей и всяких иных существ и гадов: панцирных ящеров называемых анкилозаврами, змеевласых горгоний, гадюк и чёрных скорпионов. Следующим вечером, при свете луны и звёзд, через круглое отверстие в крыше заглянули стражники в темницу и увидели Терентия, Адриана, Максима и Помпия живыми и нерастерзанными. И ещё увидели: все четверо молятся, а панцирные ящеры, змеи и даже змеевласые горгонии, вызванные из морских пещер, чтобы обратить упрямцев в камень, ползают у их ног. Когда же волхователи, исполняя приказание, открыли двери темницы, гады и панцирные ящеры, не слушая заклинаний, бросились на вошедших, стали кромсать и рвать их тела на части.
Тогда Фортунатиан, впавший от увиденного в дикую свирепость, как бешеный пёс, роняя изо рта слюну и пену, повелел всех четверых обезглавить. Однако когда совершилась казнь, вместо буйной радости взвыл правитель, как раненный зверь: отрубленная голова Терентия не осталась смирно лежать у ног палача: мелькнув пегой бородой заляпанной кровью и перерубленными жилами, торчащими из обрубка шеи, запрыгала она сперва по ступеням высокого помоста, а затем по городским камням. Голова, вращаясь, подпрыгивала, катилась дальше, дальше! Её не умели догнать, были бессильны остановить, не могли, изловчась, ухватить за волосы, чтобы преподнести в дар, корчившемуся в эти мгновения от судорог ума и тела, собирателю черепов человеческих Фортунатиану…
А вскоре час истины настал и для императора Деция. Весной 251 года Деций и его сподвижник Галл решили возобновить боевые действия против предводителя готов Книвы, который в те дни неожиданно отступил к Дунаю. И сперва Дунай — Danuvius — приносил римлянам успех. Однако по ходу дела вдруг вспыхнул заговор против самого Деция. Римляне-заговорщики обратились за помощью не к кому-нибудь, а к готам. Возликовав от удачи, те согласились. Готы разделили своё войско на три части и стали лагерем близ заболоченных мест неподалёку от Абритта, что в римской провинции Мёзия. Битва разгорелась 1 июля. Децию удалось разгромить два крупных соединения готской армии. Но когда войска императора подошли к болотам, в спину им неожиданно ударил третий готский корпус. Римляне, не ждавшие такого маневра, были разбиты наголову. Потери их были устрашающе велики.
В болотистой местности, на краю дунайской поймы, наголову разбитый коварными готами, подмятый взбесившейся — сперва понёсшей, а затем упавшей — лошадью, император Гай Ме́ссий Квинт Траян Деций воззвал к богам и крепко смежил веки. Лицо его при этом исказила судорога: полной веры богам уже не было, иногда хотелось над ними смеяться, перекривлять их, вышучивать. Усилием воли, распрямив мышцы лица, император подождал помощи. Не дождавшись, стал сам выбираться из-под коня, тяжко подмявшего под себя императорские ноги и нижнюю часть спины.
Невдалеке блеснул приманчиво участок мутно-сизой, поросшей по краю цветущими жёлтыми лилиями, воды. Выбравшись из-под околевающей лошади и не видя рядом ни собственных воинов, ни бешеных готов, ни союзных с ними дакийцев, ни римлян-заговорщиков, император пошёл к воде, развязал и сбросил сандалии, омыл по очереди ступни ног. Затем, сделав два шага вперёд, стал омывать лицо и шею. Раздался коварный, грубо-смокчущий звук. И тут же закричал, невесть откуда взявшийся в дунайской пойме, удод. Низкий и хриплый птичий голос опять что-то сообщал, о чём-то предупреждал, словно хотел тайное сделать явным. Однако голос удода вызвал у Деция лишь усмешку. Дважды вслух он передразнил птицу, повторив её крик на свой лад. Чуть помедлив, Деций призвал богов снова. Это промедление, отвлёкшее мысли от водной мути, его и погубило: развратно чавкая сизым мертвецким ртом, болото, которое император принял за часть дунайской поймы, жадно потянуло вниз. Сделав резкое движение, чтобы выхватить укреплённый на бедре меч и разрубить надвое вдруг мелькнувшего призрачным телом рукокрылого демона трясин, Деций лишь ухудшил своё положение. Пекучая мысль о каком-то другом Боге на миг промелькнула в его уме. Но, как и настырного удода, мысль эту Деций от себя отшвырнул. И тут же чавканье возобновилось с новой силой. В три-четыре мгновения всё было кончено: Гай Ме́ссий Квинт Траян Деций исчез навсегда…
Запнувшись на полуслове, Терентий Африканец, смолк. Терёхе Пудову стало святого жаль, и он спросил, думая рассказчика утешить:
— Тело Деция, было предано земле с почестями?
— Этого не случилось, бомолох. Теми, кто послан был его искать, тело императора так и не было обнаружено…
Взбаламученный дунайский воздух, смешанный с резким конским потом и запахом расклёванных вороньём гниющих тел, как из широченного сточного жёлоба, хлынул на шута.
А тут ещё святой Терентий тёмно-оливковое лицо своё нахмурил и чуть помедлив, сказал:
— Ты невнимателен и слушаешь меня плохо. Мыслями, Бог знает где, витаешь. Оно и понятно. Ранен ты, едва жив. А всё ж таки напряги ум свой. Я ведь не просто так тебе явился. А явился сказать: ты не кривляка заурядный, не шут гороховый, не уязвлённый насмешник над птицами, людьми и царящей над тобой высшей властью, каким был Деций, не оскорбитель веры живых и покоя мёртвых, каким был Фортунатиан.
— А тогда, кто же я?
— Покамест — бомолох. А дальше — поглядим. Может, Шутом Божиим станешь.
— Это ж за какие такие заслуги?
— Шут Божий — не заслуга: святая обязанность. Коротко сказать — это такой шут, у которого не одни только грубые земные проказы на уме, но и кое-что иное.
— А тогда про это иное ясней скажи.
— Иное — это когда Шут Божий и ангелов, и самого Создателя в минуты скорби от не слишком удавшейся земной жизни сперва отвлечь, а потом и развеселить способен. И не только развеселить. Шуты в старину обладали способностью, или, точней, искусством — исцелять. Почему б и сейчас тайным исцелением душ земных и небесных им не заняться? Правда, не худо помнить: даже врачуя, случалось шутам дерзкими своими подковырками, только что излечившихся наповал сражать.
— Тогда я первый шут, который не убить подковыркой хочет, а сам готов убитым стать! Хотя точно знаю: перед шутовской смертью захочется, ох, захочется мне властолюбивых — оборжать, занёсшихся — опохабить, предавших — облить, как известью!
— Ты это верно сказал: часто шут добровольная жертва и есть. Такая вот ходячая, только, не унывная, а хохочущая жертва. Ну а похабы творить после будешь. Перед тем как час суда грянет. А то и впрямь, как Осип Гвоздь, жизнь свою на ноже кончишь. Ты ведь мыслями всё ещё к встрече с правителем устремлён?
— Ну, допустим.
— А зря.
— Зря — не зря. Не в том сейчас дело. И про Гвоздя ты не ко времени вспомнил… Осип, Осип, княжеский сын горемычный! Не могу сейчас про него думать. Хуже и тяжелей от этого мне становится. А ты… С чего вдруг ты на смеси языка прокурорского и древнерусского заговорил?
— Так ведь святые они, что в иной, что в вашей жизни всегда эволюцию претерпевают, не только духовного, но и языкового опыта набираются. Вот я к римскому своему словарю — византийско-русских ноток и добавил. И приятно мне это. И тебе приятно будет. Если...
Тут голос Африканца пресекся, и святой развеществился. Да и сам Терёха из лихорадки дальних странствий, — как расчёска из прохудившегося кармана, ещё цепляясь зубчиками за материю жизни иной, — стал потихоньку выпадать.
Как раз в эти мгновения тонко-едкий, надтреснутый смешок, схожий со смехом человека, потешавшегося над заколотым Осипом, мысли шутовские и перебил. Неприятным, расколотым колокольцем, оцарапал смешок этот Терёхин слух. Стал он отыскивать взглядом Терентия Африканского. Слышал ли? Нет?
И тогда исчезнувший было Африканец, вернулся вновь. Он заметно хмурился. Видно смешок, долетевший после убийства Гвоздя с дальнего конца царского стола и до святого, был в их деле лишним. И вообще показалось: осерчал Терентий! Даже чуть сгорбился с досады. Чтобы не огорчать себя видом святого, оттесняя боль книзу и в сторону, Терёха в поисках источника смеха оббежал внутренние свои пространства, принявшие в те минуты, вид нескончаемой полынной степи. Но смехотунчика взглядом не уцепил.
Тем временем, вдали, на краю полынной степи выкруглились два кургана. По краям курганов стояли светлокожие берберские пастухи в зелёных одеждах. Берберы держали в руках загнутые на концах пастушьи герлыги. Дробно блеяли овцы. Степь колыхалась. Полынь что-то пыталась на языке своём изъяснить.
Вдруг из мировых неясностей выставилось, а потом стало, как в кино, наплывать, возрастая и расширяясь над степью, огромное дерево. Рядом с ним — широченный пень.
Смешок треснул и просыпался сухим горохом ещё раз. Стало ясно: смеётся и потрескивает сам пень. И тогда Терентий Африканский, не пожалев своего бурнуса — или, скорей, своей белой ризы — на пень этот уселся. Смешок мигом лопнул. С облегчением выдохнув из себя воздух, Африканец сам себе посочувствовал:
— Из самого Карфагена за мной это смеховместилище тащится.
— Что за смеховместилище такое?
— А бесёнок двуполый. «Полторы ноги» — прозвали его черти-товарищи. Хромает сильно. И чтоб недостаток телесный, посланный ему в виде хромоты, как-то восполнить – набивает с утра до вечера утробу свою трескучим смехом, а потом смех этот по горам, по долам разбрасывает…
— Раз ты вернулся, позволь, и я мыслью назад убегу. Из твоего разговора, Африканец, выходит: шуты и на небе нужны. Сильно сомневаюсь я. Короче — не верю! Здесь, на земле наше дело, ещё, пожалуй, кой-кому нужно: через издёвку и посмеяние высшую правду в мозги обывателям, а иногда и власть имущим вколачивать. А ещё для того мы, трагические шуты, существуем — чтоб каждый из тех, кто нас на арене жизни заприметит, дотронулся в самом себе до ласкового дуралея внутри у него сидящего. С таким-то внутренним дуралеем несуразицы жизни откидывать от себя легче. И потом: отыскав в себе рычажок наивного дуралейства, любое из искусств, — оттолкнувшись как следует от всё того же дуралейства, — легче высоким сделать.
— Всё ваше искусство – шутовство. Впрочем, в хорошем, иногда даже в священномудром смысле.
— Не говори так! Не всё наше искусство шутовское. И, слава Богу. Ты там, у себя на небесах, «Тамань» читал? А «Святою ночью», а «Жизнь Арсеньева»? А «Херувимскую» №5 Бортнянского Дмитрия Степановича слышал? Искусство — особый путь к Богу. Никем не придуманный, извне не навязанный, чисто человеческий. Наверное, путь этот слабей и бессильней церковного. Но пускай он путаный, извилистый, нередко о камни нас расшибающий, — зато свой собственный, опасно-прекрасный, хоть на мгновение, а ещё при жизни на небо возносящий… И ещё скажу то, чего вы там у себя в наднебесье не знаете. Когда свежего и неожиданного искусства много — политика, как побитая собака, в конуру свою прячется. А это уже плюс. И немалый.
— Давай оставим политику политикам. Шут с ней, с политикой, как у вас говорят. А что касаемо земного слова и земного звука – поговорим обязательно. Но в другой раз. Когда завершать путь свой будешь. А путь и у тебя, и у других шутов башковитых – один: смеясь, помогать перерождению зла.
— Это ещё, что за новость? Зло есть зло. Добро есть добро.
— Так было вплоть до середины ХХ века. Но ближе к его окончанию, пересмотр в тонах и оттенках добра и зла начался́. Раз не удаётся победить зло, значит, нужно его преобразовать, видоизменить! Попытаться утихомирить зло путём его перерождения в добро особого рода. Причём исполнение этого дела будет у дьявола отнято и отдано в другие руки.
— Ну и ну. Мысль сучковатая, непривычная.
— А ты привыкай! И уразумей: мир ваш человеческой в трёхчастную драму втиснут.
Часть I. Иссякание добра, несмотря на все усилия церквей и мирских праведников. Часть II. Непомерное увеличение, а затем и преобладание в жизни земной зла. Часть III. Как уже было сказано: перерождение зла с помощью неба и самого человека в добро иного рода. Здесь-то, в третьей части земной драмы, шуты, ох, как понадобятся. Ведь если не будут предприняты чрезвычайные усилия против разрастания зла, против наносимых им ран и увечий – всё может закончиться крахом. Нелепо и непредусмотренно закончиться может…
— Продумать твои слова нужно. Не могу я сразу трёхчастную эту драму осмыслить. А только замечу: как раз драматизм жизни и заставляет нас любить её безмерно. Трусоватая бездрамность она для слабодушных. Сродни идиотизму или старческому маразму она.
— Ты перебил, но я продолжу: созерцать рвано-кровавые отметины мира нам в наднебесье иногда просто необходимо. Но время от времени неплохо бы сопровождать это созерцание шутовским толкованием. На высотах наших тоже, знаешь ли, иногда не жизнь, а кисель застывший. Поэтому необходимо млечные пути расшевелить, кисельные берега раздвинуть. Хочется и нам грубо-едкую правду про землю, — стыдливо прикрыв крылышками лицо, — иной раз услышать.
— Зачем же лицо прикрывать? И почему вы сами едкую правду сказать себе не можете? Погостили у нас, поглядели, меры, как говорится, взяли, и опять кругосветку свою запустили.
— Не всё так просто, Терентий Фомич, не всё. Поэтому и нужны нам, не тугодумы в ханжеские одежды рядящиеся, а грозные искатели праведности: грубо говорящие, нередко похабы творящие.
— Так это вам не шуты, вам юроды нужны.
— И они, конечно, тоже. Есть, однако, тонкая грань, между шутовством и юродством.
— Это какая же?
— Юрод — изначально Божий человек. И всегда под нашей защитой. А шуты – на свой страх и риск живут и умирают. И до Божьего заступничества им бывает ох, как далеко. Через шутов — реальную жизнь в её беззащитности хотим наблюдать! Нам такая беззащитность дороже заплесневелых слов, скрывающих порок одеяний и сытой отгороженности от мира… А ещё развита среди вас, шутов, полувоенная шутовская маскировка, мимикрия по-гречески. Применяют шуты и ещё одно важное противозаразное средство: покровительственную окраску. Такие способы борьбы со злом, сейчас, ох, как полезны. Ну, а юроды — те покровительственной окраски и защитной маскировки не приемлют. Дубасят и секут, кромсают и размахивают правдой, словно палкой с набалдашником: направо и налево. Они конечно тоже пригодятся, но не сейчас, позже… Ну, а касаемо тебя, — тут ведь как? Ты про Осипа Гвоздя вспомнил – плотный мыслеобраз по небесному Интернету к нам и прилетел. Потому-то я здесь: вразумить и предупредить тебя.
— Значит и ваши мозги «Ишак» законопатил!
— Какой ещё ишак?
— «Ишаком» мы Интернет Эксплорер зовём.
— Ну-ну. Доиграетесь вы с подменой слов, с неоправданной подменой их смыслов! Скоро совсем без языка родного останетесь. А тупоголовым шутам на заразно-вирусном языке свои мыслишки вырабатывающим, у нас один путь — вниз! Ладно, заканчивать пора. Тяжелит меня воздух земной. Слишком криками насыщен, воплями и воздушно-капельной кровью набит под завязочку. Поэтому — кратко: живи, смеши, выкругляй новые арены, слезами горючими радуй. Но и меру знай, не заносись, не калечь ближних словами. И помни: шутовство — серьёзное дело. А что до жезла твоего шутовского, то хоть роль он свою для тебя и сыграл, не откидывай его пока, повремени. Иначе не Шутом Божьим – рабом низких помыслов можешь стать…
— Что же я тут один, Шут Божий, сделать могу? Должен образоваться новый Круг Божий. Я цирк, имею в виду. Жизнь на земле должна стать весёлой, воздушно-акробатической, как на хорошем цирковом представлении. А она, видишь, вокруг какая? Ни тебе дня без подстав и полдянок, ни тебе дня без ручейков и потоков крови.
— Эк, ты загнул, Терёха. Ранен ты, понимаю. Но ведь не в голову же. Шут Божий — это только на небе. Там только цирк Божий и возможен. И то в редких случаях. А что до земных дел, то запомни: нет мира без войны и нет войны без мира. Не противоположны эти понятия, а навек связаны. Нет человека без крови, и кровь эта должна и будет литься! Чтобы досыта напитать землю, которая человеческой крови ждёт и жаждет, хоть жёстко её и не требует. Ведь даже душа в небесах обитающая и та свою особую кровь имеет.
— Так значит, по-твоему, это не капиталюги загребистые, а сама земля требует кровь лить и лить? Как у нас на проспекте Сахарова? Как укро-фашизоиды в Донбассе? Как пиндосы полосатые когда-то в Югославии? Смешно про землю и кровь ты сказал! Обсмею и опозорю и тебя, и мысль твою, как только на ноги встану. Так и знай!
— Смутил ты меня, Терёха. Я ведь святой и мысли у меня тоже должны быть святые. Есть, конечно, некий разлад между волей земли и своеволием человека. Что поделать, есть! Поэтому давай лучше о другом. Переведи взгляд выше. Видишь? Я теперь на дереве африканском и сладко мне. И ты воспари над реками земной крови. Тебе тоже сладко станет. На тонком плане не всё ещё решено. На вашем земном плане — тем более. Поэтому через шутовство донеси мои слова до людей ваших.
— А без шутовства — никак?
— Сам знаешь: без шутовства не поверят. Невосприимчив к праведным словам и поступкам стал нынешний человек. Вот через новый парад шутов и передашь кое-что из нашей беседы. Прощай, ухожу…
Тут снова увидел Терёха высокое и раскидистое африканское дерево. А на нём — шевелимых ветерками близко-далёких людей с бородами и без, в основном мужчин, но также и женщин в платочках и лазоревых длинных одеждах.
Дерево африканское росло, разрасталось! Не быстро, но всё ж таки заметно. Тщетно пытались выдраться на неохватный ствол готы и римляне. Напрасно карабкался император Деций Траян вместе со своей супругой Этрусциллой и свирепым правителем Фортунатианом. Впустую бегали рядом с узластым стволом, к шутовскому шествию Терёхой подготовленные, но в реальности так им и не отсмотренные: запроданец Имудоныч и наломавший дров Кукуцаполь. Горячились близ дерева и другие люди: несли к стволу приставные лестницы, подгоняли краны с выдвижной стрелой. Но не было им позволения влезть на облепленные бело-золотым цветом не слишком толстые, зато прочные ветви! И поэтому становились людишки суетящиеся у толстенного комля меньше, тоньше, пока не превратились в шерстистых двуногих гусениц, то глядящих с вожделением на дерево, то со страхом на стаю красно-коричневых птиц, по виду напоминавших ибисов с хирургическими серпообразными клювами, уже готовых двуногих гусениц поддеть, подбросить вверх, на лету поймать и меж костями своего клюва расплющить…
Терёха встряхнулся, попытался убрать картинку, продолжить разговор. Он его и продолжил, но тише, глуше. Да и Святой Терентий исчез, хоть голос его издалека и доносился.
— Разволновал ты меня своими мыслями, Терёха. Потому я от тебя и отдалился. Но вопреки небесным законам снова голосом к тебе возвращаюсь. Доложу о тебе выше. Там разберутся с мозгами современными, которые мало что в жизни земной, подготовляющей жизнь небесную, постигли…
— До Бога далеко, а черти — они всегда рядом!
— Не так далеко до Бога, как думают. Иногда — очень даже близко. Протянешь руку, птица на неё сядет — это Бог. Глянешь на небо, опрокинулась радуга — опять-таки Он.
— Ты тоже меня не слушаешь! О другом я. Не будет мне покоя, пока чертей, хоть на время, подальше не отгоню, на земле жизнь бесслёзную не устрою. Пусть даже через несовершенный цирк наш: цирк не кончающийся, цирк без мучений, без смертей любимых зверей и зверушек, без прогнувшихся перед политиками клоунов-подлипал, готовых без конца лизать и нахваливать, нахваливать и лизать…
— Всё, прощай. Скажу ещё тебе напоследок. Если хочешь властвовать временем — опережай его. Опережая собственное время, окажешься в пневмо-потоках высшего бытия, в которых будущая жизнь твоя и отразится: как в небыстрой реке отражаются — если вглядеться — будущие войны, перемирия и радость, не вмещаемая умом и сердцем!
Здесь Терёха дёрнулся, потянулся всем телом к святому и далекому дереву, но от боли в животе, вмиг потерял сознание.
Маротта идёт на войну
Взмахи кончились. Скупых деревянных мыслей больше не было.
В эти мгновения, переломленную надвое, брошенную у Стены Скорби маротту и подхватили. Нижнюю часть с наконечником, — прекрасно обученная, но на беду потерявшая хозяина собака. Верхнюю часть — подросток, заинтересовавшийся резной головкой с высунутым языком.
Впрочем, и собака, и подросток быстро оставили обломки маротты в покое.
Подросток вынул женское карманное зеркальце, показал заляпанной жиром поверхности язык, пупырчатым своим языком залюбовался и, бросив обломок маротты на асфальт, едва волоча ноги и путаясь в собственных мыслях, но при этом, продолжая неотрывно глядеть в зеркальце, двинул в Интернет-кафе.
Русский охотничий спаниель, рыже-пегий, с висячими длинными ушами и пятнистыми лапами, тоже оставил обломок жезла в покое. Умная подружейная псина, до боли преданная потерявшемуся два дня назад хозяину, враз поняла: такая палка перепелятнику не нужна. Медленно развернувшись, рыже-пегий охотник пустился лёгким галопом по пахучему следу, оставленному кем-то из убегавших от ОМОНа людей.
И тогда маротту подхватил — сперва один обломок, а метров через тридцать другой – нестарый ещё бомж-интеллигент. Он и бомжом-то настоящим не был, просто месяц назад, пока вкалывал в донбасской командировке, жена успела выкинуть вещи, поменять на дверях замки и оставила сторожить их квартиру здоровенного охранника-амбала, взявшего по этому случаю отпуск за свой счёт.
Бомж-интеллигент залюбовался резной работой и хоть с опозданием, а решил вернуть – пусть даже сломанную — палку хозяину. Он видел, как хозяина резной палки повалили наземь, как били, как налетел, но никого не стал задерживать ОМОН, видел, как два омоновца помогли дотащить лежащего до «скорой». Внимательно наблюдал бомж и за тем, как человека в клоунской разодранной вдоль и поперёк одежде увозила карета, слышал докторицу перед тем, как машина тронулась с места, недовольно сказавшую фельдшеру:
— Опять в 23-ю?! Будут там полчаса мариновать, пока этого клоуна не оформят. Даже странно: врачебный персонал в больнице классный, а технические службы уж очень неразворотливые.
23-ю больницу имени доктора Давыдовского, стоящую у подошвы крутобокой Швивой горки, бомж-интеллигент хорошо знал: в тамошний морг забирали его мать, оттуда на кладбище он её и увозил…
Идти до больницы было далеко, а делать нечего: глаз деревянного шута, так и колол, так и сверлил бомжа-интеллигента, и чуть ли не в голос требовал: верни, верни хозяину!
Сознавая: не вернув посох (так бомж про себя сразу окрестил брошенный жезл) присвоив пусть даже сломанную, но явно ценную вещь, — он окончательно себя запрезирает.
— Сломанный посох – сломанная жизнь. Но и такая жизнь хоть чего-то, а стоит, — пробурчал про себя бомж-интеллигент, и поспешил на Швивую горку.
Через Покровку, Маросейку и Солянку, спотыкаясь от слабости и ускоряя шаг от решимости помочь, шёл и шёл он к 23-й больнице.
И поплыла перед глазами шутовского жезла, с виду погасшими, но всё примечавшими, Москва пешая, неавтомобильная. Москва подпрыгивала, смеялась, чертыхалась, вскрикивала, в домах тихонько подвывала и снова расплывалась в улыбке…
Бомж спешил переулками, дворами. Во дворе сломанный посох у него и отняли.
Уже совсем рядом с больницей Давыдовского, близ бывших Тетеринских бань, сразу за обожжённым с одного боку молнией высоченным ясенолистым клёном, три старшеклассника заприметили резную головку с ослиными ушами. Не сговариваясь, кинулись они на бомжару, сбили его наземь. Едва ли не с кожей выдрав из всё ещё цепких пальцев обломки, сыпанула пацанва в проходной двор.
От бессилия — изгнанный женой, уволенный с работы, брошенный приятелями — бомж-интеллигент заплакал: сорвалось хорошее дело. Он плакал и даже пытался есть землю, как вдруг услыхал поросячий визг. Приподнявшись на локте, увидел: рыжий, облепленный веснухами пацанёнок с жёсткими, как проволока, волосами и незакрывающимся из-за огромных зубов заячьим ртом – корчится и приседает от боли, держась за глаз. Меж пальцами сочится кровь, верхняя часть посоха с резной головкой и нижняя постепенно сужающаяся, лежат рядом.
— Ну, ты влип, Ржавый, — крикнул другой пацанёнок: чернявый, пониже ростом, — никогда не видал, чтоб палка сама кому-то глаз выбила!
Ржавый, воя от боли, катался по земле, посох лежал рядом и, — как показалось бомжу-интеллигенту, сразу к этому месту подтянувшемуся, — головка резная коварно улыбалась.
Бомж подошёл вплотную, подхватил оба обломка, полой пиджачка отёр кровь с нижней части посоха, поцеловал резную голову в губы, и собрался было идти в приёмный покой больницы: благо до него – рукой было подать, как вдруг жезл, подталкиваемый невидимой силой, снова – уже руками самого бомжа — ударил катающегося по земле Ржавого, раз, другой, третий.
«Как война… Как словно война между младшими и старшими на нас обрушилась! Вот уж несчастье, так несчастье. Ишь ты! Даже посох на молодую безбашенность войною двинул. И как весело, ка празднично двинул! А что? Давно пора правду сказать. Заласкали молодых, затискали. Они теперь — не все, конечно, — молодостью своей и кичатся, и безумствуют. И никакого воспитания уже не примут. Воевать с ними придётся. Только тут нужна война другая: не кровью и тюрьмой нужно грозить, — а военной хитростью брать! Она-то посильней прямолинейных боевых действий будет. Так что давай посох, обхитри их! Резным чудом прикинься, а когда надо, кольни в нужную точку. И тогда озлобленной молодости — кирдык. А благой молодости — уважуха и многолетие!..»
Взмахи кончились. Скупых деревянных мыслей больше не было.
В эти мгновения, переломленную надвое, брошенную у Стены Скорби маротту и подхватили. Нижнюю часть с наконечником, — прекрасно обученная, но на беду потерявшая хозяина собака. Верхнюю часть — подросток, заинтересовавшийся резной головкой с высунутым языком.
Впрочем, и собака, и подросток быстро оставили обломки маротты в покое.
Подросток вынул женское карманное зеркальце, показал заляпанной жиром поверхности язык, пупырчатым своим языком залюбовался и, бросив обломок маротты на асфальт, едва волоча ноги и путаясь в собственных мыслях, но при этом, продолжая неотрывно глядеть в зеркальце, двинул в Интернет-кафе.
Русский охотничий спаниель, рыже-пегий, с висячими длинными ушами и пятнистыми лапами, тоже оставил обломок жезла в покое. Умная подружейная псина, до боли преданная потерявшемуся два дня назад хозяину, враз поняла: такая палка перепелятнику не нужна. Медленно развернувшись, рыже-пегий охотник пустился лёгким галопом по пахучему следу, оставленному кем-то из убегавших от ОМОНа людей.
И тогда маротту подхватил — сперва один обломок, а метров через тридцать другой – нестарый ещё бомж-интеллигент. Он и бомжом-то настоящим не был, просто месяц назад, пока вкалывал в донбасской командировке, жена успела выкинуть вещи, поменять на дверях замки и оставила сторожить их квартиру здоровенного охранника-амбала, взявшего по этому случаю отпуск за свой счёт.
Бомж-интеллигент залюбовался резной работой и хоть с опозданием, а решил вернуть – пусть даже сломанную — палку хозяину. Он видел, как хозяина резной палки повалили наземь, как били, как налетел, но никого не стал задерживать ОМОН, видел, как два омоновца помогли дотащить лежащего до «скорой». Внимательно наблюдал бомж и за тем, как человека в клоунской разодранной вдоль и поперёк одежде увозила карета, слышал докторицу перед тем, как машина тронулась с места, недовольно сказавшую фельдшеру:
— Опять в 23-ю?! Будут там полчаса мариновать, пока этого клоуна не оформят. Даже странно: врачебный персонал в больнице классный, а технические службы уж очень неразворотливые.
23-ю больницу имени доктора Давыдовского, стоящую у подошвы крутобокой Швивой горки, бомж-интеллигент хорошо знал: в тамошний морг забирали его мать, оттуда на кладбище он её и увозил…
Идти до больницы было далеко, а делать нечего: глаз деревянного шута, так и колол, так и сверлил бомжа-интеллигента, и чуть ли не в голос требовал: верни, верни хозяину!
Сознавая: не вернув посох (так бомж про себя сразу окрестил брошенный жезл) присвоив пусть даже сломанную, но явно ценную вещь, — он окончательно себя запрезирает.
— Сломанный посох – сломанная жизнь. Но и такая жизнь хоть чего-то, а стоит, — пробурчал про себя бомж-интеллигент, и поспешил на Швивую горку.
Через Покровку, Маросейку и Солянку, спотыкаясь от слабости и ускоряя шаг от решимости помочь, шёл и шёл он к 23-й больнице.
И поплыла перед глазами шутовского жезла, с виду погасшими, но всё примечавшими, Москва пешая, неавтомобильная. Москва подпрыгивала, смеялась, чертыхалась, вскрикивала, в домах тихонько подвывала и снова расплывалась в улыбке…
Бомж спешил переулками, дворами. Во дворе сломанный посох у него и отняли.
Уже совсем рядом с больницей Давыдовского, близ бывших Тетеринских бань, сразу за обожжённым с одного боку молнией высоченным ясенолистым клёном, три старшеклассника заприметили резную головку с ослиными ушами. Не сговариваясь, кинулись они на бомжару, сбили его наземь. Едва ли не с кожей выдрав из всё ещё цепких пальцев обломки, сыпанула пацанва в проходной двор.
От бессилия — изгнанный женой, уволенный с работы, брошенный приятелями — бомж-интеллигент заплакал: сорвалось хорошее дело. Он плакал и даже пытался есть землю, как вдруг услыхал поросячий визг. Приподнявшись на локте, увидел: рыжий, облепленный веснухами пацанёнок с жёсткими, как проволока, волосами и незакрывающимся из-за огромных зубов заячьим ртом – корчится и приседает от боли, держась за глаз. Меж пальцами сочится кровь, верхняя часть посоха с резной головкой и нижняя постепенно сужающаяся, лежат рядом.
— Ну, ты влип, Ржавый, — крикнул другой пацанёнок: чернявый, пониже ростом, — никогда не видал, чтоб палка сама кому-то глаз выбила!
Ржавый, воя от боли, катался по земле, посох лежал рядом и, — как показалось бомжу-интеллигенту, сразу к этому месту подтянувшемуся, — головка резная коварно улыбалась.
Бомж подошёл вплотную, подхватил оба обломка, полой пиджачка отёр кровь с нижней части посоха, поцеловал резную голову в губы, и собрался было идти в приёмный покой больницы: благо до него – рукой было подать, как вдруг жезл, подталкиваемый невидимой силой, снова – уже руками самого бомжа — ударил катающегося по земле Ржавого, раз, другой, третий.
«Как война… Как словно война между младшими и старшими на нас обрушилась! Вот уж несчастье, так несчастье. Ишь ты! Даже посох на молодую безбашенность войною двинул. И как весело, ка празднично двинул! А что? Давно пора правду сказать. Заласкали молодых, затискали. Они теперь — не все, конечно, — молодостью своей и кичатся, и безумствуют. И никакого воспитания уже не примут. Воевать с ними придётся. Только тут нужна война другая: не кровью и тюрьмой нужно грозить, — а военной хитростью брать! Она-то посильней прямолинейных боевых действий будет. Так что давай посох, обхитри их! Резным чудом прикинься, а когда надо, кольни в нужную точку. И тогда озлобленной молодости — кирдык. А благой молодости — уважуха и многолетие!..»
В больнице
Варюха-горюха ходила в больницу имени доктора Давыдовского каждый день. У Терентия в мобилке нашли её номер, сообщили.
Варюхе нравилась Швивая горка, нравились приземистые старинные дома и крутой спуск к Яузе. Даже с названием, которое поначалу вызвало у неё лёгкое омерзение, Варюха-горюха разобралась и смирилась. Один знающий мужичок с ноготок, прямо на улице объяснил ей: «швивая» – не значит вшивая, а происходит от издавна селившихся на горке мастеров швейного дела. Мужичок, так и сказал «швейного дела», что Варюху своей скрытой научностью вмиг успокоило…
Сразу после реанимации дядя Терентий глаз не раскрывал, но её присутствие чуял. Это Варюха знала точно. Не забыла она и про палку с набалдашником. Её, эту переломленную надвое палку, которую Терентий Фомич иногда смешно звал мароттой, — хорошо не марухой! — в первый же день принёс какой-то мутный хлюпик с красными глазами и белыми дрожащими пальцами.
Но даже переломленная надвое, — палка с набалдашником нравилась теперь Варюхе всё сильней и сильней. Особенно впечатлил бледно-вишнёвый разлом. Такого бы нежного цвета губную помаду! А то всё какие-то крикливые цвета выпускают, как для макак.
Варюха решила сразу же: палку нужно склеить.
Мастер нашёлся не враз, но зато какой: чинил скрипичные смычки и даже сам их мастерил!
Мастер хмыкнул, но работу взял и через два дня исполнил всё в лучшем виде. Правда, сказал: пришлось место слома укрепить малозаметным стальным обручем.
— Послужит вам ещё, девушка. С таким-то шутовским жезлом счастье вам само в руки валом повалит!
— Как быстро склеили. Спасибочки вам!
— Склеить такой шутовской жезл — значит склеить чью-то судьбу. Пользуйтесь на здоровье.
Тому, что мастер назвал палку шутовским жезлом, как лишь однажды при ней и при Оленьке назвал её дядя Терентий, Варюха сильно удивилась. Но виду не подала. Зато почти все отложенные на поездку в Судак деньги, вручила мастеру со вздохом небывалого облегчения.
Притащив шутовской жезл в палату, Варюха поставила его тихонько в угол, как раз напротив закрытых глаз дяди Терентия, лежавшего уже не на спине, на боку.
Лицо больного за последние три дня слегка порозовело, силой и ровностью налился, искривившийся было рот, все эти дни в раскрытом виде придававший Терентию Фомичу вид обтрёпанного, серо-бурого, изгнанного из стаи волка…
Пудов Терентий приходил в себя тяжко, медленно, с дрожью и судорогами.
«Объегорить жизнь! Наловчиться проживать её из конца в начало», — сухими губами пришёптывал он, впрыгнувшие в ум и не уходившие оттуда слова. «Я хочу смеяться, — а я плачу. Им бы всем плакать, а они смеются. Эх, люди-людишки! Другой, не глумливый смех вам нужен! Чистый и рассыпчатый, как снег. Мягко-ласкающий, словно крылышко птенца-поршка…»
Живот, прорванный ребристыми ботинками, пробитый острыми каблучками ему зашили быстро, прилежно. Ногу загипсовали, правда, подвешивать для вытяжки не стали. Осматривали равнодушно, но регулярно. Беспокоило одно: не было с ним больше всегда приносившей удачу маротты, на которую, в последние месяцы, он Бог знает почему, взлютовал и ополчился.
Но и тут всё образовалось. Через несколько дней, утром, после сна, увидел он то, чего никак не ждал.
Абсолютно целая, а не переломленная надвое маротта, стояла себе преспокойно в углу. Рядом с шутовским жезлом переминалась с ноги на ногу и застенчиво улыбалась – чего с ней отродясь не бывало – посматривая, то на ослиные уши, мягко спадавшие с шутовского колпака, то на него самого, Варюха-горюха.
— Склеили, что ль?
— Ага! Я смычковому мастеру отдавала. Он, походу, не то, что смычки – всё, что угодно, клеит. И палку твою, дядя Терентий, всего за двое суток склеил.
— Как нашла?
— Бомжец какой-то сюда приволок. И денег, дурашка, не взял. Сказал: за настоящую красоту, деньги брать грех. Даже и для меня кое-что прибавил: чтоб не смела красоту свою на улицах продавать, — едва не пустилась в слёзы Варюха.
Шут Терентий сдержанно улыбнулся: давно, давно выхлесталось в канаву то время, когда все знакомые девчата мечтали уйти в содержанки и проститутки. Многим опять семьи захотелось. Чтобы девчонок нарожать побольше. А парней — тех поменьше. «Меньше парней, — стало быть, долгой войны не будет… Так женщины меж собой судачат. Только помогут ли их разговоры?». Мысль эта шута обеспокоила, но чтобы не переполнять улыбчивую девушку тревогой, вслух он сказал другое:
— Спасибо тебе, Варюха. Вижу теперь, не Горюха ты, а счастливуха…
— Да чего там, дядя Терентий. Я и почистила вашу палку ещё раз. Слюной и бархоткой! Как мастер смычковый велел.
— А Оленька где?
Варюха передёрнула плечами и отвернулась.
Шут Терентий закрыл глаза. Из плотно сжатых век просочились тихонько две-три слезы. Захотелось и вовсе глаз не открывать. А пришлось-таки.
— Удочерил бы ты меня, дядя Терентий. А? — Услыхал внезапно Терёха. — Я и борщ могу, и вещи в детдоме лучше всех гладила…
Пудов Терентий глянул на бывшую оторву — справную, красивую, но в нынешний момент какую-то напрочь потерянную, — и по-утиному крякнул.
Обидевшись на кряк, Варюха ушла. Терёху повезли на перевязку.
Близилась выписка, Оленька всё не приходила, хоть из больницы ей несколько раз и звонили.
«Видно репетирует у себя, в цирковом. К вступительным экзаменам готовится…»
Зато снова пришла Варюха-горюха. Про удочерение больше не говорила. Просто слегка повздыхала, погладила всё так же стоявший в углу шутовской жезл, потом посмеялась, а после рассказала анекдот про Путина, как тот начал учить украинский язык, и тут уж рассмеялась так широко и беззлобно, что Терёха, сам не зная как, вдруг выпалил:
— Удочеряю тебя, Варвара… Как тебя по отчеству?
— Фёдоровна… А те, кто документы выправлял и всякие другие – Варварой Детдомовной окрестили.
— Удочеряю тебя, Варвара Детдомовна. Здесь и сейчас, удочеряю. Сегодня и навсегда! А документы потом оформим.
— А это ничего, что я замуж собралась? Раз такое дело — я замужество и отложить могу.
— Замуж? Так тебе ж ещё восемнадцати нет.
— Мне и семнадцати нет пока. А только сейчас разрешают раньше времени замуж. Это мне на курсах ранней половой близости разъяснили.
— Ну, раз хочешь выходить, — так нечего тогда и откладывать. За кого выходишь-то? Если не тайна, конечно.
— Так ведь за Паутинщика выхожу.
— Он же к семейной жизни не пригоден! Из паутины своей и на миг выпутаться не может.
— Ещё как пригоден. Я его на днях из паутины-то повытряхнула и по Москве прошвырнула: с живыми, а не компешными людьми он законтачил и, походу, опомнился. Не на раскладку буквенную, — на человека похож стал. Даже гниль паутинная с мордашки и та облетела.
— Ладно Паутинщик, так Паутинщик. Правда, я его Трещиной про себя зову, но теперь это имечко могу и на помойку выкинуть.
— Ура, дядя Терентий, ура-ура-ура!
— Какой я тебе теперь дядя? Батяней, зови. Я тут, правда, тоже собрался в городок Во на месяц-другой смотаться. Шут-Самоха ключи от своей трёхкомнатной оставил, а недавно эсэмэску прислал, просил за квартирой присмотреть и ещё кой-чего просил. Неспокойно ему как-то в своей Гонопупе. Ну и ещё одного человечка повидать бы надо.
— Ура, ура, и мы с тобой! Навроде свадебного путешествия! Лады? Только чё эт ты, бать, город Воронеж всю дорогу так сократительно зовёшь?
— Потому что город этот — во!
Терентий Фомич до предела выгнул, и трижды поднял вверх большой палец. И тут опять вспомнил давнюю свою подругу Ташку-Наташку, лёгкую, нежно-звончатую, удивительно крутобёдрую, появившуюся у него после казашки Айгуль. Вспомнил, что совсем недавно Талка то ли приснилась ему, то ли он просто всю её в памяти восстановил и даже погладил легонько по выпуклой тёплой щеке.
Варюха всё стояла в дверях. И тогда Пудов Терентий ещё раз показал ей выгнутый большой палец.
Слабея от счастья, Варюха ушла…
Варюха-горюха ходила в больницу имени доктора Давыдовского каждый день. У Терентия в мобилке нашли её номер, сообщили.
Варюхе нравилась Швивая горка, нравились приземистые старинные дома и крутой спуск к Яузе. Даже с названием, которое поначалу вызвало у неё лёгкое омерзение, Варюха-горюха разобралась и смирилась. Один знающий мужичок с ноготок, прямо на улице объяснил ей: «швивая» – не значит вшивая, а происходит от издавна селившихся на горке мастеров швейного дела. Мужичок, так и сказал «швейного дела», что Варюху своей скрытой научностью вмиг успокоило…
Сразу после реанимации дядя Терентий глаз не раскрывал, но её присутствие чуял. Это Варюха знала точно. Не забыла она и про палку с набалдашником. Её, эту переломленную надвое палку, которую Терентий Фомич иногда смешно звал мароттой, — хорошо не марухой! — в первый же день принёс какой-то мутный хлюпик с красными глазами и белыми дрожащими пальцами.
Но даже переломленная надвое, — палка с набалдашником нравилась теперь Варюхе всё сильней и сильней. Особенно впечатлил бледно-вишнёвый разлом. Такого бы нежного цвета губную помаду! А то всё какие-то крикливые цвета выпускают, как для макак.
Варюха решила сразу же: палку нужно склеить.
Мастер нашёлся не враз, но зато какой: чинил скрипичные смычки и даже сам их мастерил!
Мастер хмыкнул, но работу взял и через два дня исполнил всё в лучшем виде. Правда, сказал: пришлось место слома укрепить малозаметным стальным обручем.
— Послужит вам ещё, девушка. С таким-то шутовским жезлом счастье вам само в руки валом повалит!
— Как быстро склеили. Спасибочки вам!
— Склеить такой шутовской жезл — значит склеить чью-то судьбу. Пользуйтесь на здоровье.
Тому, что мастер назвал палку шутовским жезлом, как лишь однажды при ней и при Оленьке назвал её дядя Терентий, Варюха сильно удивилась. Но виду не подала. Зато почти все отложенные на поездку в Судак деньги, вручила мастеру со вздохом небывалого облегчения.
Притащив шутовской жезл в палату, Варюха поставила его тихонько в угол, как раз напротив закрытых глаз дяди Терентия, лежавшего уже не на спине, на боку.
Лицо больного за последние три дня слегка порозовело, силой и ровностью налился, искривившийся было рот, все эти дни в раскрытом виде придававший Терентию Фомичу вид обтрёпанного, серо-бурого, изгнанного из стаи волка…
Пудов Терентий приходил в себя тяжко, медленно, с дрожью и судорогами.
«Объегорить жизнь! Наловчиться проживать её из конца в начало», — сухими губами пришёптывал он, впрыгнувшие в ум и не уходившие оттуда слова. «Я хочу смеяться, — а я плачу. Им бы всем плакать, а они смеются. Эх, люди-людишки! Другой, не глумливый смех вам нужен! Чистый и рассыпчатый, как снег. Мягко-ласкающий, словно крылышко птенца-поршка…»
Живот, прорванный ребристыми ботинками, пробитый острыми каблучками ему зашили быстро, прилежно. Ногу загипсовали, правда, подвешивать для вытяжки не стали. Осматривали равнодушно, но регулярно. Беспокоило одно: не было с ним больше всегда приносившей удачу маротты, на которую, в последние месяцы, он Бог знает почему, взлютовал и ополчился.
Но и тут всё образовалось. Через несколько дней, утром, после сна, увидел он то, чего никак не ждал.
Абсолютно целая, а не переломленная надвое маротта, стояла себе преспокойно в углу. Рядом с шутовским жезлом переминалась с ноги на ногу и застенчиво улыбалась – чего с ней отродясь не бывало – посматривая, то на ослиные уши, мягко спадавшие с шутовского колпака, то на него самого, Варюха-горюха.
— Склеили, что ль?
— Ага! Я смычковому мастеру отдавала. Он, походу, не то, что смычки – всё, что угодно, клеит. И палку твою, дядя Терентий, всего за двое суток склеил.
— Как нашла?
— Бомжец какой-то сюда приволок. И денег, дурашка, не взял. Сказал: за настоящую красоту, деньги брать грех. Даже и для меня кое-что прибавил: чтоб не смела красоту свою на улицах продавать, — едва не пустилась в слёзы Варюха.
Шут Терентий сдержанно улыбнулся: давно, давно выхлесталось в канаву то время, когда все знакомые девчата мечтали уйти в содержанки и проститутки. Многим опять семьи захотелось. Чтобы девчонок нарожать побольше. А парней — тех поменьше. «Меньше парней, — стало быть, долгой войны не будет… Так женщины меж собой судачат. Только помогут ли их разговоры?». Мысль эта шута обеспокоила, но чтобы не переполнять улыбчивую девушку тревогой, вслух он сказал другое:
— Спасибо тебе, Варюха. Вижу теперь, не Горюха ты, а счастливуха…
— Да чего там, дядя Терентий. Я и почистила вашу палку ещё раз. Слюной и бархоткой! Как мастер смычковый велел.
— А Оленька где?
Варюха передёрнула плечами и отвернулась.
Шут Терентий закрыл глаза. Из плотно сжатых век просочились тихонько две-три слезы. Захотелось и вовсе глаз не открывать. А пришлось-таки.
— Удочерил бы ты меня, дядя Терентий. А? — Услыхал внезапно Терёха. — Я и борщ могу, и вещи в детдоме лучше всех гладила…
Пудов Терентий глянул на бывшую оторву — справную, красивую, но в нынешний момент какую-то напрочь потерянную, — и по-утиному крякнул.
Обидевшись на кряк, Варюха ушла. Терёху повезли на перевязку.
Близилась выписка, Оленька всё не приходила, хоть из больницы ей несколько раз и звонили.
«Видно репетирует у себя, в цирковом. К вступительным экзаменам готовится…»
Зато снова пришла Варюха-горюха. Про удочерение больше не говорила. Просто слегка повздыхала, погладила всё так же стоявший в углу шутовской жезл, потом посмеялась, а после рассказала анекдот про Путина, как тот начал учить украинский язык, и тут уж рассмеялась так широко и беззлобно, что Терёха, сам не зная как, вдруг выпалил:
— Удочеряю тебя, Варвара… Как тебя по отчеству?
— Фёдоровна… А те, кто документы выправлял и всякие другие – Варварой Детдомовной окрестили.
— Удочеряю тебя, Варвара Детдомовна. Здесь и сейчас, удочеряю. Сегодня и навсегда! А документы потом оформим.
— А это ничего, что я замуж собралась? Раз такое дело — я замужество и отложить могу.
— Замуж? Так тебе ж ещё восемнадцати нет.
— Мне и семнадцати нет пока. А только сейчас разрешают раньше времени замуж. Это мне на курсах ранней половой близости разъяснили.
— Ну, раз хочешь выходить, — так нечего тогда и откладывать. За кого выходишь-то? Если не тайна, конечно.
— Так ведь за Паутинщика выхожу.
— Он же к семейной жизни не пригоден! Из паутины своей и на миг выпутаться не может.
— Ещё как пригоден. Я его на днях из паутины-то повытряхнула и по Москве прошвырнула: с живыми, а не компешными людьми он законтачил и, походу, опомнился. Не на раскладку буквенную, — на человека похож стал. Даже гниль паутинная с мордашки и та облетела.
— Ладно Паутинщик, так Паутинщик. Правда, я его Трещиной про себя зову, но теперь это имечко могу и на помойку выкинуть.
— Ура, дядя Терентий, ура-ура-ура!
— Какой я тебе теперь дядя? Батяней, зови. Я тут, правда, тоже собрался в городок Во на месяц-другой смотаться. Шут-Самоха ключи от своей трёхкомнатной оставил, а недавно эсэмэску прислал, просил за квартирой присмотреть и ещё кой-чего просил. Неспокойно ему как-то в своей Гонопупе. Ну и ещё одного человечка повидать бы надо.
— Ура, ура, и мы с тобой! Навроде свадебного путешествия! Лады? Только чё эт ты, бать, город Воронеж всю дорогу так сократительно зовёшь?
— Потому что город этот — во!
Терентий Фомич до предела выгнул, и трижды поднял вверх большой палец. И тут опять вспомнил давнюю свою подругу Ташку-Наташку, лёгкую, нежно-звончатую, удивительно крутобёдрую, появившуюся у него после казашки Айгуль. Вспомнил, что совсем недавно Талка то ли приснилась ему, то ли он просто всю её в памяти восстановил и даже погладил легонько по выпуклой тёплой щеке.
Варюха всё стояла в дверях. И тогда Пудов Терентий ещё раз показал ей выгнутый большой палец.
Слабея от счастья, Варюха ушла…
Голубая Ушебти. Цирк мумий
Больница осталась позади. Самоха опять прислал сообщение по вацапу:
«Гавайянки надежд не оправдали. Филлипинки — круче. И умней. Филлипинок, китаянок и японок здесь много. Пока выбираю. Начал секретные переговоры о присоединении Гонопупу к России».
А тем временем город Во, готовившийся праздновать 350-летие Великого Петра, преподнёс сюрприз, и приятный.
Терёху, прибывшего в сопровождении Варюхи и Паутинщика, нежданно-негаданно, пригласили украсить собой цирковую программу города. Пока, правда, в качестве униформиста, выступающего в паре с одним из клоунов.
Шут величественно отказался:
— Ни униформист-партнёр, ни буффонный клоун, играющий на преувеличенной жадности и придурковатости, ни даже «рыжий» фарсёр, только и знающий, что нос громадный себе прилаживать, а зад негашеной известью мазать, — мне теперь не по рангу! Новый, небесно-земной цирк замутить я хочу. Всех вас когда-нибудь туда приглашу.
И подкрепил слова чеканным жестом: в одну руку взял огромный гвоздь-костыль, специально принесённый с собой, а другой рукой стал невидимым молотком этот гвоздь, чуть повёртывая, забивать себе в колено. При этом со сдержанной радостью от возрастания боли приговаривал:
— Был и я когда-то как Осип Гвоздь. Был ведь? Был! Царям завидовал? Завидовал! Поучать их хотел? Хотел! Хлеб-соль с ними водить желал? Желал! Ну, а новый земной цирк, предшествующий цирку небесному — не из подлизыванья и поучений состоит. А в чём именно его суть – это вы скоро узнаете!
Вторая неожиданность была такой: Талка-Наталка, о которой всё настойчивей он вспоминал, среди жителей города Во не обнаружилась. Не значилась она и в списках умерших граждан. Двое-трое знакомых о ней тоже ничего не знали. Терёха посетовал на сон, в котором крутобёдрая Талка ему привиделась, полюбовался на её недоступные теперь удивительно мягкие щёки, взгрустнул и попытался развлечь себя издёвками над собственным прошлым и будущим. Но издёвки получились вялыми и Терёха их быстро, как осенних мух, отогнал подальше.
Ну, а третья неожиданность ждала шута Терентия в Египетском зале Областного исторического музея. Вошёл Терёха в музей с шутовским жезлом, а вернулся домой без него. Сдал, — крутя головой как в беспокойном сне, — во временную экспозицию для всеобщего показа.
А до избавления от жезла, какая-то полуясная хрень накатила на шута в музее. С этой мутной хренью вернулись к нему прежние мысли, от которых после встречи с Терентием Африканцем он подчистую отказался. Опять, как и в последние несколько месяцев, стало казаться: из-за маротты все последние нескладухи и обломы! Из-за неё ушла Оленька, на променад шутов не попал и в больницу загремел – опять-таки из-за неё. Правда, здесь, в музее города Во, до конца осознать скрытое коварство маротты что-то Терёхе мешало. Понимал: на некоторые её проделки нужно смотреть сквозь пальцы. Но всё ж таки жезл из-за спины выставил и, ступая на цыпочках, понёс директору музея.
На ходу втихаря ругался: «Эк, тебя угораздило, Фомич! Ну, просто юношеский фетишизм и поклонение неодушевлённым предметам тебя одолели!..»
Неожиданно Терёха остановился. Чуть постояв на месте – обернулся он к стеклянным стеллажам и, обращаясь к статуэткам и вазам, но в то же время, словно бы и взывая с арены к зрителям, спросил:
— Парад шутов я зачем устроил? И почему прошёл он, пусть и не без накладок, но с явным успехом? А потому и затем!.. — ответил себе Терёха и промокнул ладонью внезапно вспотевший лоб, — затем, дорогие мои статуэтки и ещё более дорогие зрители, чтобы дать понять властям: поддерживать-то мы вас поддерживаем, а только глянуть в наше шутовское сферическое зеркало, и узреть кривизну исторических и собственных отражений, будет вам, ох, как полезно! Понимаю: одного шутовского парада мало. Вот и хочу параллельный цирк устроить, в ежедневном режиме пародирующий правительство, министерства, агентства и прочие суровые организации. Не кавээновское передразниванье и неостановимая ржачка экранных коммерц-юморастов нужны мне! А крепкое и даже болезненное поглаживание против шерсти всех, кто того заслуживают!
Хотел было я, дорогие зрители, после сценок с Осипом Гвоздём и царём Иваном – устроить собственный «Цирк на кошме». Проще говоря, — перед дверью правителя. Но что-то сильно препятствует. Да и призадумался: это что ещё за цирк под дверью такой? Что и кому он даст?.. А тут ещё Оленька вчера объявилась. И что же она, дорогие статуэтки, пишет? «Жду от вас, господин Пудов, непристойных предложений». Вот так-так… Как говорится: «И хочется бежать — да некуда». А виновата во всём, маротта и моя к ней привязанность. Ценная привязанность, не спорю! Только привязанность эта — осточертела мне. Мне Талка теперь нужна, а не палка сломанная! Поэтому пусть маротта здесь, среди вас, дорогие музейные экспонаты, отдохнёт…
Здесь шут смутился и огляделся. Не слышал ли кто как он с камнями и фарфором разговаривает? Но никого в музее в тот час не было.
Тут же поспешил Пудов Терентий к директору музея и жезл свой во временное хранение ему передал. Даже не против был, если в запасники новый экспонат определят.
В обмен на такую щедрость получил шут в подарок копию статуэтки египетской.
Принёс домой, поставил на окно, чистым носовым платочком прикрыл.
В квартире Самохиной никого не было. Варюха с Паутинщиком уехали на экскурсию в Борисоглебск, захватив с собой свежий Терёхин сценарий, который он дал им прочесть. Сценарий был про жизнь, про новейший цирк, и шут им втихаря гордился.
Не зная, чем заняться, Терёха для развлечения ума время от времени снимал со статуэтки, звавшейся Ушебти, носовой платок и прикидывал: на кой чёрт она ему сдалась?..
А дальше со статуэткой вышло так.
Вечером Терёха заснул, но внезапно раскрыл глаза. Рядом что-то мелькало, и по временам приманчиво шелестело. Колыхалась, словно от ветерка, голубенькая сетчатая ткань, выбившаяся из-под висящей над Самохиным окном занавески.
— Просыпайся, Терюша, просыпайся, малорослик, — пришёптывала голубенькая.
Такое обращение Пудову не понравилось. Он вскочил — пришёптывание прекратилось. Лёг — колеблющийся от шёпота воздух прихлынул вновь. Так, вскакивая и снова укладываясь, шутец и задремал.
И посетила его в час полуяви, в час нежный и туманный — голубая Ушебти. Причём не в образе статуэтки. Живой и прекрасной египтянкой явилась.
— Это не сон, — сразу предупредила египтянка, — ты это кривлякам наивным, вроде Самохи, будешь впаривать, что сон видел. Потрогай, я живая!
Терёха притронулся — и правда, ничего статуэточного в голубой гостье не было, только упругое и отзывчивое женское тело.
— И учти я тебе не какая-нибудь подстилка, — строго сказала Ушебти. И совсем даже не для соблазнов и утех к тебе послана.
— А тогда зачем же?
— А затем!
Тут Ушебти замолчала, но потом весело рассмеялась:
— Ну, и для утех, конечно, тоже. Но не они главное.
— А что главное? Говори, только врать не смей!
— Какое между нами может быть враньё, малорослик? А главное — это вот что. Тебе в жизни определиться нужно. О её окончании или, наоборот, о её вечном продлении подумать. А ты о какой-то Талке вдруг размечтался. Смешно ведь! Да ещё как завёлся, места себе не находишь. Придумал, что всё возвратить можно. А она, твоя Талка, может, давно в мире ином обретается.
— Врёшь!
— Я вру? Да чтоб мне на этом месте сквозь землю провалиться!
От обиды и огорчения Терёха перевернулся на бок, и, как малец, ткнулся носом в стенку, простодушно прикинув: сейчас видение вместе со своими словами, уплывёт, куда ему надо. Так оно и вышло. Повернувшись — увидел: нет больше в комнате голубой Ушебти! Но вот провалилась она сквозь землю или уплыла прозрачной тканью восвояси – этого определить шут не сумел. Не удалось ему и заснуть. Повертевшись с боку на бок, он встал и, смекнув, что полусон с Ушебти даёт ему повод набросать сценарий или хотя бы синопсис сверхновой, сверкнувшей в мозгу огоньком цирковой программы, стал круглым рисовальным почерком набрасывать первые, впрыгнувшие в ум, строки.
…Надвинулась издалека тьма египетская, налёг ночной каменной прохладой опять-таки африканский, но не карфагенский — древнеегипетский цирк.
И оказалось: у одного из двух десятков снующих по арене сухоногих египетских забавников, с лицами сморщенными подобно компотным грушам — объявился среди зрителей брат-близнец. На этого, сидевшего отдельно от всех шута, изображавшего из себя рыбу с задранной вверх головой, с раздвоенным хвостом и сияющей в ночных факелах чешуёй многоцветной, египетские насмешники наперебой пальцами и указывали.
По жестам выходило: близнецам нужно держаться вместе, и не откладывая, опуститься на нильское дно, а там найти спрятанную в толще вод каменную табличку с письменами. Но было условие: найдут табличку — вынырнут назад. Не найдут — так онемевшими рыбами под водой и останутся.
Бегали в полутьме по кругу, изредка, как тушканчики, подпрыгивая, полуголые шуты. Плотным полукольцом сдавили песчаную арену, словно бы ороговевшие от шутовских непозволительных вольностей лысостриженные жрецы. Осторожно покалывали палочками папирусы впалоглазые иерограмматеи с одеревеневшими спинами, излагая эту на их взгляд дико смешную историю словами бога, а проще говоря, — рисунчатым письмом, дополнив его собственными значками, крепко уцепившими человеческую речь.
Шуток словесных почти не было, зато в изобилии мелькали под куполом ночи древнеегипетские кистевые и коленные жесты, схожие с пляской, садящейся на поля саранчи. При виде этих жестов зрители, почти не размыкая губ, лихорадочно похохатывали, и даже тайком утирали слёзы счастья.
Даже сам Рамзес, по счёту чёрт его знает какой, сидевший рядом с ободом арены отдельно от всех на узко-высоком резном троне, хоть и неулыбчиво, но зато часто переводил взгляд с шута изображавшего на песочке двухвостую рыбу, на его брата, которого в отличие от других зрителей била крупная дрожь от переживаний за свою дальнейшую судьбу.
Вдруг, чёрт его знает какой Рамзес, встал, и, картинно освободив трон, поманил к нему Терёху. Тот отрицательно замотал головой: мол, уже насиделся мысленно на тронах отечественных! И ничего хорошего в таком сидении не обнаружил. Однако Рамзес, чёрт его знает какой, не проронив ни слова, понятными даже дураку телодвижениями объяснил Пудову: Терёха основной так и останется на месте, зато Терёха запасной, хоть часок, а посидит на троне.
Здесь Пудов Терентий не выдержал. Ломая ход сценарных эпизодов, а, заодно, руша египетскую иерархию, крикнул:
— Да у вас тут просто Цирк мумий! А не пошли бы вы лесом, вместе с вашими тронами и царскими местами! Короче. Я на таких мумий и в отечестве насмотрелся. Каждый день и каждый вечер вижу. В магазинах, в метро, в театрах, в трамваях. Все они за приближение к трону, как за соломинку хватаются! Ты бы хоть мельком сюда вот глянул, — плавно повёл Терёха рукой от низовий Нила к городу Во, а потом выше, выше, на север, в сторону Москвы, в сторону Питера, — сразу всё себе и уяснишь.
Но Рамзес, чёрт его знает какой, следить за Терехиной рукой не стал, видно на своих мумий нагляделся, лишь погрозил шуту кулачком иссохшим.
Тут в египетских высях что-то ухнуло и заскрежетало. Потом заплакала сова. За ней другая, десятая, сотая! Сто плачущих сов заставили зрителей унять лихорадочный смех, принудили жрецов рухнуть ниц, а писцов проколоть себе зрачки палочками. Смерть и скорбь вдруг шелестнули совиными крыльями над окаменевшей ареной, скорбь и смерть! И тут же Цирк мумий, цирк лихорадочного веселья и каменного молчания, раскололся на куски и рухнул в бездну. А вслед за цирком и синопсис, про пляски иссохших личностей и плач сов, был скомкан и полетел в мусорную корзину.
Но потом смятые листы Терёха достал, распрямил, решил сохранить. После чего снова улёгся на диван, закрыл глаза. Заснуть, правда, не заснул. Утешал себя: это плакала обыкновенная сова-сипуха, какие редко, но ещё встречаются в окрестностях города Во. И вовсе не смерть сова предвещает, а открытие мудрых тайн…
Маясь бессонницей, ища веселья даже в скорбных плачах, Терёха вытер взмокшее лицо и прикинул: если уж не Талка-Наталка, то хоть голубая Ушебти могла б навестить его, утешить. Так оно и вышло. Причём, Ушебти, — видать, чуток поразмыслив, — подкатила с другого боку.
— Тебе нравятся клоуны?
— Вокруг или в цирке?
— Ой, ну ты, вижу, ничего не понял. И потом: напрасно ты про второго Терёху, ну, про двойника не поверил. И вовсе не Цирк мумий тебе показали, а настоящий цирк египетский. А что заплакали сто сов — так они не символ скорби и смерти, а просто напросто тебя, дурака, жалеют, если меня не послушаешься. И с шутами нашими всё не так, как ты думаешь: ну, лёгкий недокорм среди народа египетского случился, — а ты сразу мумии, мумии! Ну, и коричневатость загара в глаза тебе бросилась.
— Поговори мне! Сказано Цирк мумий, значит Цирк мумий. Неживой он, сразу видно. Суховоблый какой-то. У нас такие неживые программы тоже случаются, видел. А мне живой, если хочешь, — живородящий цирк нужен!
— Это как это живородящий, Теряша? — Споткнулась, двинувшаяся было к шуту, египтянка.
— А так это. Один номер свободно рождает номер другой, одна реприза выплёскивает из себя — опять же свободно, без подготовки — другую! Словно из циркового родильного дома маленькие малыши выпрыгивают и тут же шутами и воздушными гимнастами становятся, на коротких толстеньких ручках в воздухе повисают!
— Дался тебе этот цирк живородящий, — раздосадовалась Ушебти, ты лучше про двойника послушай!
— Ладно, тренькай, но покороче.
— Ну, слушай. Так оно всегда и во всех мирах происходит: существует человек, а где-то рядом или вдалеке существует иногда видимый, иногда невидимый его двойник. Бывает, — и брат-близнец. И ведь важную роль этот близняшкин исполняет: грехи на себя принимает, злые помыслы оттягивает. Тяжкие повороты судьбы, как нитку на палец, на себя наматывает. Ну, да ладно, раз тебе одному, без двойника привычней в мире существовать, — зайдём с другой стороны. Глянь на меня. Видишь, я какая? Что спереди, что с боков. А особенно сзади, Теряша, глянь. Даже сам Александр Третий прибыв как-то в твой родной город мною залюбовался.
— А потом чего? — Не оборачиваясь, спросил шут.
— А потом уехал, не до меня ему стало.
— Какая-то лабусня поросячья, ей-богу.
— Не говори пустых слов, глянь лучше сюда.
Терёха перевернулся на другой бок и увидел голубоватое нагое тело, прекраснейшее из всех, какие видел раньше. А Ушебти тут же изогнулась, подкинула ладошками по очереди свои острые груди, потом встала на коленки и на локотки, а после ещё и облокотилась беспечно на Самохино дырявое кресло.
Терёха привстал. Однако Ушебти жестом его остановила.
— Вот и хорошо, что посмотрел. Тебе подруга нужна. Только не обычная баба. Не какая-нибудь Бильдюга Престипомовна, ну, знаешь, рыбища такая здоровенная, про один только персидский шугаринг мечтающая. И тем более не Талка безвестно пропавшая. А такая как я. Знаешь, в чём моя необычность?
— Ну, и в чём же?
— Ты вот думаешь, я сейчас к тебе в постель прыгну?
— Не просто думаю, — знаю…
— А вот и нет. Я – прелесть малодоступная, прелесть вечно манящая, но приходящая редко и лишь в определённый час. Приезжай завтра утром на речку на Ворону. И статуэтку мою с собой прихвати. Там под водой, любовь наша начнётся. А потом снова на берег вынырнет. Всю последнюю часть жизни я тебя незримо сопровождать стану. И в том мире, и в этом. Всю чёрную работу, которую на тебя в загробном мире взвалят – за тебя делать начну. И вообще – буду за тебя ответчица. Вот тебе памятные слова, если навалят на тебя земные и загробные работы. Запоминай:
"О, Ушебти! Если повелят мне выполнять любую работу, которую следует выполнять в загробном или в обычном мире, — смотри, будь начеку, чтобы выполнять то, что положено человеку там и здесь.
«Вот я!» — да ответишь ты, когда позовут меня.
Ищи момент всякий, чтобы за меня трудиться, чтобы вспахивать поля, наполнять каналы водой,
перетаскивать песок с востока на запад,
бегать, сверкая попкой, по арене взад и вперёд.
И снова, о, Ушебти, говори слова эти: «Вот я за него!», — когда меня призовут".
— Так это у тебя билль о правах человека для зэка или для лодыря разжиревшего предназначенный. Ну тебя в задницу, с твоими воззваниями и загробным миром!
После таких обидных слов голубая Ушебти – опять исчезла. А, может, и загрузла как раз там, куда посылали. Но статуэтка — та по-прежнему на окне стоять осталась.
Ночью Терёшечка спал плохо, и следующим утром, ни свет, ни заря, собрался-таки на речку на Ворону. Уже и такси вызвал, и статуэтку голубую, обернув рифлёной плёнкой, в карман пиджака сунул.
Как вдруг вступило в ум: «А ведь под водой одна только рачья и рыбья любовь бывает! Что ж это она, в мужика русалочьего или в шута-водяного превратить меня хочет?»
Разозлился Терёха, отменил такси и, сунув в карман бутылку минералки, вышел продышаться на часто упоминавшуюся Самохой улицу Веры Фигнер.
Тут эта самая дама, совсем небольшого росточка, зато с крупными белыми ушами и жёлтым лицом, перед ним и мелькнула. На миг приостановившись, дама в сердцах крикнула:
— Ты вот умом своим в дальних далях шастаешь, а про меня и думать забыл! А я ведь дама непростая, я дама грозная. Многие меня так и звали: «Топни-ножка». И за решимость мою обожали. А один сердобольный писатель, в день оглашения мне смертного приговора, — как участнице покушения на Александра II, — даже передал в тюрьму записку со словами: «Как я Вам завидую! Глеб Успенский». А ты на моей улице мною же и пренебрегаешь! Берегись шутяра!»
Здесь Пудов Терентий, вслед удаляющейся Вере Фигнер сдержанно поклонился, и хотел даже возвратиться восвояси, чтобы внести госпожу-товарища Фигнер в сценарий будущего пародийного спектакля, как особу, в 1926 году получившую персональную пенсию за участие в убийстве Александра Освободителя, но передумал и быстренько проследовал на параллельную улицу под названием Бархатный Бугор…
Больница осталась позади. Самоха опять прислал сообщение по вацапу:
«Гавайянки надежд не оправдали. Филлипинки — круче. И умней. Филлипинок, китаянок и японок здесь много. Пока выбираю. Начал секретные переговоры о присоединении Гонопупу к России».
А тем временем город Во, готовившийся праздновать 350-летие Великого Петра, преподнёс сюрприз, и приятный.
Терёху, прибывшего в сопровождении Варюхи и Паутинщика, нежданно-негаданно, пригласили украсить собой цирковую программу города. Пока, правда, в качестве униформиста, выступающего в паре с одним из клоунов.
Шут величественно отказался:
— Ни униформист-партнёр, ни буффонный клоун, играющий на преувеличенной жадности и придурковатости, ни даже «рыжий» фарсёр, только и знающий, что нос громадный себе прилаживать, а зад негашеной известью мазать, — мне теперь не по рангу! Новый, небесно-земной цирк замутить я хочу. Всех вас когда-нибудь туда приглашу.
И подкрепил слова чеканным жестом: в одну руку взял огромный гвоздь-костыль, специально принесённый с собой, а другой рукой стал невидимым молотком этот гвоздь, чуть повёртывая, забивать себе в колено. При этом со сдержанной радостью от возрастания боли приговаривал:
— Был и я когда-то как Осип Гвоздь. Был ведь? Был! Царям завидовал? Завидовал! Поучать их хотел? Хотел! Хлеб-соль с ними водить желал? Желал! Ну, а новый земной цирк, предшествующий цирку небесному — не из подлизыванья и поучений состоит. А в чём именно его суть – это вы скоро узнаете!
Вторая неожиданность была такой: Талка-Наталка, о которой всё настойчивей он вспоминал, среди жителей города Во не обнаружилась. Не значилась она и в списках умерших граждан. Двое-трое знакомых о ней тоже ничего не знали. Терёха посетовал на сон, в котором крутобёдрая Талка ему привиделась, полюбовался на её недоступные теперь удивительно мягкие щёки, взгрустнул и попытался развлечь себя издёвками над собственным прошлым и будущим. Но издёвки получились вялыми и Терёха их быстро, как осенних мух, отогнал подальше.
Ну, а третья неожиданность ждала шута Терентия в Египетском зале Областного исторического музея. Вошёл Терёха в музей с шутовским жезлом, а вернулся домой без него. Сдал, — крутя головой как в беспокойном сне, — во временную экспозицию для всеобщего показа.
А до избавления от жезла, какая-то полуясная хрень накатила на шута в музее. С этой мутной хренью вернулись к нему прежние мысли, от которых после встречи с Терентием Африканцем он подчистую отказался. Опять, как и в последние несколько месяцев, стало казаться: из-за маротты все последние нескладухи и обломы! Из-за неё ушла Оленька, на променад шутов не попал и в больницу загремел – опять-таки из-за неё. Правда, здесь, в музее города Во, до конца осознать скрытое коварство маротты что-то Терёхе мешало. Понимал: на некоторые её проделки нужно смотреть сквозь пальцы. Но всё ж таки жезл из-за спины выставил и, ступая на цыпочках, понёс директору музея.
На ходу втихаря ругался: «Эк, тебя угораздило, Фомич! Ну, просто юношеский фетишизм и поклонение неодушевлённым предметам тебя одолели!..»
Неожиданно Терёха остановился. Чуть постояв на месте – обернулся он к стеклянным стеллажам и, обращаясь к статуэткам и вазам, но в то же время, словно бы и взывая с арены к зрителям, спросил:
— Парад шутов я зачем устроил? И почему прошёл он, пусть и не без накладок, но с явным успехом? А потому и затем!.. — ответил себе Терёха и промокнул ладонью внезапно вспотевший лоб, — затем, дорогие мои статуэтки и ещё более дорогие зрители, чтобы дать понять властям: поддерживать-то мы вас поддерживаем, а только глянуть в наше шутовское сферическое зеркало, и узреть кривизну исторических и собственных отражений, будет вам, ох, как полезно! Понимаю: одного шутовского парада мало. Вот и хочу параллельный цирк устроить, в ежедневном режиме пародирующий правительство, министерства, агентства и прочие суровые организации. Не кавээновское передразниванье и неостановимая ржачка экранных коммерц-юморастов нужны мне! А крепкое и даже болезненное поглаживание против шерсти всех, кто того заслуживают!
Хотел было я, дорогие зрители, после сценок с Осипом Гвоздём и царём Иваном – устроить собственный «Цирк на кошме». Проще говоря, — перед дверью правителя. Но что-то сильно препятствует. Да и призадумался: это что ещё за цирк под дверью такой? Что и кому он даст?.. А тут ещё Оленька вчера объявилась. И что же она, дорогие статуэтки, пишет? «Жду от вас, господин Пудов, непристойных предложений». Вот так-так… Как говорится: «И хочется бежать — да некуда». А виновата во всём, маротта и моя к ней привязанность. Ценная привязанность, не спорю! Только привязанность эта — осточертела мне. Мне Талка теперь нужна, а не палка сломанная! Поэтому пусть маротта здесь, среди вас, дорогие музейные экспонаты, отдохнёт…
Здесь шут смутился и огляделся. Не слышал ли кто как он с камнями и фарфором разговаривает? Но никого в музее в тот час не было.
Тут же поспешил Пудов Терентий к директору музея и жезл свой во временное хранение ему передал. Даже не против был, если в запасники новый экспонат определят.
В обмен на такую щедрость получил шут в подарок копию статуэтки египетской.
Принёс домой, поставил на окно, чистым носовым платочком прикрыл.
В квартире Самохиной никого не было. Варюха с Паутинщиком уехали на экскурсию в Борисоглебск, захватив с собой свежий Терёхин сценарий, который он дал им прочесть. Сценарий был про жизнь, про новейший цирк, и шут им втихаря гордился.
Не зная, чем заняться, Терёха для развлечения ума время от времени снимал со статуэтки, звавшейся Ушебти, носовой платок и прикидывал: на кой чёрт она ему сдалась?..
А дальше со статуэткой вышло так.
Вечером Терёха заснул, но внезапно раскрыл глаза. Рядом что-то мелькало, и по временам приманчиво шелестело. Колыхалась, словно от ветерка, голубенькая сетчатая ткань, выбившаяся из-под висящей над Самохиным окном занавески.
— Просыпайся, Терюша, просыпайся, малорослик, — пришёптывала голубенькая.
Такое обращение Пудову не понравилось. Он вскочил — пришёптывание прекратилось. Лёг — колеблющийся от шёпота воздух прихлынул вновь. Так, вскакивая и снова укладываясь, шутец и задремал.
И посетила его в час полуяви, в час нежный и туманный — голубая Ушебти. Причём не в образе статуэтки. Живой и прекрасной египтянкой явилась.
— Это не сон, — сразу предупредила египтянка, — ты это кривлякам наивным, вроде Самохи, будешь впаривать, что сон видел. Потрогай, я живая!
Терёха притронулся — и правда, ничего статуэточного в голубой гостье не было, только упругое и отзывчивое женское тело.
— И учти я тебе не какая-нибудь подстилка, — строго сказала Ушебти. И совсем даже не для соблазнов и утех к тебе послана.
— А тогда зачем же?
— А затем!
Тут Ушебти замолчала, но потом весело рассмеялась:
— Ну, и для утех, конечно, тоже. Но не они главное.
— А что главное? Говори, только врать не смей!
— Какое между нами может быть враньё, малорослик? А главное — это вот что. Тебе в жизни определиться нужно. О её окончании или, наоборот, о её вечном продлении подумать. А ты о какой-то Талке вдруг размечтался. Смешно ведь! Да ещё как завёлся, места себе не находишь. Придумал, что всё возвратить можно. А она, твоя Талка, может, давно в мире ином обретается.
— Врёшь!
— Я вру? Да чтоб мне на этом месте сквозь землю провалиться!
От обиды и огорчения Терёха перевернулся на бок, и, как малец, ткнулся носом в стенку, простодушно прикинув: сейчас видение вместе со своими словами, уплывёт, куда ему надо. Так оно и вышло. Повернувшись — увидел: нет больше в комнате голубой Ушебти! Но вот провалилась она сквозь землю или уплыла прозрачной тканью восвояси – этого определить шут не сумел. Не удалось ему и заснуть. Повертевшись с боку на бок, он встал и, смекнув, что полусон с Ушебти даёт ему повод набросать сценарий или хотя бы синопсис сверхновой, сверкнувшей в мозгу огоньком цирковой программы, стал круглым рисовальным почерком набрасывать первые, впрыгнувшие в ум, строки.
…Надвинулась издалека тьма египетская, налёг ночной каменной прохладой опять-таки африканский, но не карфагенский — древнеегипетский цирк.
И оказалось: у одного из двух десятков снующих по арене сухоногих египетских забавников, с лицами сморщенными подобно компотным грушам — объявился среди зрителей брат-близнец. На этого, сидевшего отдельно от всех шута, изображавшего из себя рыбу с задранной вверх головой, с раздвоенным хвостом и сияющей в ночных факелах чешуёй многоцветной, египетские насмешники наперебой пальцами и указывали.
По жестам выходило: близнецам нужно держаться вместе, и не откладывая, опуститься на нильское дно, а там найти спрятанную в толще вод каменную табличку с письменами. Но было условие: найдут табличку — вынырнут назад. Не найдут — так онемевшими рыбами под водой и останутся.
Бегали в полутьме по кругу, изредка, как тушканчики, подпрыгивая, полуголые шуты. Плотным полукольцом сдавили песчаную арену, словно бы ороговевшие от шутовских непозволительных вольностей лысостриженные жрецы. Осторожно покалывали палочками папирусы впалоглазые иерограмматеи с одеревеневшими спинами, излагая эту на их взгляд дико смешную историю словами бога, а проще говоря, — рисунчатым письмом, дополнив его собственными значками, крепко уцепившими человеческую речь.
Шуток словесных почти не было, зато в изобилии мелькали под куполом ночи древнеегипетские кистевые и коленные жесты, схожие с пляской, садящейся на поля саранчи. При виде этих жестов зрители, почти не размыкая губ, лихорадочно похохатывали, и даже тайком утирали слёзы счастья.
Даже сам Рамзес, по счёту чёрт его знает какой, сидевший рядом с ободом арены отдельно от всех на узко-высоком резном троне, хоть и неулыбчиво, но зато часто переводил взгляд с шута изображавшего на песочке двухвостую рыбу, на его брата, которого в отличие от других зрителей била крупная дрожь от переживаний за свою дальнейшую судьбу.
Вдруг, чёрт его знает какой Рамзес, встал, и, картинно освободив трон, поманил к нему Терёху. Тот отрицательно замотал головой: мол, уже насиделся мысленно на тронах отечественных! И ничего хорошего в таком сидении не обнаружил. Однако Рамзес, чёрт его знает какой, не проронив ни слова, понятными даже дураку телодвижениями объяснил Пудову: Терёха основной так и останется на месте, зато Терёха запасной, хоть часок, а посидит на троне.
Здесь Пудов Терентий не выдержал. Ломая ход сценарных эпизодов, а, заодно, руша египетскую иерархию, крикнул:
— Да у вас тут просто Цирк мумий! А не пошли бы вы лесом, вместе с вашими тронами и царскими местами! Короче. Я на таких мумий и в отечестве насмотрелся. Каждый день и каждый вечер вижу. В магазинах, в метро, в театрах, в трамваях. Все они за приближение к трону, как за соломинку хватаются! Ты бы хоть мельком сюда вот глянул, — плавно повёл Терёха рукой от низовий Нила к городу Во, а потом выше, выше, на север, в сторону Москвы, в сторону Питера, — сразу всё себе и уяснишь.
Но Рамзес, чёрт его знает какой, следить за Терехиной рукой не стал, видно на своих мумий нагляделся, лишь погрозил шуту кулачком иссохшим.
Тут в египетских высях что-то ухнуло и заскрежетало. Потом заплакала сова. За ней другая, десятая, сотая! Сто плачущих сов заставили зрителей унять лихорадочный смех, принудили жрецов рухнуть ниц, а писцов проколоть себе зрачки палочками. Смерть и скорбь вдруг шелестнули совиными крыльями над окаменевшей ареной, скорбь и смерть! И тут же Цирк мумий, цирк лихорадочного веселья и каменного молчания, раскололся на куски и рухнул в бездну. А вслед за цирком и синопсис, про пляски иссохших личностей и плач сов, был скомкан и полетел в мусорную корзину.
Но потом смятые листы Терёха достал, распрямил, решил сохранить. После чего снова улёгся на диван, закрыл глаза. Заснуть, правда, не заснул. Утешал себя: это плакала обыкновенная сова-сипуха, какие редко, но ещё встречаются в окрестностях города Во. И вовсе не смерть сова предвещает, а открытие мудрых тайн…
Маясь бессонницей, ища веселья даже в скорбных плачах, Терёха вытер взмокшее лицо и прикинул: если уж не Талка-Наталка, то хоть голубая Ушебти могла б навестить его, утешить. Так оно и вышло. Причём, Ушебти, — видать, чуток поразмыслив, — подкатила с другого боку.
— Тебе нравятся клоуны?
— Вокруг или в цирке?
— Ой, ну ты, вижу, ничего не понял. И потом: напрасно ты про второго Терёху, ну, про двойника не поверил. И вовсе не Цирк мумий тебе показали, а настоящий цирк египетский. А что заплакали сто сов — так они не символ скорби и смерти, а просто напросто тебя, дурака, жалеют, если меня не послушаешься. И с шутами нашими всё не так, как ты думаешь: ну, лёгкий недокорм среди народа египетского случился, — а ты сразу мумии, мумии! Ну, и коричневатость загара в глаза тебе бросилась.
— Поговори мне! Сказано Цирк мумий, значит Цирк мумий. Неживой он, сразу видно. Суховоблый какой-то. У нас такие неживые программы тоже случаются, видел. А мне живой, если хочешь, — живородящий цирк нужен!
— Это как это живородящий, Теряша? — Споткнулась, двинувшаяся было к шуту, египтянка.
— А так это. Один номер свободно рождает номер другой, одна реприза выплёскивает из себя — опять же свободно, без подготовки — другую! Словно из циркового родильного дома маленькие малыши выпрыгивают и тут же шутами и воздушными гимнастами становятся, на коротких толстеньких ручках в воздухе повисают!
— Дался тебе этот цирк живородящий, — раздосадовалась Ушебти, ты лучше про двойника послушай!
— Ладно, тренькай, но покороче.
— Ну, слушай. Так оно всегда и во всех мирах происходит: существует человек, а где-то рядом или вдалеке существует иногда видимый, иногда невидимый его двойник. Бывает, — и брат-близнец. И ведь важную роль этот близняшкин исполняет: грехи на себя принимает, злые помыслы оттягивает. Тяжкие повороты судьбы, как нитку на палец, на себя наматывает. Ну, да ладно, раз тебе одному, без двойника привычней в мире существовать, — зайдём с другой стороны. Глянь на меня. Видишь, я какая? Что спереди, что с боков. А особенно сзади, Теряша, глянь. Даже сам Александр Третий прибыв как-то в твой родной город мною залюбовался.
— А потом чего? — Не оборачиваясь, спросил шут.
— А потом уехал, не до меня ему стало.
— Какая-то лабусня поросячья, ей-богу.
— Не говори пустых слов, глянь лучше сюда.
Терёха перевернулся на другой бок и увидел голубоватое нагое тело, прекраснейшее из всех, какие видел раньше. А Ушебти тут же изогнулась, подкинула ладошками по очереди свои острые груди, потом встала на коленки и на локотки, а после ещё и облокотилась беспечно на Самохино дырявое кресло.
Терёха привстал. Однако Ушебти жестом его остановила.
— Вот и хорошо, что посмотрел. Тебе подруга нужна. Только не обычная баба. Не какая-нибудь Бильдюга Престипомовна, ну, знаешь, рыбища такая здоровенная, про один только персидский шугаринг мечтающая. И тем более не Талка безвестно пропавшая. А такая как я. Знаешь, в чём моя необычность?
— Ну, и в чём же?
— Ты вот думаешь, я сейчас к тебе в постель прыгну?
— Не просто думаю, — знаю…
— А вот и нет. Я – прелесть малодоступная, прелесть вечно манящая, но приходящая редко и лишь в определённый час. Приезжай завтра утром на речку на Ворону. И статуэтку мою с собой прихвати. Там под водой, любовь наша начнётся. А потом снова на берег вынырнет. Всю последнюю часть жизни я тебя незримо сопровождать стану. И в том мире, и в этом. Всю чёрную работу, которую на тебя в загробном мире взвалят – за тебя делать начну. И вообще – буду за тебя ответчица. Вот тебе памятные слова, если навалят на тебя земные и загробные работы. Запоминай:
"О, Ушебти! Если повелят мне выполнять любую работу, которую следует выполнять в загробном или в обычном мире, — смотри, будь начеку, чтобы выполнять то, что положено человеку там и здесь.
«Вот я!» — да ответишь ты, когда позовут меня.
Ищи момент всякий, чтобы за меня трудиться, чтобы вспахивать поля, наполнять каналы водой,
перетаскивать песок с востока на запад,
бегать, сверкая попкой, по арене взад и вперёд.
И снова, о, Ушебти, говори слова эти: «Вот я за него!», — когда меня призовут".
— Так это у тебя билль о правах человека для зэка или для лодыря разжиревшего предназначенный. Ну тебя в задницу, с твоими воззваниями и загробным миром!
После таких обидных слов голубая Ушебти – опять исчезла. А, может, и загрузла как раз там, куда посылали. Но статуэтка — та по-прежнему на окне стоять осталась.
Ночью Терёшечка спал плохо, и следующим утром, ни свет, ни заря, собрался-таки на речку на Ворону. Уже и такси вызвал, и статуэтку голубую, обернув рифлёной плёнкой, в карман пиджака сунул.
Как вдруг вступило в ум: «А ведь под водой одна только рачья и рыбья любовь бывает! Что ж это она, в мужика русалочьего или в шута-водяного превратить меня хочет?»
Разозлился Терёха, отменил такси и, сунув в карман бутылку минералки, вышел продышаться на часто упоминавшуюся Самохой улицу Веры Фигнер.
Тут эта самая дама, совсем небольшого росточка, зато с крупными белыми ушами и жёлтым лицом, перед ним и мелькнула. На миг приостановившись, дама в сердцах крикнула:
— Ты вот умом своим в дальних далях шастаешь, а про меня и думать забыл! А я ведь дама непростая, я дама грозная. Многие меня так и звали: «Топни-ножка». И за решимость мою обожали. А один сердобольный писатель, в день оглашения мне смертного приговора, — как участнице покушения на Александра II, — даже передал в тюрьму записку со словами: «Как я Вам завидую! Глеб Успенский». А ты на моей улице мною же и пренебрегаешь! Берегись шутяра!»
Здесь Пудов Терентий, вслед удаляющейся Вере Фигнер сдержанно поклонился, и хотел даже возвратиться восвояси, чтобы внести госпожу-товарища Фигнер в сценарий будущего пародийного спектакля, как особу, в 1926 году получившую персональную пенсию за участие в убийстве Александра Освободителя, но передумал и быстренько проследовал на параллельную улицу под названием Бархатный Бугор…
Еня Пырч
Сыч и ябедник Еня Пырч внезапно затосковал. Грызла его тоска, однако, недолго. Скоро Еня смекнул, как и от тоски избавиться и Терёхе, сумевшему-таки провести Шествие дуроломов, насолить! Сел Еня за компец и, не особо раздумывая, застучал по клавишам:
«Сообщение для Федеральной службы безопасности. Пудов Терентий, проживающий по адресу, г. Москва, ул. Полянка дом 26, квартира не знаю какая, под видом нового Шествия шутов, готовит нападение на Администрацию Президента. При неудаче иноагент и отморозок Пудов планирует скрыться на Украине». Доброжеватель.
Подписываясь, Еня сделал опечатку. Но исправлять не стал. «Так даже вучше: подумают — писав сдвинутый на политике шизик, захотят изолировать, проверят ИП-адрес, потом – меня самого, а после доберутся-таки до ненавистного Терёхи».
— А уж я им про него порасскажу! Гваза на воб вылезут…
Три дня Еня терпеливо ждал. Ответа не было. Тогда он позвонил дежурному сам.
Разговор с дежурным Пырчу не понравился. Вместо того, чтобы тут же кинуться вязать Терёху, дежурный стал нудно выспрашивать, про историю Ениного с Терёхой знакомства, про доказательства возможного похода на Администрацию. Даже про работу и увлечения самого Ени зачем-то спросил.
Не выдержав, Пырч крикнул:
— Пудов сейчас умотав у Воронеж, побвиже к границе! У него с собой сценарий нового, вроде бы шутовского действа. А на самом деле — зашифрованный сценарий штурма Администрации. Я туда поеду, добуду, и вам, если вы такие недоверчивые, в письменном виде представлю. Я хочу помочь, а вы меня отстраняете! Где ваша вогика? Где справедвивость?
— Ладно, привозите сценарий, почитаем.
На этом разговор закончился. И ринулся Еня в городок Воронеж!
Терёху нашёл не враз, целый день на шутяру потратил. А всё ж таки адресок пудовский в мобилке уже попискивал.
На следующее утро, Пырч, одевшись поскромней и на всяк про всяк прикрыв свою брыластую пасть нежным апрельским шарфом, на улицу Веры Фигнер и выехал.
Тут – повезло. Минут через пятнадцать Терёха вышел из дому, и, как показалось Ене, подозрительно спокойно, двинул к водохранилищу. Шёл Терёха пружинисто, шёл не оглядываясь, шеей не вертел, глазами никого вокруг не искал. Правда, один раз остановился и даже хотел вроде назад повернуть. Еню это раздосадовало: едва успел спрятаться за каменный выступ. Но тут в голову прокралась счастливая мысль: что если затеять драку, а потом в местной полиции сразу вывалить всё, чему не поверили в ФСБ?
Придумано — сделано.
Оглядев улицу Веры Фигнер, и ничего опасного не заметив, Еня подкрался сзади и с силой ударил Терёху по печени.
Что-то хрустнуло и вдобавок булькнуло. Терёха отпрыгнул в сторону, и сперва изумлённо уставился на Пырча, а затем вынул из кармана примятую с одного боку пластмассовую бутылку с газировкой и аккуратно опустил в урну.
Тогда, ещё раз зыркнув по сторонам Пырч выхватил нож, в два скока подобрался к Терёхе, ловко приставил лезвие к горлу и стал подталкивать шута к зарослям шиповника и двум-трём невысоким деревьям.
— Давай сценарий нападения на Администрац-цию! — взвизгнул Пырч, надеясь, что его кто-нибудь да услышит, — давай, остовоп украинский! А то…
Умелым цирковым ударом Терёха нож выбил, для верности дал носком ботинка Ене по голени, потом сбил наземь.
Пырч завыл. Тогда Терёха перевернул его на живот и прижал лицом к прошлогодней траве. Наглотавшись сухих травинок, Еня смолк. А Терёха, чуть поколебавшись, вынул из кармана египетский сценарий, уронил его будто случайно рядом с Пырчем, и ласково приклеив на спину лежащему захваченную с собой для других целей картинку, приказал:
— Мотай назад в Москву. У меня здесь всё схвачено.
После чего, насвистывая какой-то допотопный вальсок, двинул к водохранилищу.
Продолжая лежать на земле, Пырч вызвал полицию. Но те заявление про украинского диверсанта принять отказались, обратив внимание на запах из Ениного рта, вырезанную из крафтовой бумаги и наклеенную Ене на спину козью морду и нечёткое – через звук «в» — произнесение слова «повиция».
— Всё равно доберусь до пудовской рожи! — скрежетал, выходя через час из полицейского отделения, борец с диверсантами, — всё равно он у меня в гвавных шутах ходить не будет!
На следующую ночь никаких видений не было: Ушебти не приходила, Рамзес, чёрт-те какой, к трону не манил. И вообще: с немалым удивлением Терёха заметил — в городе Во жизнь повседневная резко сдвинула в сторону жизнь внутреннюю. А если говорить прямо, на смену воздушным окопам, вырытым вокруг Терёхи карфагено-египетскими историями, пришла и стала уверенно обзаводиться барахлишком и обставляться мебелью, трезво-будничная жизнь: глуповатая, трагикомичная, но и затаённо прекрасная.
Утром, перед поездкой в музей, куда задумал вернуть голубую Ушебти, а оттуда забрать жезл, глядясь в зеркало, которое изобретательный Самоха укрепил на кухне, чтоб и еду готовить, и с отражением собственным работать, Терёха неожиданно высказался:
— Наша-то реальность шутовская поинтересней карфагено-египетской будет! – бурчал и бурчал он, трогая рассечённую Пырчем губу и поводя из стороны в сторону распухшим за ночь языком.
Енин вчерашний наскок Терёху развеселил. «Теперь, небось, в поезде на сиденье аж подскакивает. Про египетский цирк читает. Ищет в сценарии зашифрованные сообщения. И ведь ничего, сволочь, не добился, но доносить продолжит. Нет! Не живёт нынешний смехач без доноса! Обязательно начнёт мои каракули по инстанциям рассылать…
Здесь Терёха заторопился, мигом собрался и покатил вместо речки Вороны в Областной музей. По дороге снова пришло сообщение от Самохи: «Все гавайянки — дешёвки! Что филлипинки, что креолки. Но много о себе воображают. Цирк для них сплошное дурачество и фокусы с попугаями. Скоро вернусь. Ох, и закатим с тобой представление! Опять, ёксель-моксель, цирко-театр устроим. Помнишь «Чудесную Маротту»?
И Терёха вспомнил. Но не придуманный им когда-то цирковой спектакль. Цирковой шатёр своего детства вспомнил.
А вспомнив, не доезжая двух кварталов до музея, машину отпустил, присел на скамейку, и глубоко, со свистом, втянул в себя сладко-волнующий воздух города Во.
Жизнь будничная, не-московская и не-африканская: с уютными магазинами и крохотными базарчиками, с холодной окрошкой и горячими пирожками, с ласкающим нёбо вином, с рыбами плещущими хвостами в водохранилище, с белыми и коричневыми бабочками, которые вот-вот должны были суматошно и счастливо зашнырять над кустами, — охватила его прелестью и простотой. Заволоклась паутиной эпох улица Веры Фигнер, вместо неё лёг под ноги пышущий зелёным цветом Петровский остров, ныне пустующий, а когда-то работный и весёлый, взлетела и опустилась подобно птице, пробующей повреждённое крыло жизнь дивно-ласкающая, единичная, только ему предназначенная, постепенно уводящая от будоражащих видений и рваных ран.
А ещё увидал Пудов Терентий, бегущие рядом, близко, совсем недалеко от скамейки, на которую присел, реки времён. Чисты и прозрачны были эти реки! То машкерадное Невско-Петровское время в них отражалось, то плескало у ног разбойное время питаемой снегами полноводной Вороны, то Москворецкое затейливо-купеческое время, несущее в своей струе цветные старинные теремки, прогулочные плоскодонки, причудливые, хорошо выструганные ярмарочные деревянные игрушки, проплывало. Но радость была в том, что все эти времена плыли и без следа пропадали. А слегка приподнимало и покачивало Пудова время собственное, которое, как и советовал Терентий Африканец, он тут же направил в новое неизведанное русло.
Тут-то сердце Терёхино сбой и дало.
Глаза сами собой закрылись, а потом широко открылись вновь: потому как прямо из околомузейного пространства, заторопился он, шлёпая крохотными ботиночками на резиновом ходу, в звенящий от яркого света полудетский, полумладенческий цирк.
Сыч и ябедник Еня Пырч внезапно затосковал. Грызла его тоска, однако, недолго. Скоро Еня смекнул, как и от тоски избавиться и Терёхе, сумевшему-таки провести Шествие дуроломов, насолить! Сел Еня за компец и, не особо раздумывая, застучал по клавишам:
«Сообщение для Федеральной службы безопасности. Пудов Терентий, проживающий по адресу, г. Москва, ул. Полянка дом 26, квартира не знаю какая, под видом нового Шествия шутов, готовит нападение на Администрацию Президента. При неудаче иноагент и отморозок Пудов планирует скрыться на Украине». Доброжеватель.
Подписываясь, Еня сделал опечатку. Но исправлять не стал. «Так даже вучше: подумают — писав сдвинутый на политике шизик, захотят изолировать, проверят ИП-адрес, потом – меня самого, а после доберутся-таки до ненавистного Терёхи».
— А уж я им про него порасскажу! Гваза на воб вылезут…
Три дня Еня терпеливо ждал. Ответа не было. Тогда он позвонил дежурному сам.
Разговор с дежурным Пырчу не понравился. Вместо того, чтобы тут же кинуться вязать Терёху, дежурный стал нудно выспрашивать, про историю Ениного с Терёхой знакомства, про доказательства возможного похода на Администрацию. Даже про работу и увлечения самого Ени зачем-то спросил.
Не выдержав, Пырч крикнул:
— Пудов сейчас умотав у Воронеж, побвиже к границе! У него с собой сценарий нового, вроде бы шутовского действа. А на самом деле — зашифрованный сценарий штурма Администрации. Я туда поеду, добуду, и вам, если вы такие недоверчивые, в письменном виде представлю. Я хочу помочь, а вы меня отстраняете! Где ваша вогика? Где справедвивость?
— Ладно, привозите сценарий, почитаем.
На этом разговор закончился. И ринулся Еня в городок Воронеж!
Терёху нашёл не враз, целый день на шутяру потратил. А всё ж таки адресок пудовский в мобилке уже попискивал.
На следующее утро, Пырч, одевшись поскромней и на всяк про всяк прикрыв свою брыластую пасть нежным апрельским шарфом, на улицу Веры Фигнер и выехал.
Тут – повезло. Минут через пятнадцать Терёха вышел из дому, и, как показалось Ене, подозрительно спокойно, двинул к водохранилищу. Шёл Терёха пружинисто, шёл не оглядываясь, шеей не вертел, глазами никого вокруг не искал. Правда, один раз остановился и даже хотел вроде назад повернуть. Еню это раздосадовало: едва успел спрятаться за каменный выступ. Но тут в голову прокралась счастливая мысль: что если затеять драку, а потом в местной полиции сразу вывалить всё, чему не поверили в ФСБ?
Придумано — сделано.
Оглядев улицу Веры Фигнер, и ничего опасного не заметив, Еня подкрался сзади и с силой ударил Терёху по печени.
Что-то хрустнуло и вдобавок булькнуло. Терёха отпрыгнул в сторону, и сперва изумлённо уставился на Пырча, а затем вынул из кармана примятую с одного боку пластмассовую бутылку с газировкой и аккуратно опустил в урну.
Тогда, ещё раз зыркнув по сторонам Пырч выхватил нож, в два скока подобрался к Терёхе, ловко приставил лезвие к горлу и стал подталкивать шута к зарослям шиповника и двум-трём невысоким деревьям.
— Давай сценарий нападения на Администрац-цию! — взвизгнул Пырч, надеясь, что его кто-нибудь да услышит, — давай, остовоп украинский! А то…
Умелым цирковым ударом Терёха нож выбил, для верности дал носком ботинка Ене по голени, потом сбил наземь.
Пырч завыл. Тогда Терёха перевернул его на живот и прижал лицом к прошлогодней траве. Наглотавшись сухих травинок, Еня смолк. А Терёха, чуть поколебавшись, вынул из кармана египетский сценарий, уронил его будто случайно рядом с Пырчем, и ласково приклеив на спину лежащему захваченную с собой для других целей картинку, приказал:
— Мотай назад в Москву. У меня здесь всё схвачено.
После чего, насвистывая какой-то допотопный вальсок, двинул к водохранилищу.
Продолжая лежать на земле, Пырч вызвал полицию. Но те заявление про украинского диверсанта принять отказались, обратив внимание на запах из Ениного рта, вырезанную из крафтовой бумаги и наклеенную Ене на спину козью морду и нечёткое – через звук «в» — произнесение слова «повиция».
— Всё равно доберусь до пудовской рожи! — скрежетал, выходя через час из полицейского отделения, борец с диверсантами, — всё равно он у меня в гвавных шутах ходить не будет!
На следующую ночь никаких видений не было: Ушебти не приходила, Рамзес, чёрт-те какой, к трону не манил. И вообще: с немалым удивлением Терёха заметил — в городе Во жизнь повседневная резко сдвинула в сторону жизнь внутреннюю. А если говорить прямо, на смену воздушным окопам, вырытым вокруг Терёхи карфагено-египетскими историями, пришла и стала уверенно обзаводиться барахлишком и обставляться мебелью, трезво-будничная жизнь: глуповатая, трагикомичная, но и затаённо прекрасная.
Утром, перед поездкой в музей, куда задумал вернуть голубую Ушебти, а оттуда забрать жезл, глядясь в зеркало, которое изобретательный Самоха укрепил на кухне, чтоб и еду готовить, и с отражением собственным работать, Терёха неожиданно высказался:
— Наша-то реальность шутовская поинтересней карфагено-египетской будет! – бурчал и бурчал он, трогая рассечённую Пырчем губу и поводя из стороны в сторону распухшим за ночь языком.
Енин вчерашний наскок Терёху развеселил. «Теперь, небось, в поезде на сиденье аж подскакивает. Про египетский цирк читает. Ищет в сценарии зашифрованные сообщения. И ведь ничего, сволочь, не добился, но доносить продолжит. Нет! Не живёт нынешний смехач без доноса! Обязательно начнёт мои каракули по инстанциям рассылать…
Здесь Терёха заторопился, мигом собрался и покатил вместо речки Вороны в Областной музей. По дороге снова пришло сообщение от Самохи: «Все гавайянки — дешёвки! Что филлипинки, что креолки. Но много о себе воображают. Цирк для них сплошное дурачество и фокусы с попугаями. Скоро вернусь. Ох, и закатим с тобой представление! Опять, ёксель-моксель, цирко-театр устроим. Помнишь «Чудесную Маротту»?
И Терёха вспомнил. Но не придуманный им когда-то цирковой спектакль. Цирковой шатёр своего детства вспомнил.
А вспомнив, не доезжая двух кварталов до музея, машину отпустил, присел на скамейку, и глубоко, со свистом, втянул в себя сладко-волнующий воздух города Во.
Жизнь будничная, не-московская и не-африканская: с уютными магазинами и крохотными базарчиками, с холодной окрошкой и горячими пирожками, с ласкающим нёбо вином, с рыбами плещущими хвостами в водохранилище, с белыми и коричневыми бабочками, которые вот-вот должны были суматошно и счастливо зашнырять над кустами, — охватила его прелестью и простотой. Заволоклась паутиной эпох улица Веры Фигнер, вместо неё лёг под ноги пышущий зелёным цветом Петровский остров, ныне пустующий, а когда-то работный и весёлый, взлетела и опустилась подобно птице, пробующей повреждённое крыло жизнь дивно-ласкающая, единичная, только ему предназначенная, постепенно уводящая от будоражащих видений и рваных ран.
А ещё увидал Пудов Терентий, бегущие рядом, близко, совсем недалеко от скамейки, на которую присел, реки времён. Чисты и прозрачны были эти реки! То машкерадное Невско-Петровское время в них отражалось, то плескало у ног разбойное время питаемой снегами полноводной Вороны, то Москворецкое затейливо-купеческое время, несущее в своей струе цветные старинные теремки, прогулочные плоскодонки, причудливые, хорошо выструганные ярмарочные деревянные игрушки, проплывало. Но радость была в том, что все эти времена плыли и без следа пропадали. А слегка приподнимало и покачивало Пудова время собственное, которое, как и советовал Терентий Африканец, он тут же направил в новое неизведанное русло.
Тут-то сердце Терёхино сбой и дало.
Глаза сами собой закрылись, а потом широко открылись вновь: потому как прямо из околомузейного пространства, заторопился он, шлёпая крохотными ботиночками на резиновом ходу, в звенящий от яркого света полудетский, полумладенческий цирк.
Цирковая семья
Варюха забеспокоилась. Ещё раз обведя взглядом корабельный Теллермановский лес, а вслед за ним слияние двух рек Хопра и Вороны, решила: хватит любоваться! Городок Борисоглебск, основанный в 1698 году по указу Петра Великого, ей нравился, даже пожить здесь месяц-другой захотелось. Однако до этого свою и родительскую жизнь наладить следовало. Сценарий для нового цирко-театра, написанный Терентием Фомичом, подтолкнул к мысли: хорошо бы стать укротительницей этого нового дела! А что? Наверняка получится. И Паучок поможет, глядишь, пиар организует.
— Вчера батяня на сообщение не ответил и сегодня молчит. Походу случилось что-то. Может, приболел. Поехали назад, Паучок.
Паутинщик беспокойства Варюхина не разделял, но на всякий случай быстренько согласился: рука у шестнадцатилетней Варвары оказалась тяжёлой и скорой.
— Сейчас, сейчас. Перекачаю только Бориса и Глеба с досок.
— Ладно, давай быстрей, я пока батянины записи полистаю.
Подстелив газетку, Варюха присела на брёвнышко, вынула исписанные круглым почерком листы, стала читать.
Предуведомление
— Так, ну это пропустим. Ага. Агашечки. Вот оно! И стрёмно как!
«… где царит власть — там нет семьи. Возьмём, к примеру, Екатерину Вторую. Власть у неё была. Любовников — до чёрта. А семьи не было. Тоже самое — у Петра Великого: всё у него в жизни получилось, Россию создал заново! А семью — не смог. Разлетелись его дети, разбились «птенцы» о скалы, затерялись в бумагах и в болотах питерских утопли. Совсем другое дело Николай Второй. Тот семью сохранял, лелеял. Может поэтому, и власть потерял. Ещё раз повторю, дорогие мои: где есть власть — семьи нет. Где семья — там нет власти. Поэтому в будущем мир будет выстроен не по типу государств, не как лесенка властей всех мастей, а как сообщество профессионально умелых семей. Может даже, — цехов. Семейный цех умельцев в будущем не только отодвинет в сторону прежние структуры государства, но и само государство заменит, или верней создаст и насытит его новую структуру живой плотью. Семьи зодчих и скрипичных мастеров в Италии, семьи шпильманов в Германии, семьи виноделов на Кавказе, семьи купеческие в России! Словно неразрушимые малые государства — живут и действуют они и посейчас. Даже власть советская не смогла купеческие и другие семьи, связанные одним делом, разрушить. Власть пришла-ушла, а семьи Демидовых и Толстых – вот они! Живут, не разрушаются. А как же вражда семей? — Спросите вы. Как же шекспировское: «Две равно уважаемых семьи… Ведут кровопролитные бои…» Ответ будет таким: плоть небесная, которой преисполнятся наши тонкие тела, в не таком уж далёком будущем убережёт семьи умельцев от кровавых стычек, от беспрерывной борьбы за наследство и преступных страстей… Не будет борьбы за наследство, потому что и самого наследства в привычном смысле не будет. А вот «полит»-семьи те часто по швам трещат. Ельцинская семья – не состоялась. Зря её вообще «семьёй» назвали. Не держится семья на власти, а держится, — ещё раз, тебе Варюха и тебе Паучок, повторю – на любви и приязни… Вот вам и сценарий вашей будущей жизни: цирковую семью создайте! Не акробатическую — поздно — а доверительно-продюсерскую или программистскую. И меня в той семье незлобивым словом помяните. А малышня пойдёт — тех в гимнасты воздушные и в шутёнки грустно-весёлые определите…
Оборвав чтение, Варюха одним духом выплеснула: «Ну, батяня даёт». И тут же весело крикнула: «Скоро ты, Паучок? Назад едем, батяню поддержать надо. А то совсем он в заключительные мысли впал!»
Взбодрённый ласковым словом, Паутинщик нажал в последний раз кнопку фотика, и, радостно переступая истончившимися от сидения за компом ножками, уже без всякого принуждения, последовал за Варюхой.
Варюха забеспокоилась. Ещё раз обведя взглядом корабельный Теллермановский лес, а вслед за ним слияние двух рек Хопра и Вороны, решила: хватит любоваться! Городок Борисоглебск, основанный в 1698 году по указу Петра Великого, ей нравился, даже пожить здесь месяц-другой захотелось. Однако до этого свою и родительскую жизнь наладить следовало. Сценарий для нового цирко-театра, написанный Терентием Фомичом, подтолкнул к мысли: хорошо бы стать укротительницей этого нового дела! А что? Наверняка получится. И Паучок поможет, глядишь, пиар организует.
— Вчера батяня на сообщение не ответил и сегодня молчит. Походу случилось что-то. Может, приболел. Поехали назад, Паучок.
Паутинщик беспокойства Варюхина не разделял, но на всякий случай быстренько согласился: рука у шестнадцатилетней Варвары оказалась тяжёлой и скорой.
— Сейчас, сейчас. Перекачаю только Бориса и Глеба с досок.
— Ладно, давай быстрей, я пока батянины записи полистаю.
Подстелив газетку, Варюха присела на брёвнышко, вынула исписанные круглым почерком листы, стала читать.
Предуведомление
— Так, ну это пропустим. Ага. Агашечки. Вот оно! И стрёмно как!
«… где царит власть — там нет семьи. Возьмём, к примеру, Екатерину Вторую. Власть у неё была. Любовников — до чёрта. А семьи не было. Тоже самое — у Петра Великого: всё у него в жизни получилось, Россию создал заново! А семью — не смог. Разлетелись его дети, разбились «птенцы» о скалы, затерялись в бумагах и в болотах питерских утопли. Совсем другое дело Николай Второй. Тот семью сохранял, лелеял. Может поэтому, и власть потерял. Ещё раз повторю, дорогие мои: где есть власть — семьи нет. Где семья — там нет власти. Поэтому в будущем мир будет выстроен не по типу государств, не как лесенка властей всех мастей, а как сообщество профессионально умелых семей. Может даже, — цехов. Семейный цех умельцев в будущем не только отодвинет в сторону прежние структуры государства, но и само государство заменит, или верней создаст и насытит его новую структуру живой плотью. Семьи зодчих и скрипичных мастеров в Италии, семьи шпильманов в Германии, семьи виноделов на Кавказе, семьи купеческие в России! Словно неразрушимые малые государства — живут и действуют они и посейчас. Даже власть советская не смогла купеческие и другие семьи, связанные одним делом, разрушить. Власть пришла-ушла, а семьи Демидовых и Толстых – вот они! Живут, не разрушаются. А как же вражда семей? — Спросите вы. Как же шекспировское: «Две равно уважаемых семьи… Ведут кровопролитные бои…» Ответ будет таким: плоть небесная, которой преисполнятся наши тонкие тела, в не таком уж далёком будущем убережёт семьи умельцев от кровавых стычек, от беспрерывной борьбы за наследство и преступных страстей… Не будет борьбы за наследство, потому что и самого наследства в привычном смысле не будет. А вот «полит»-семьи те часто по швам трещат. Ельцинская семья – не состоялась. Зря её вообще «семьёй» назвали. Не держится семья на власти, а держится, — ещё раз, тебе Варюха и тебе Паучок, повторю – на любви и приязни… Вот вам и сценарий вашей будущей жизни: цирковую семью создайте! Не акробатическую — поздно — а доверительно-продюсерскую или программистскую. И меня в той семье незлобивым словом помяните. А малышня пойдёт — тех в гимнасты воздушные и в шутёнки грустно-весёлые определите…
Оборвав чтение, Варюха одним духом выплеснула: «Ну, батяня даёт». И тут же весело крикнула: «Скоро ты, Паучок? Назад едем, батяню поддержать надо. А то совсем он в заключительные мысли впал!»
Взбодрённый ласковым словом, Паутинщик нажал в последний раз кнопку фотика, и, радостно переступая истончившимися от сидения за компом ножками, уже без всякого принуждения, последовал за Варюхой.
Агнец смурый, агнец белый
Как слепой, спотыкаясь и падая, иногда едва ли не кувырком, иногда на четвереньках, по чьим-то ботикам и ботинкам, пробирался малолетний Терёшечка меж рядов сумрачно-весёлого цирка. Под куполом было почти темно. Зато сияние прожекторов и блеск зрительских очей высвечивали арену и барьер её обводящий, до мельчайшей соринки. На арене, с ягнёнком в руках, стоял неподвижно, — словно только Терёшечку и ждал — усасто-полосастый клоун. Ягнёнок завитой, ягнёнок снежно-белый, шевелил розоватыми ушами. И вдруг, отпущенный клоуном, весело подпрыгнув, побежал по круговому барьеру. Потом неожиданно остановился и, словно чуть поразмыслив, нехотя к усасто-полосастому вернулся. Терёха маленький от радости засмеялся. И тут же увидел на арене себя самого. Ясно различил: трогает он снежно-белого за хвостик, потом за копытце. И ягнёнок не брыкается, не фыркает, а с удовольствием отдаёт копытце в полное Терёшечкино владение.
Радуясь, что ягнёнок никуда не уходит, что не уносят его за тяжёлые шторы, охраняемые униформистами в красно-чёрных одеждах, Терёха нынешний, пятидесятилетний, клюнул носом городской воздух, от счастья сильней сожмурил веки и вскоре стал чувствовать: нарастает на шею, щёки и кисти рук нежно обсыпанная золотушной сыпью, колкая и, — если лизнуть её, — сладко-пряная на вкус, несдираемая шкурка детской жизни. Жизнь эта детская обула его в тесные башмачки, закутала материнским вязанным шарфом и снова настал, — а отнюдь не припомнился, — год 1974-й, когда и было-то Терёшечке всего четыре с половиной года. Больно наступив матери на ногу, побежал он к ободу арены, попробовал взобраться на барьер, не смог, и тогда, закричал и заверещал, чтобы ягнёнка не мучили. Ягнёнок блеял, цирк над нелепым мальцом хохотал. Мать — это даже издалека было видно — покрывалась ржавыми пятнами, сбивала пальчиком слёзы с удлинённых ресниц. Служители долго не могли отодрать мальца от барьера. Мелко переступая ножками, он ушёл сам: двинулся от арены прямо к выходу. Следом, охая, бежала мать.
Позже Терёша часто вспоминал ту цирковую программу, причём, не только простодушного ягнёнка, но и клоуна-дрессировщика, топырившего из-под усов огромные накладные губы, и с какой-то живоглотской ухмылкой поднимавшего пушистого домашнего зверя за шкирку, прежде чем, перехватив за лапы передние, повести его по неширокому цирковому барьеру на лапах задних…
Цвет, окрас, цвет!
От игры прожекторов ягнёнок менял окрас, и мордочка его становилась то грозной, то весёлой. Внезапно ягнёнок начал темнеть, потом стал и вовсе тёмно-серым. Мать такой цвет называла смурым. Затвердил это словцо и Терёша. Но тут, то ли лампочки цирковые вдруг вспыхнули ярче, то ли ещё почему, но только через несколько мгновений стал ягнёнок снова белеть, а клоун с усищами продолжал ягнёнка мучить.
И тогда Терёшечка малый вернулся и, не помня себя, кинулся снова к цирковому барьеру. Подбежав, от гнева и восторга подпрыгнул на месте.
И здесь барьер исчез. А ягнёнок встал передними копытцами на неизвестно как попавшую в цирк золотую, толстую и широкую книгу. И наоборот: усатый клоун упал и бездвижно лежал на спине, выкатив до предела полупьяные зенки.
Совсем рядом, молоденькая нянька, указывая пальцем трёхлетней воспитаннице на арену, игриво спрашивала:
— Цо то е, пани Акулька? Цо то е?
И, несильно стукнув девочку по носу, себе же пылко отвечала:
— То — ярашка. То ярашка, пани Акулька!
Вслед за нянькиным — прозвучали и другие голоса:
— Сёдни вусатый зажарыть ягня обещалси.
— И давно-таки, давно-таки пора…
Здесь уже Терёха нынешний глянул на далёкую арену и на себя четырёхлетнего. А вслед за тем, и Терёшечка четырехлетний взглянул на себя пятидесятилетнего. И увидели они оба и враз учетверённым зрением: всё на арене переменилось!
Посредиширокогопрестола, в окружении четырех неизмученных дрессурой цирковых животных, – льва, орла, попугая и лани, –посреди цирковых старцев и молодых воздушных гимнастов с крылышками, стоял не ягнёнок, — Агнец!
Великодушный и великий небесный цирк предстал внезапно перед Терёхой нынешним, а вовсе не пугающий Цирк мумий!
Агнец стоял словно закланный, но в то же время был он живым.
Он стоял, чуть подрагивая семью рогами, взблёскивая семью очами, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
И когда Он взял книгу, тогда четверо животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
(А воздушные гимнасты те растворились под куполом).
И спели павшие на колени новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле, пока не призовёшь нас всех: малых и великих, покорных и строптивых, мрачных и весёлых на небо!
И виден, и слышен был голос многих Ангелов вокруг престола и животных, и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громко: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, в тот час говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков…
Эхом разнеслось по цирку: «… и слава… и держава… во веки веков»!
И тогда сквозь внезапно образовавшиеся в куполе огромные прорехи, засияли и налились внутренним светом разумные планеты, восторженно замерцали ясные звёзды, о которых часто твердила мать. И одна из них, самая яркая, по имени Сириус, из созвездия Большого Пса, — не больно, сладко, легко — уколола Терёшу нынешнего прямо в сердце.
Но тут же Большой Пёс и унёсся на крыльях, куда ему надо было. Вслед за Псом и звезда Сириус растворилась в начавшем светлеть небе.
И тут же кто-то чистым дискантом, похожим на голос подростка заступавшегося за Терёху у Стены Скорби, крикнул:
— Восходи без сомнений и восхищайся смелей! Узнаешь, что тебе предназначено!..
Опустился из-под купола пёстрый канат, цветами схожий с шутовским жезлом, и Терёха сперва ручонками мальца, а потом руками взрослого человека, быстро, ловко, без помощи ног, как проворный лемур индри или гимнаст, устремился по канату вверх, к самой крупной прорехе в куполе цирка.
Выше, круче, смелей! Тёплая кровь по рукам бежит, а крови не видно. Боль с ладоней кожу сдирает, а она приятна. Маршальскими жезлами внизу машут, а они – шутовские. Шутовскими жезлами на улицах к людям прикасаются и люди, утерев слёзы, хоть чуть переводят дух…
— Не рано? Удержусь? Оборвусь? — Спрашивал себя, обмирая, Терёха нынешний.
Он глянул вниз. Цирк мумий, следившие за ним бандосы, променад шутов, Еня Пырч, голубая Ушебти, звери, ревущие в цирковых клетках и звери, бредущие по улицам в людском образе — завалились набок, притихли. Взвыла поперёк тишины и сразу смолкла сирена, кого-то у Стены брали под микитки, кто-то в отчаянии бился о Стену Скорби головой, — однако Терёха, всё это зная и всё чувствуя, неостановимо поднимался вверх.
Малым пятном ещё раз полыхнула внизу арена. Теперь вокруг неё было темно. Старцев, зрителей и самого Агнца видно больше не было.
— Ну, будь, что будет, — набрав полную грудь воздуха, вытолкнул его из лёгких в один дух Пудов.
— А будет вот что, — тут же услыхал он голос Терентия Африканца, — через положенный промежуток времени станешь ты Шут Божий. Решено это. Восходи же и восхищайся, как и было тебе сказано: сперва по канату, потом без него. И вернувшись назад, расскажи, что увидел немногим, но верным. Но увиденное наверху, — в шутовскую повесть уже не запихивай. А если почувствуешь в словах своих кривь — наложи на уста печать!
— Куда ж мне тогда увиденное девать? Разорвёт оно мне нутро, как шуту Осипу! Или ещё хуже: возвратясь, раскудахтаюсь и завирущим клоуном стану?
— Как распорядиться тем, что увидел, — узнаешь позже. И вруном ковёрным тебе не стать. Резко выломился ты из клоунской шеренги, и ораву перчаточных кукол человеческих покинул. За это и отмечен. А вместо жезла шутовского, дело своё сделавшего, получишь ты нечто иное. Руки твои сами станут, как жезлы. Глаза, — как лучи. Душа и ум навсегда прозреют и сущее насквозь пронзят.
— У нас говорят: Бог смирных любит.
— Врут вам. Господь Бог не дрессировщик в цирке. Он дальнозорких и решительных любит. Дух нераболепия Всевышнему, ох, как близок. Сор-работники ему нужны, – прогремел недовольно Африканец, — а не пугливые овцы!
«Овцы, овцы, овцы…» — снова разнеслось внизу перекатистое эхо.
И здесь, под самым куполом, едва успев покинуть цирк земной, получил Терёха, или как окрестил его святой Африканец — Шут Божий — прямое зрение.
И увидел сперва вверху, а потом и внизу, всё, что до минут этих видел косвенно, краем глаза. А впридачу к новому зрению получил он освобождённую от смертного страха речь. По звуку ту же — по смыслу иную. Выострив слух, успокоив зрительный нерв, приготовился он и дальше, слышать и видеть всё, что положено, чтобы рассказать об этом тем, кто умеет слушать. И тут же стал знать, — первыми словами новой, ниспосланной ему после возвращения речи, будут такие:
— Агнец смурый, Агнец белый, Агнец справедливый…
Как слепой, спотыкаясь и падая, иногда едва ли не кувырком, иногда на четвереньках, по чьим-то ботикам и ботинкам, пробирался малолетний Терёшечка меж рядов сумрачно-весёлого цирка. Под куполом было почти темно. Зато сияние прожекторов и блеск зрительских очей высвечивали арену и барьер её обводящий, до мельчайшей соринки. На арене, с ягнёнком в руках, стоял неподвижно, — словно только Терёшечку и ждал — усасто-полосастый клоун. Ягнёнок завитой, ягнёнок снежно-белый, шевелил розоватыми ушами. И вдруг, отпущенный клоуном, весело подпрыгнув, побежал по круговому барьеру. Потом неожиданно остановился и, словно чуть поразмыслив, нехотя к усасто-полосастому вернулся. Терёха маленький от радости засмеялся. И тут же увидел на арене себя самого. Ясно различил: трогает он снежно-белого за хвостик, потом за копытце. И ягнёнок не брыкается, не фыркает, а с удовольствием отдаёт копытце в полное Терёшечкино владение.
Радуясь, что ягнёнок никуда не уходит, что не уносят его за тяжёлые шторы, охраняемые униформистами в красно-чёрных одеждах, Терёха нынешний, пятидесятилетний, клюнул носом городской воздух, от счастья сильней сожмурил веки и вскоре стал чувствовать: нарастает на шею, щёки и кисти рук нежно обсыпанная золотушной сыпью, колкая и, — если лизнуть её, — сладко-пряная на вкус, несдираемая шкурка детской жизни. Жизнь эта детская обула его в тесные башмачки, закутала материнским вязанным шарфом и снова настал, — а отнюдь не припомнился, — год 1974-й, когда и было-то Терёшечке всего четыре с половиной года. Больно наступив матери на ногу, побежал он к ободу арены, попробовал взобраться на барьер, не смог, и тогда, закричал и заверещал, чтобы ягнёнка не мучили. Ягнёнок блеял, цирк над нелепым мальцом хохотал. Мать — это даже издалека было видно — покрывалась ржавыми пятнами, сбивала пальчиком слёзы с удлинённых ресниц. Служители долго не могли отодрать мальца от барьера. Мелко переступая ножками, он ушёл сам: двинулся от арены прямо к выходу. Следом, охая, бежала мать.
Позже Терёша часто вспоминал ту цирковую программу, причём, не только простодушного ягнёнка, но и клоуна-дрессировщика, топырившего из-под усов огромные накладные губы, и с какой-то живоглотской ухмылкой поднимавшего пушистого домашнего зверя за шкирку, прежде чем, перехватив за лапы передние, повести его по неширокому цирковому барьеру на лапах задних…
Цвет, окрас, цвет!
От игры прожекторов ягнёнок менял окрас, и мордочка его становилась то грозной, то весёлой. Внезапно ягнёнок начал темнеть, потом стал и вовсе тёмно-серым. Мать такой цвет называла смурым. Затвердил это словцо и Терёша. Но тут, то ли лампочки цирковые вдруг вспыхнули ярче, то ли ещё почему, но только через несколько мгновений стал ягнёнок снова белеть, а клоун с усищами продолжал ягнёнка мучить.
И тогда Терёшечка малый вернулся и, не помня себя, кинулся снова к цирковому барьеру. Подбежав, от гнева и восторга подпрыгнул на месте.
И здесь барьер исчез. А ягнёнок встал передними копытцами на неизвестно как попавшую в цирк золотую, толстую и широкую книгу. И наоборот: усатый клоун упал и бездвижно лежал на спине, выкатив до предела полупьяные зенки.
Совсем рядом, молоденькая нянька, указывая пальцем трёхлетней воспитаннице на арену, игриво спрашивала:
— Цо то е, пани Акулька? Цо то е?
И, несильно стукнув девочку по носу, себе же пылко отвечала:
— То — ярашка. То ярашка, пани Акулька!
Вслед за нянькиным — прозвучали и другие голоса:
— Сёдни вусатый зажарыть ягня обещалси.
— И давно-таки, давно-таки пора…
Здесь уже Терёха нынешний глянул на далёкую арену и на себя четырёхлетнего. А вслед за тем, и Терёшечка четырехлетний взглянул на себя пятидесятилетнего. И увидели они оба и враз учетверённым зрением: всё на арене переменилось!
Посредиширокогопрестола, в окружении четырех неизмученных дрессурой цирковых животных, – льва, орла, попугая и лани, –посреди цирковых старцев и молодых воздушных гимнастов с крылышками, стоял не ягнёнок, — Агнец!
Великодушный и великий небесный цирк предстал внезапно перед Терёхой нынешним, а вовсе не пугающий Цирк мумий!
Агнец стоял словно закланный, но в то же время был он живым.
Он стоял, чуть подрагивая семью рогами, взблёскивая семью очами, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.
И когда Он взял книгу, тогда четверо животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
(А воздушные гимнасты те растворились под куполом).
И спели павшие на колени новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле, пока не призовёшь нас всех: малых и великих, покорных и строптивых, мрачных и весёлых на небо!
И виден, и слышен был голос многих Ангелов вокруг престола и животных, и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громко: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, в тот час говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков…
Эхом разнеслось по цирку: «… и слава… и держава… во веки веков»!
И тогда сквозь внезапно образовавшиеся в куполе огромные прорехи, засияли и налились внутренним светом разумные планеты, восторженно замерцали ясные звёзды, о которых часто твердила мать. И одна из них, самая яркая, по имени Сириус, из созвездия Большого Пса, — не больно, сладко, легко — уколола Терёшу нынешнего прямо в сердце.
Но тут же Большой Пёс и унёсся на крыльях, куда ему надо было. Вслед за Псом и звезда Сириус растворилась в начавшем светлеть небе.
И тут же кто-то чистым дискантом, похожим на голос подростка заступавшегося за Терёху у Стены Скорби, крикнул:
— Восходи без сомнений и восхищайся смелей! Узнаешь, что тебе предназначено!..
Опустился из-под купола пёстрый канат, цветами схожий с шутовским жезлом, и Терёха сперва ручонками мальца, а потом руками взрослого человека, быстро, ловко, без помощи ног, как проворный лемур индри или гимнаст, устремился по канату вверх, к самой крупной прорехе в куполе цирка.
Выше, круче, смелей! Тёплая кровь по рукам бежит, а крови не видно. Боль с ладоней кожу сдирает, а она приятна. Маршальскими жезлами внизу машут, а они – шутовские. Шутовскими жезлами на улицах к людям прикасаются и люди, утерев слёзы, хоть чуть переводят дух…
— Не рано? Удержусь? Оборвусь? — Спрашивал себя, обмирая, Терёха нынешний.
Он глянул вниз. Цирк мумий, следившие за ним бандосы, променад шутов, Еня Пырч, голубая Ушебти, звери, ревущие в цирковых клетках и звери, бредущие по улицам в людском образе — завалились набок, притихли. Взвыла поперёк тишины и сразу смолкла сирена, кого-то у Стены брали под микитки, кто-то в отчаянии бился о Стену Скорби головой, — однако Терёха, всё это зная и всё чувствуя, неостановимо поднимался вверх.
Малым пятном ещё раз полыхнула внизу арена. Теперь вокруг неё было темно. Старцев, зрителей и самого Агнца видно больше не было.
— Ну, будь, что будет, — набрав полную грудь воздуха, вытолкнул его из лёгких в один дух Пудов.
— А будет вот что, — тут же услыхал он голос Терентия Африканца, — через положенный промежуток времени станешь ты Шут Божий. Решено это. Восходи же и восхищайся, как и было тебе сказано: сперва по канату, потом без него. И вернувшись назад, расскажи, что увидел немногим, но верным. Но увиденное наверху, — в шутовскую повесть уже не запихивай. А если почувствуешь в словах своих кривь — наложи на уста печать!
— Куда ж мне тогда увиденное девать? Разорвёт оно мне нутро, как шуту Осипу! Или ещё хуже: возвратясь, раскудахтаюсь и завирущим клоуном стану?
— Как распорядиться тем, что увидел, — узнаешь позже. И вруном ковёрным тебе не стать. Резко выломился ты из клоунской шеренги, и ораву перчаточных кукол человеческих покинул. За это и отмечен. А вместо жезла шутовского, дело своё сделавшего, получишь ты нечто иное. Руки твои сами станут, как жезлы. Глаза, — как лучи. Душа и ум навсегда прозреют и сущее насквозь пронзят.
— У нас говорят: Бог смирных любит.
— Врут вам. Господь Бог не дрессировщик в цирке. Он дальнозорких и решительных любит. Дух нераболепия Всевышнему, ох, как близок. Сор-работники ему нужны, – прогремел недовольно Африканец, — а не пугливые овцы!
«Овцы, овцы, овцы…» — снова разнеслось внизу перекатистое эхо.
И здесь, под самым куполом, едва успев покинуть цирк земной, получил Терёха, или как окрестил его святой Африканец — Шут Божий — прямое зрение.
И увидел сперва вверху, а потом и внизу, всё, что до минут этих видел косвенно, краем глаза. А впридачу к новому зрению получил он освобождённую от смертного страха речь. По звуку ту же — по смыслу иную. Выострив слух, успокоив зрительный нерв, приготовился он и дальше, слышать и видеть всё, что положено, чтобы рассказать об этом тем, кто умеет слушать. И тут же стал знать, — первыми словами новой, ниспосланной ему после возвращения речи, будут такие:
— Агнец смурый, Агнец белый, Агнец справедливый…



