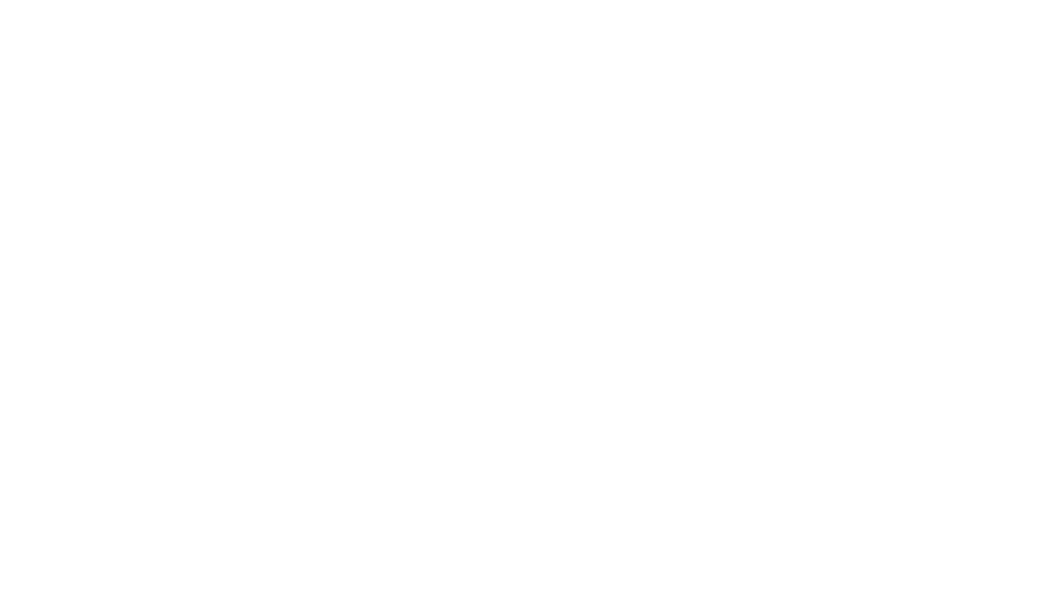
Дмитрий Фалеев — Мы не борцы за права индейцев
Дмитрий Фалеев — журналист, писатель. Окончил Ивановский Государственный Университет по специальности «Журналистика». Лауреат премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» за 2005 год. Участник Международной Книжной Ярмарки в Пекине (2010 год), номинант международной русско-итальянской премии «Радуга» (2011 год). Публиковался в журналах «Октябрь» и «День и ночь». Переводился на китайский, итальянский и французский языки.
из резервации одна дорога –
лишь только в рай…
советская песня
1.
Пожив, приходишь к ободряющему выводу, что дурному лучше учиться в хорошей компании (ведь всё равно научишься так или иначе), но верно ли другое – можно ли своему научиться у чужих, с пользой для себя почерпнуть иное?
Один мой знакомый вернулся из Америки – он там три месяца странствовал автостопом и исколесил микки-маус-ландию от Гудзона до Флориды. Свой "хадж" он совершил более пятнадцати лет назад, в 2005-ом или 2006-ом, но до сих пор не мог с ним распроститься, перешагнуть свой опыт хотя бы для того, чтобы предпринять новую вылазку. Вместо этого Ромка заслуженно гордился прошлым.
Друзья в застольях не раз слыхали отшлифованные до искусственного блеска его мемуары о поездке в США, сами могли не хуже Ромки изложить историю о баре "Three redwoods", где русский пилигрим ударил в грязь лицом, но остался патриотом (как делают – видимо, по его примеру – некоторые популярные современные политики), или историю о буковой роще в средних штатах, или историю "о настоящих индейцах".
В мемуарах присутствовал и подлинный блеск авантюры, который скрадывался, тускнел со временем, отчего Ромкины рассказы всё более и более походили на байки, однако тогда, в начале нулевых, он ими сильно и широко отличился. В областной газете вышло с ним интервью на три четверти полосы (четверть – под фото). "Молодой путешественник" в рассудительной манере университетского аспиранта делился рассказами и умозаключениями, которые он привез из-за границы, и теперь с высоты Эмпайр-стэйт-билдинг поучал ими всех, стараясь быть объективным и скрывать свой гонор (я, впрочем, склонен полагать, что эту прилизанную, научно-популярную интонацию придал хвастливой Ромкиной болтовне газетный корреспондент).
Выглядело это дословно так (старые вырезки о самом себе повзрослевший "путешественник" хранит как зеницу ока в отдельной файловой папочке, поверх папки с инструкциями и гарантиями к бытовой технике):
– С индейцами вы общались?
– Я познакомился в пути с одной белой женщиной, которая воспитывалась в индейской семье. Ей было уже за пятьдесят, и она всю жизнь посвятила защите индейских прав. Благодаря ей мне посчастливилось принять участие в обряде посвящения во взрослую жизнь у индейцев навахо.
– Обряд инициации?
– Видимо, да. Со мной его проходили двое индейских парней и одна девчонка. Была зима, холодно, но снега немного. Индейцы поставили во дворе шатёр типа юрты, развели костёр – начали греть камни. Когда камни раскалились, их внесли в темноту юрты, где уже собралась вся тусовка. Включили музыку – правда, из магнитофона. Раскаленные камни стали поливать водой, от них пошёл густой пар. Мы были в одних плавках, с нас потёк пот. Стало влажно, темно, немного не по себе. Создавалось ощущение, что мы внутри женской утробы. Индейцы искусственным образом сымитировали среду, атмосферу рождения.
Они похожи на индейцев, которых мы видим в кино?
– Нет, у них есть шоу-группы, которые ездят по стране и выступают, но, как правило, индейцы ходят в такой же одежде, как мы с вами, своеобразия осталось немного. Меня приютила на ночь одна семья навахо. Пол в доме был из глины, дети бегали босые, полуголые. Я смотрю – по полу ползёт скорпион с поднятым хвостом (это у него боевая поза – готов к нападению). Рядом с ним – девочка, годика два. Я напугался, а все сидят: смотрят по телевизору фильм про индейцев (они их очень любят!), – и никто не волнуется. Мама девочки сняла тапок и прибила скорпиона. Для них это обычно, как для нас отогнать осу от арбуза. В магазинах по всей Америке бесплатно раздают продукты для индейцев – у них куча льгот, разработаны специальные программы, но это индейцам выходит боком. Им можно не работать, можно не учиться – государство о них заботится.
– И как это сказывается?
– Они спиваются, ничего не хотят, никуда не стремятся. Возможно, это тонкая американская политика – мы же вроде бы всё вам дали…
– Чтобы вас не было.
– И претензий не предъявишь.
– Так они не "тупые"? Задорнов не прав?
– Русские лучше!
Статья называлась рекламно: "Знай наших", – как будто Ромка уел всю Америку, разделал за три месяца под орех всех янки, задавил их загадочной славянской душой.
Я бы не стал ворошить сии архивные "сокровища", если б не случай, который заново свёл моего школьного товарища с индейским народом. На этот раз всё произошло на обломках СССР и Святой Руси, у меня на родине, то есть примерно в трехстах километрах от кремлёвских башен, – в городе Иваново.
Ромка к тому времени возмужал, остепенился, как говорят про тех, от кого уже не ждут прежнего драйва, позиционировал себя как "менеджер выше среднего звена" и думал больше о том, какой фильм скачать на вечер (нового "Аватара" или старого "Рембо"), чем о том – в действительности ли Гамлет притворялся сумасшедшим?
В общем, долго ли, коротко ли, но на земли наследников Ярослава Мудрого и Андрея Боголюбского нагрянули потомки Монтесумы и Оцеолы в количестве трёх краснокожих граждан.
Занавес поднимается.
2.
На проспекте Ленина, который в каждом городе проходит через центр (нигде нет проспекта Ленина на окраине), двое индейцев в цветных жилетках сиротливо дудят в экзотические флейты, а мимо них граждане спешат с работы – в магазин, в аптеку, за ребёнком в детский сад. Складывается ощущение, что индейцы здесь не редкость и успели прохожим изрядно поднадоесть, хотя люди впервые их видят и слушают. В новинку – костюмы с обилием перьев, в новинку – диковинные музыкальные инструменты и самый звук нехитрых мелодий, которые на компактах, продаваемым третьим участником бэнда (продюсером, зазывалой?), обозначены как "Музыка Анд".
Нет, голуби и прохожие мало интересуются южноамериканской народной культурой! Если кто и замедлит шаг, пристанет ненадолго к узкому кружку слушателей, то почти сразу и отлипнет, заметив, что меднорожий (медноликий?) толстяк-зазывала направляется к нему косолапой походкой. У него кривые ноги кавалериста (возможно, он и правда вырос в седле), пухлые, мясистые губы и что-то похабное, нерассуждающее во взгляде. Индеец вместо шапки собирает пожертвования в небольшой, побрякивающий колокольчиками бубен с широким ободком, но деньги дают редко. Тогда зазывала, пересыпав пожертвования в карман пестрых, безразмерных шаровар наконец присоединяется к остальным музыкантам и очень ловко отбивает ритм. Заезженная мелодия превращается во что-то иначе организованное, что ухо слышит и не может классифицировать – уж больно непривычно меняется характер "пощечин" бубна, слишком тревожно-мелодично звучат колокольчики. Толстяк-индеец с недовольным видом, со знакомой уже нам по описанию печатью похабности и безразличия, запечатленной на лице, бьёт в свой дешевый инструмент, как будто призывает далёких, непрошенных, тропических богов прийти и хранить эту странную, северную землю и его, скитающегося по ней.
Сложно сказать, услышали ли его тропические боги и добился ли индеец от них большей благосклонности, чем реально заслуживал, но на Ромку вся эта троица произвела впечатление. Он купил у них диск и подумывал, как быть дальше, то есть как продлить ему это знакомство, потому что воздух вокруг него в тот момент дрогнул и музыка Анд пришла и расставила вокруг него горы, сияющие белыми, неприступными ледниками, пахнуло запахом шерсти и пота от навьюченных лам, от хмурых, но всегда готовых улыбнуться людей с обветренными лицами, дымком костерка у стойбища в долине под перевалом, ухмылочками молоденьких, замужних, переглядывающихся индеанок и вообще – чужой прелести и могущества, бедности и величия, упадка и возрождения.
Ромка жил припеваючи или скорее благополучно. Узкий круг глобальных проблем, волновавших его в молодости, с возрастом деформировался – проблемы мельчали, а количество их росло. То же происходило и с его удовольствиями – большому кайфу он предпочитал теперь маленькие бонусы и не видел в этом повода к перестройке. Ромка, подобно всем, становился, как все, обкладывался незаметным под рубашкой жирком, как спасательной подушкой, но круг-оберег, который каждый добропорядочный гражданин, подобно Хоме Бруту из "Вия", чертит вокруг себя в надежде, что боги его не тронут, стерся от звуков заморского бубна, каким-то шальным ветром занесенного под ивановское небо.
Иначе бы Ромка не задержался, не стал говорить с косолапым продюсером-зазывалой о вещах, казалось бы, пустых и дежурных, но завязывающих знакомство, гостеприимство. ("Откуда?", – "Эквадор", – "Отличная страна!", – "Отличная страна"). Индеец кивал. Его музыканты решили передохнуть, но прежде чем окончательно оторвать губы от флейт, они согласовали это со старшим, и он им кивнул, как кивал на многое, опустил руку с бубном и, больше не желая разговаривать с богами, сосредоточенно слушал Ромку и пытался усечь, перевести на свой язык понимания, какую корысть тот хочет сорвать или что можно получить с него – раз белый лезет, раз белый подставляется. Индеец попробовал продать ему браслет, потом еще один диск. Ромка вежливо отказывался, и тогда индеец от него отвернулся.
А вместе с ним отвернулось Эльдорадо, горные пики и всё отвернулось, словно Избушка-На-Курьих-Ножках.
В рассказе есть момент, который следовало бы в учебниках филологии назвать "зерном кульминации", то есть тем ключевым сюжетным моментом, с которого автор начинает гнать и уже гонит до конца, если хватит сил, и рассказ становится его личным делом, личною просьбой (вопрос – к кому?).
В этом рассказе "зерном комбинации" служит широкая спина индейца – коренастого коротышки с кривыми ногами.
Он больше не желает разговаривать с Ромкой.
Ромка ему неинтересен ("русский болтун", – возможно, думает индеец, отвернувшись и складывая товар с прилавка, снимая браслеты, разбирая прилавок, который похож на переносной мольберт, украшенный дрянными, сувенирными амулетами, магнитиками и бусами, значками с Че Геварой).
С каждой секундой индеец как будто отдаляется от Ромки – ведь чтобы заново завязался разговор, надо что-то спросить, проявить себя как-то, толкнуть ситуацию, но Ромка уже выдохся – лучше он придёт домой и, погружаясь в ритуальное, вечернее чаепитие, поставит купленный им у залётных музыкантов свежий компакт, скинет их фото немногочисленной касте избранных знакомых, которые тоже когда-то мечтали шагнуть в Чингачгуки, оценят это.
И тут на авансцене появляюсь я.
Я и Женщина-С-Бурой-Головой в теплое время года живём на даче, а Ромкин участок находится от нашего в пяти минутах ходьбы, в составе того же СНТ. Ромка приобрел его по нашей наводке, когда съехали Прищеповы.
И вот я звоню.
Он смотрит, как индейцы пакуют манатки, как диковинные флейты убираются в коробку, как музыка Анд становится всё непостижимей, всё дальше и дальше отступает от него, пятится, как рак, как один из индейцев приседает на корточки и протягивает кошке "бычок" от сигареты. Делает он это без насмешки, почтительно, он искренне интересуется, как отнесётся кошка к его подарку, и искренность в некоторой степени оправдывает, очищает праздность подобного интереса. Машина забита. Половину заднего сиденья занимает утисканное месиво вещей, дорожного скарба, который скапливается по мере необходимости в ходе долгого путешествия, и про многие из этих вещей наверно не скажешь, что они полезны и насущны, но и мусором их тоже назвать нельзя – а вдруг пригодятся? Короче, это багаж, который делает жизнь путешественников сносной.
А я звоню Ромке, и он мне рассказывает о случившейся встрече, и я говорю:
– Приглашай их в гости. Котлет нажарим, салат, сто грамм… Когда еще посидим у костра с индейцами!
– А вдруг они откажутся?
– Да как они откажутся. Кто у них там главный?
Ромка думал об этом, но почему-то язык не поворачивался пригласить от себя, ему было неловко, а передать приглашение друга он может легко. "Продюсер" его слушает. Своё решение он словно нашаривает в кармане шаровар. Нет, он просто достаёт ключи с ракушкой на брелке. Индеец говорит, что Ромкин друг, то есть я, если хочет нас видеть, должен будет купить у него вот эту штуку, и эту, и эту, всего 30 долларов, плюс расходы на бензин, но Ромка между тем уже сам готов платить, и покупать любую дребедень (зарплата "менеджера выше среднего звена" позволяет), и суетиться, и организовывать – лишь бы посидеть у костра с индейцами. Он, как никак, считай, пятнадцать с лишним лет этого не делал. Он хочет повторить всё на новом витке, ему по сути нужен даже не повтор, а новый виток, переход на него – сколь угодно брыкливый, порывистый или сколь угодно замедленный, медитативный. Поэтому он стоит, как пришитый, и гутарит с индейцами, ждёт.
3.
В этом году День знаний пришелся на выходные, школяры сидели дома – кто постарше в соцсетях, да и кто помладше – тоже. Я не видел в этом большой трагедии. Знание – это не сумма знаний. Это не арифметика, плюс география, плюс история, плюс химия с физикой, плюс суп с котом. Это не философия, которая хоть и пытается все знания обобщить, но делает это абстрактно и умозрительно (слишком несовершенен инструментарий философии и собственно научный подход к знанию). Знание бездоказательно в отличие от знаний, которые приобретаются и прививаются из внешнего мира путём навыков и выводов, а само оно врожденное и пробуждается внутри. Оно – иное.
Звезды знают своё место – на бутылке коньяка или в глазах леопарда.
Вот столб.
Вот дерево.
Они расположены в том порядке и отношении, в каком они расположены, и как условные приметы они сообщают нам об этом порядке и этом отношении ровно точно так же, как и всё существующее: рено логан, кастрированный кот или витрина студии маникюра или кулинарной мастерской, жара или холод, аромат или вонь.
Женщины балдеют от "теории знаков". Они чувствуют, как тонко зарифмовано пространство и как события, на первый взгляд никак не связанные, откликаются друг в друге, пересекаясь в других плоскостях, но зачастую слишком наивно они всё толкуют и слишком буквально всё подмечают, их не растят жрицами, и сами они обходят жречество как то, что "не для женщин", как раньше не для них были брюки или "баранка" автомобиля, и в итоге от очень глубокой мысли о знаках, о приметах, о незримых векторах остаются досужие, пустые суеверия, а люди в колготках продолжают им верить.
Я верю в Знание – большое, многоглавое, как змея-прародительница, как цепи гималайских хребтов, как ветви дерева или русла рек, бегущие по стране. Оно присутствует в человеке как что-то пластичное и изменчивое вроде погоды или колебаний температуры – то плюс пять, то плюс шестнадцать, то минус один или минус тридцать. Или все минус пятьдесят. Это непостоянный ток, и уровень Знания в одном и том же человеке колеблется, меняется его градус, валентность, объём, и вот эта энергия, эти скачки, как скачки давления, я наблюдаю в себе и других, потому что Знание объединяет и связывает. "Горе от ума" – пошлое утверждение, оно из гостиных, от шарканий ножкой, от барина, заглядывающегося на хорошенькую горничную в чужом доме.
Знание – сила. В тебе его сегодня много – ты сильный, иногда слишком сильный, чрезмерно, как Святогор – богатырь, под которым проваливается земля, но при этом ты можешь провернуть что-то несбыточное, что-то сломать из великого или что-то великое построить, у тебя руки чешутся, закипает кровь, в глазах безразличный космический блеск, экстаз творения, но вот пик, еще пик, и Знание уходит – сначала от этого даже сладко, томно, но потом свет меркнет, руки опускаются, ленивый взгляд рассеянно и дико блуждает по предметам, не проникая в их сущность. Ты уже не нападающий, и не защитник, и не полузащитник, и даже не вратарь, потому что то и дело пропускаешь голы, но даже не замечаешь этого, не понимаешь, что проигрываешь. В чулке нет ноги. Ты обессилен.
И ждешь того, когда новый прилив возмутит тебя c новой силой.
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон…
– Кажется, я только что пригласил в гости индейцев.
Женщина-С-Бурой-Головой отвечает:
– Кринж.
Словечко из новых. Женщина-С-Бурой-Головой намекает, что я фантазирую слишком оголтело и ни мало не забочусь о правдоподобности. "Уж если, мол, разыгрывать, то можно было бы разыграть посложнее или посмешнее", – полагает Женщина-С-Бурой-Головой. Ей пока невдомёк, что всё на самом деле, и я всерьёз думаю, что скоро скрипнет калитка и наши шесть соток оккупируют команчи, раскрашенные гуроны, восхитительные айнара.
Я колю дрова – будет тебе "кринж".
Женщина-С-Бурой-Головой гораздо младше меня, и для неё естественно так выражаться. Скоро ей придётся испытать удивление, если не оторопь…
А я пока подготовлю мангал, пойду в парк – свалю какую-нибудь сушину, лучше еловую, чтоб поярче горело.
Смотрю, как дрозд безнаказанно дерет с куста черноплодку.
И мне не хочется его шугать, делать ему плохо.
Знание нестабильно. Оно то вдруг резко убывает, проваливается или, напротив, забирает круто вверх, сжижается, уплотняется, испаряется, что угодно, иногда течет ровно, то словно вспыхивает мгновенно перед глазами, то пляшет языками священного пламени, иногда – как женское, иногда – как мужское, иногда как старое, иногда как молодое.
Знание существует вне наших оценок, наших критериев, вообще всего нашего.
Только поэтому оно может работать, оно интригует, зовёт за собой, заставляет, не зная броду, соваться в воду.
Потому что оно не такое, как мы.
И по этой причине оно вечно желанно.
Женщина-С-Бурой-Головой причастна Знанию. Она интересна. Она меня также волнует и влечёт. Она дышит мне в ухо, теребит в пальцах мои соски. У неё сильное тело, которым она распоряжается плавно и спокойно. Её дыхание всё отрывистее, всё тяжелее. Она всё настойчивее, мне хочется услышать её голос, вскрик, толкнуть её к нему, но она любит молча, как будто голос, то есть некий внешний выхлоп, отберёт часть её тугого, продолжительного удовольствия. Я сам слабо попискиваю под ней, она верховодит, у неё большие груди. Их могло быть пять, десять, пятнадцать, она могла быть вся обвешана грудями, как доисторическая Кибела, звезда матриархата. Она – Женщина-С-Бурой-Головой.
Совсем нет времени идти за сушиной!
Ромка скинул эсэмэс, что они с индейцами в двадцати минутах езды от нас, у крытого рынка.
Я заправляю рубашку в брюки. Выхожу на свежий воздух, немного насвистываю. Я отдал часть знания. Биология заветна, но её наши умники опять же распяливают, дерут на клочки, на какие-то органы…
Новый Век скажет по этому поводу своё слово.
Пока же он лепечет в младенческой резвости: "лол", "кринж", "хэйтить", "абъюз".
Он хватает, что можно и что нельзя.
У него нет ещё чётких очертаний, ощупью движемся мы навстречу ему.
А тем временем корчится и умирает в судорогах старый мир.
4.
Моя оппозиция – на коврике для йоги, – Женщина-С-Чёрной-Головой отличается от Женщины-С-Бурой-Головой, как старшая сестра отличается от младшей. Она входит в повествование в четвертой главе, и на ней голубой вязаный свитер, из-за которого она, не проигрывая в стройности, кажется внушительнее, размашистее, чем есть, черные джинсы, смелая походка. За графичностью движений, за тем, как она иногда молчит, я чувствую, что она защищает или сдерживает своё натуральное желание двигаться и говорить, причём не из-за страха проявить неловкость, неделикатность или вызвать скандал, а из умения понимать, когда вовремя и когда невовремя; это опыт, интуиция.
Она красива не модельной внешностью и не внешностью актрисы. Иногда она мне вовсе кажется похожей на микки-мауса – не из-за ушей (как раз с ушами всё в порядке), а из-за мимики, из-за резковатых ужимок, которые выходят из-под контроля, когда Женщина-С-Чёрной-Головой заразительно смеётся, и в эти же мгновения я чувствую в ней нерв, подавляемую охоту взорваться, кончить, дурить, танцевать, но жизнь не часто даёт повод для праздника, и поэтому Женщина-С-Чёрной-Головой не несчастна, она ждёт, она жива и красива этой своей сложностью, неоднозначностью, возможно, скрытой агрессией, которую не выполоскать в домашних заботах и не растратить в крийях и асанах, которые ей в студии предлагает тренер.
Я заболтался, а ведь Ромка и индейцы уже не за горами, не за Аппалачами, не за Кордильерами.
Автомобиль, переехав железнодорожный мост, круто сворачивает на ведущую к садам дорогу с одной полосой, которую вечно разбивают и ремонтируют, разбивают и ремонтируют. Сгоревший дом с надписью "Продаётся", и индейцы, как дети, восхищенно тычут в него буйными пальцами, им словно смешинка попала в нос, двоим музыкантам, а толстяк-зазывала ползёт на первой передаче, поглядывая на Ромку, не спрашивая, но как бы подразумевая "далеко ли ещё?". "Да вот с горки только скатиться, – отвечает Ромка сначала мысленно, а потом вслух, – и там поворот. Хотели сделать теннисный корт, песка навезли, заровняли, подняли грунт метра на полтора, – толстяк уважительно кивает рассказу Ромы, – вон, видишь, трибуны из кирпича построили: для жюри, для спортсменов, – а теперь тут всё ничьё, подростки лазают".
И словно в подтверждение объяснениям Ромы из пустого окна высовывается мальчишеская, злая рожа.
Индейцы сняли свои короны из перьев, напялили куртки поверх пестрых жилеток, ансамбль на сегодня завершил выступление и едет знакомиться с русской глубинкой, кочует на отдых.
Женщина-С-Чёрной-Головой протягивает над огнём узкие ладони, она немного закатала рукава свитера.
Ромка, естественно, её не предупредил.
Он позвонил, чтоб она подходила к нам, мол, сегодня будем всем гуртом отмечать День знаний, время встречи – 19:00, и вот две женщины – с бурой головой и с черной головой – стоят, общаются, делятся чем-то, что не вызывает у меня ни капли интереса к своему содержанию, но звучит мелодично, звучит содержательно, звучит экономно и по-своему рассудительно, а не как игрушечный, уменьшительно-ласкательный щебет, принятый между девицами в иных компаниях. Им интересно друг с другом, они не стали бы тратить время попросту, даже на трёп, – вот в чем их рассудительность. Отдых – тоже труд. А тут еще выяснилось, что Женщина-С-Бурой-Головой знает, где черноголовой купить качественные, дешевые шторы:
– Там отличный выбор штор, и обои я глянула – рядом спецмагазин. Зашла на минутку – просто так, заценить, а там то, что надо. Кухню оклеим.
– Ничего, что я слышу? – я машу фанеркой над костром, поднимаю пламя, чтобы поленья взялись поглубже и разгорелись быстрее, чтобы в золу и пепел обратились не только все товары из спецмагазина вкупе с директором и вывеской, но и сама идея оклеиванья – не бывать этому, через мой труп!
– Что у нас в меню? – спрашивает Женщина-С-Черной-Головой. У неё, действительно, Чёрная Голова, и мне хочется ей ответить, меня подмывает. Ведь я же знаю секрет.
"Какой секрет?" – "Я только что пригласил на ужин эквадорских индейцев. Мы будем сидеть у костра с индейцами".
5.
Женщина-С-Бурой-Головой говорит:
– Здравствуйте.
И смотрит на меня – что это такое значит? Ну ты же видишь сама, поверь глазам своим, – отвечаю я ей торжествующей улыбкой.
Черноголовая молчит, чего-то прикидывает – никогда ведь не было подобных гостей. Как говорить с ними? Да как с людьми, не иначе.
А разве мы умеем по-другому?
О, как мы умеем по-другому!
Индейцы привыкли, что с ними в пути вечно что-то случается, и ведут себя естественно в условиях новизны. Я немного прячусь за показное, приветливое гостеприимство (хотя я действительно рад всех видеть), Ромка гоношится, суёт руки в карманы, некоторым образом вскользь косится на жену, чтоб просечь её реакцию, но сомнения его в уместности затеянной им вечеринки абсолютно напрасны.
Тайна Женщины-С-Чёрной-Головой заключается в том, что она естественна не менее, чем индейцы, и её доверие и недоверие к происходящему исходит от голоса внутри неё, она слышит песенки кикимор, домовых, веселых лесных фей и опасных духов. Когда-то она опиралась на галлюциногенные поганки и алкоголь, теперь ей не требуются подобные костыли.
– А почему вы без лука? – она спрашивает у Джима – толстяка-командора. Он выпячивает губы, словно хочет присосаться ими к её губам, он словно рисует ими ответ, но это скорее жест признания, уважения – как будто кот узнаёт кота, отличая его от других животных.
– Почему вы не в резервации?
– Сбежали? – трунит Ромка. – Ни стрел, ни копий…
– А где ваши валенки? Балалайка? Сарай? – шумит толстяк.
– Вон сарай…
Музыканты зубоскалят – эти держатся парочкой, словно им так сподручнее воспринимать окружающий мир, не расставаясь.
– Джим Чайковский, – главарь поворачивается перед нами на каблуках. Незаметно, на чём он сосредоточен, но есть ощущение, что он с нами и не с нами. Пожалуй, он и точно на одной волне с Женщиной-С-Черной-Головой.
Мы удивляемся его русской фамилии.
– Мой прадедушка был ваш великий композитор! Очень известный, – уточняет Джим.
– Да ладно, – бросает реплику Женщина-С-Бурой-Головой.
– Кристальная правда!
–Но у Чайковского не было детей, – Ромка пытается бороться с неправдой, ошибкой или путаницей.
– А я тогда как родился? – индеец в недоумении машет рукой. – Его музыку слушают во всем мире! Да. Это… не то, что мы играем на streets.
Нам немножко неловко за его враньё, а Джим насупился на нашу неловкость.
– Хопа – огненная вода! – я ставлю бутылку. – А по-нашему "пузырь". Колун. Наличник, – показываю индейцам тяжелый инструмент и резные завитушки, наглядно демонстрируя, что не всё ушло из быта, не везде колорит сменили пластиковые окна, и Джим опять вытягивает губы-гусеницы и целует наличник слюняво, мощно, как будто раку с наследственным пеплом своего знаменитого прадедушки Чайковского.
Двое других абсолютно в его тени и, возможно, в его руках.
Мне начинает казаться, что музыканты Джима тихо ненавидят и ждут первого удобного случая, чтобы тот поскользнулся.
И еще я смущен, как внезапно и жирно, с каким чувством Джим приложился к наличнику. Губы его облепили дерево, словно рассчитывали впитать древесину, осквернить традицию.
Он видит бочку и подходит к бочке. Она пустая, и Джим зачем-то трогает её, оборачиваясь ко мне, – почему бы не переставить?
Зачем?
О господи!
Когда он смотрит на меня, мне кажется, он засовывает в меня руку по локоть и нащупывает там мои кишки, прочищает их своей яшмовой пятерней с блестящим перстнем с фальшивым – или драгоценным(?) – камнем. Новизна есть новизна. Индеец ищет ей место. В нём сейсмические толчки, и Женщина-С-Чёрной-Головой его одобряет, хотя он ей неприятен, – в ней самой есть подобная духовная хтоника, активность магмы, которая движется сумбуром, накатом, и если б её жизнь текла сейчас так же авантюрно, как у Джима, она бы вела себя, возможно, еще хлеще, и она бы тоже была дочерью Чайковского!
Но Ромина жена родилась не в Эквадоре, не эмигрировала из него по неясным причинам на другой край земли, и поэтому она не дочь Чайковского, пока еще не дочь. Она дремлющий вулкан. В ней много культуры, того, что вознесло нашу цивилизацию на гребень волны. Она не может себе позволить так шуметь или так косолапить – быть такой пофигисткой можно только в вигваме со скорпионами и томагавками, а Женщина-С-Черной-Головой привыкла, что у неё есть хорошая жизнь, и за городом дача, и двушка в городе, по которой вместо неё снуёт робот-пылесос – чудо техники, есть посудомоечная машина, есть столько платьев и трусов, что впору не носить ни трусов, ни платьев. Внутри она бомба.
И Женщина-С-Бурой-Головой, моя женщина, признаёт за ней не столько право старшинства, сколько право силы её сейсмических толчков, право образца.
Сам же Ромка её за "образец", мягко говоря, не считает.
6.
Двое.
Будем говорить сразу о них двух – яшмово-бурых людях с флейтами или дудками (сейчас без дудок и флейт, сейчас с шампурами с истекающей соком свининой), с ушибленным гонором, в вышитых, обносившихся, пестрых жилетах и с глазами бродяг – тоскливыми и циничными.
– Койот Антонио, – представил Джим высокую, сгорбленную, худую фигуру истукана со сросшимися над носом прямыми бровями, вечного героя второго плана.
– А это Малыш Железная Рука!
Малыш не кивнул, не соизволил.
– А знаете, почему он Железная Рука? Вы думаете – он спортсмен, чемпион по армреслингу? Или он великий скрипач и может неделю не выпускать из пальцев смычка? Он с двенадцати лет блудит с пожилыми женщинами, которые суют ему деньги, он жил на это, ничего мужского у него еще не работало, и он удовлетворял их своей железной рукой! И вовсе он не чемпион по армреслингу, да, обхохочешься, – Джим предлагает потешиться вместе с ним, не быть ханжами. – Малыш, расслабься – здесь приличные дамы, они от тебя не потребуют твоих услуг, ведь ты теперь студент. Студент, да?
Не дожидаясь ответа, толстяк выталкивает вперёд Антонио:
– А он, знаете, почему Койот? Думаете, он похож на койота? Немного есть, но вообще он койот, потому что переводил людей нелегально через границу, по горным тропам. Они ползли. Таких у нас называют "койотами". Полицейские по ним стреляли – тах-тах! У него есть раны, – Джим тянул зубами румяное, недожаренное мясо, жевал и говорил, кусал и говорил, как будто никак не мог ни выговориться, ни наполнить свой рот. Мясо трещало в его зубах.
– А почему он говорит, что ты студент? – спросила Женщиной-С-Черной-Головой у Малыша.
Тот капризно посмотрел на своего взбалмошного антрепренера, сунул руку в карман и достал небольшую красную книжечку – студенческий билет. Там была его фотка, печать НГУ…
– Новосибирский… Издалека!
– Эквадор дальше, – сказал Малыш.
Потом подумал и добавил:
– Колесим. У нас всё лето гастроли, – он вдруг заговорил обаятельно и чистосердечно, словно скинул с себя чужой оговор или собственный морок. Ему внимали, женщины улыбнулись его молодости и откровенности. Джим шевелил своими толстыми губами, пока слушал.
– И он неправду сказал вам про женщин, – закончил Малыш.
– А в чем неправда? – разве женщины – хоть с бурой головой, хоть с черной, – позволят ему недоговорить после такого опровержения?
– На реке был паром, я его караулил. Женщинам надо было на тот берег. Всем женщинам надо было на другой берег.
– В прекрасное далеко, – вставил Ромка, знаток своей единственной жены.
– Некоторые были готовы кататься по несколько раз в день! – паренёк ухмыльнулся. – Некоторые приходили постоянно, а кого-то я видел только однажды. Всем женщинам нужна любовь, – он невинно пожал плечами.
– А какие они были?
– Они были… разные женщины. Замужние и девчонки. Я всем нравился, даже когда еще не был мужчиной. У меня был кассовый аппарат! Одному человеку не понравилось, что случилось с его женой. И мне пришлось уйти с переправы в большой город. Большой город – большая жизнь.
– Сутенер его бил, – сказал Джим Чайковский.
– А вы почему молчите? – спросила Женщина-С-Бурой-Головой у бровастого Антонио.
– Я не русский, – индеец был лаконичен.
– У него уши мерзнут, надень шапку! – прикрикнул Джим на своего подопечного.
– Не хочу шапка, – отверг Антонио.
Из всей троицы он более других походил на классический, киношный типаж индейского парубка – нос крючком, как у ястреба, вид непреклонно-несгибаемой суровости, скупые, четкие, красноречивые жесты, безэмоциональность, пирсинг в щеке.
– Упрямый, – пояснил Джим. – Он айнара. А я и Малыш – кечуя. Айнара все упрямые. Когда боги звали людей делиться миром, айнара пришли первыми, еще до рассвета, боги еще не успели проснуться и сказали – подождите, потом будет мир, приходите попозже, когда придут остальные племена. И когда пришли остальные племена, айнара уже не пришли.
Да, не отопрёшься – индеец купил нас базарными, родовыми баснями, как когда-то первые колонисты, первые ласточки завоевания купили его предков за стеклянные бусы. Он нашел свою публику, которая благоволила, хотя и понимала, что происходит что-то не то – как будто на Новый Год все ждали переодетого соседа с бородой из мочалки, а в дверь позвонил настоящий Дед Мороз с плечами, засыпанными полярным снегом вместо перхоти. Такой приблизительно возникал эффект. Мы диву давались происходящему на даче, и Женщина-С-Бурой-Головой предусмотрительно шепнула мне украдкой:
– Не наливай им много.
Но я уже показал коньяк.
– Дай, Джим, на счастье лапу мне, – декламировал успевший закосеть Ромка.
Моя оппозиция – на коврике для йоги, – Женщина-С-Чёрной-Головой отличается от Женщины-С-Бурой-Головой, как старшая сестра отличается от младшей. Она входит в повествование в четвертой главе, и на ней голубой вязаный свитер, из-за которого она, не проигрывая в стройности, кажется внушительнее, размашистее, чем есть, черные джинсы, смелая походка. За графичностью движений, за тем, как она иногда молчит, я чувствую, что она защищает или сдерживает своё натуральное желание двигаться и говорить, причём не из-за страха проявить неловкость, неделикатность или вызвать скандал, а из умения понимать, когда вовремя и когда невовремя; это опыт, интуиция.
Она красива не модельной внешностью и не внешностью актрисы. Иногда она мне вовсе кажется похожей на микки-мауса – не из-за ушей (как раз с ушами всё в порядке), а из-за мимики, из-за резковатых ужимок, которые выходят из-под контроля, когда Женщина-С-Чёрной-Головой заразительно смеётся, и в эти же мгновения я чувствую в ней нерв, подавляемую охоту взорваться, кончить, дурить, танцевать, но жизнь не часто даёт повод для праздника, и поэтому Женщина-С-Чёрной-Головой не несчастна, она ждёт, она жива и красива этой своей сложностью, неоднозначностью, возможно, скрытой агрессией, которую не выполоскать в домашних заботах и не растратить в крийях и асанах, которые ей в студии предлагает тренер.
Я заболтался, а ведь Ромка и индейцы уже не за горами, не за Аппалачами, не за Кордильерами.
Автомобиль, переехав железнодорожный мост, круто сворачивает на ведущую к садам дорогу с одной полосой, которую вечно разбивают и ремонтируют, разбивают и ремонтируют. Сгоревший дом с надписью "Продаётся", и индейцы, как дети, восхищенно тычут в него буйными пальцами, им словно смешинка попала в нос, двоим музыкантам, а толстяк-зазывала ползёт на первой передаче, поглядывая на Ромку, не спрашивая, но как бы подразумевая "далеко ли ещё?". "Да вот с горки только скатиться, – отвечает Ромка сначала мысленно, а потом вслух, – и там поворот. Хотели сделать теннисный корт, песка навезли, заровняли, подняли грунт метра на полтора, – толстяк уважительно кивает рассказу Ромы, – вон, видишь, трибуны из кирпича построили: для жюри, для спортсменов, – а теперь тут всё ничьё, подростки лазают".
И словно в подтверждение объяснениям Ромы из пустого окна высовывается мальчишеская, злая рожа.
Индейцы сняли свои короны из перьев, напялили куртки поверх пестрых жилеток, ансамбль на сегодня завершил выступление и едет знакомиться с русской глубинкой, кочует на отдых.
Женщина-С-Чёрной-Головой протягивает над огнём узкие ладони, она немного закатала рукава свитера.
Ромка, естественно, её не предупредил.
Он позвонил, чтоб она подходила к нам, мол, сегодня будем всем гуртом отмечать День знаний, время встречи – 19:00, и вот две женщины – с бурой головой и с черной головой – стоят, общаются, делятся чем-то, что не вызывает у меня ни капли интереса к своему содержанию, но звучит мелодично, звучит содержательно, звучит экономно и по-своему рассудительно, а не как игрушечный, уменьшительно-ласкательный щебет, принятый между девицами в иных компаниях. Им интересно друг с другом, они не стали бы тратить время попросту, даже на трёп, – вот в чем их рассудительность. Отдых – тоже труд. А тут еще выяснилось, что Женщина-С-Бурой-Головой знает, где черноголовой купить качественные, дешевые шторы:
– Там отличный выбор штор, и обои я глянула – рядом спецмагазин. Зашла на минутку – просто так, заценить, а там то, что надо. Кухню оклеим.
– Ничего, что я слышу? – я машу фанеркой над костром, поднимаю пламя, чтобы поленья взялись поглубже и разгорелись быстрее, чтобы в золу и пепел обратились не только все товары из спецмагазина вкупе с директором и вывеской, но и сама идея оклеиванья – не бывать этому, через мой труп!
– Что у нас в меню? – спрашивает Женщина-С-Черной-Головой. У неё, действительно, Чёрная Голова, и мне хочется ей ответить, меня подмывает. Ведь я же знаю секрет.
"Какой секрет?" – "Я только что пригласил на ужин эквадорских индейцев. Мы будем сидеть у костра с индейцами".
5.
Женщина-С-Бурой-Головой говорит:
– Здравствуйте.
И смотрит на меня – что это такое значит? Ну ты же видишь сама, поверь глазам своим, – отвечаю я ей торжествующей улыбкой.
Черноголовая молчит, чего-то прикидывает – никогда ведь не было подобных гостей. Как говорить с ними? Да как с людьми, не иначе.
А разве мы умеем по-другому?
О, как мы умеем по-другому!
Индейцы привыкли, что с ними в пути вечно что-то случается, и ведут себя естественно в условиях новизны. Я немного прячусь за показное, приветливое гостеприимство (хотя я действительно рад всех видеть), Ромка гоношится, суёт руки в карманы, некоторым образом вскользь косится на жену, чтоб просечь её реакцию, но сомнения его в уместности затеянной им вечеринки абсолютно напрасны.
Тайна Женщины-С-Чёрной-Головой заключается в том, что она естественна не менее, чем индейцы, и её доверие и недоверие к происходящему исходит от голоса внутри неё, она слышит песенки кикимор, домовых, веселых лесных фей и опасных духов. Когда-то она опиралась на галлюциногенные поганки и алкоголь, теперь ей не требуются подобные костыли.
– А почему вы без лука? – она спрашивает у Джима – толстяка-командора. Он выпячивает губы, словно хочет присосаться ими к её губам, он словно рисует ими ответ, но это скорее жест признания, уважения – как будто кот узнаёт кота, отличая его от других животных.
– Почему вы не в резервации?
– Сбежали? – трунит Ромка. – Ни стрел, ни копий…
– А где ваши валенки? Балалайка? Сарай? – шумит толстяк.
– Вон сарай…
Музыканты зубоскалят – эти держатся парочкой, словно им так сподручнее воспринимать окружающий мир, не расставаясь.
– Джим Чайковский, – главарь поворачивается перед нами на каблуках. Незаметно, на чём он сосредоточен, но есть ощущение, что он с нами и не с нами. Пожалуй, он и точно на одной волне с Женщиной-С-Черной-Головой.
Мы удивляемся его русской фамилии.
– Мой прадедушка был ваш великий композитор! Очень известный, – уточняет Джим.
– Да ладно, – бросает реплику Женщина-С-Бурой-Головой.
– Кристальная правда!
–Но у Чайковского не было детей, – Ромка пытается бороться с неправдой, ошибкой или путаницей.
– А я тогда как родился? – индеец в недоумении машет рукой. – Его музыку слушают во всем мире! Да. Это… не то, что мы играем на streets.
Нам немножко неловко за его враньё, а Джим насупился на нашу неловкость.
– Хопа – огненная вода! – я ставлю бутылку. – А по-нашему "пузырь". Колун. Наличник, – показываю индейцам тяжелый инструмент и резные завитушки, наглядно демонстрируя, что не всё ушло из быта, не везде колорит сменили пластиковые окна, и Джим опять вытягивает губы-гусеницы и целует наличник слюняво, мощно, как будто раку с наследственным пеплом своего знаменитого прадедушки Чайковского.
Двое других абсолютно в его тени и, возможно, в его руках.
Мне начинает казаться, что музыканты Джима тихо ненавидят и ждут первого удобного случая, чтобы тот поскользнулся.
И еще я смущен, как внезапно и жирно, с каким чувством Джим приложился к наличнику. Губы его облепили дерево, словно рассчитывали впитать древесину, осквернить традицию.
Он видит бочку и подходит к бочке. Она пустая, и Джим зачем-то трогает её, оборачиваясь ко мне, – почему бы не переставить?
Зачем?
О господи!
Когда он смотрит на меня, мне кажется, он засовывает в меня руку по локоть и нащупывает там мои кишки, прочищает их своей яшмовой пятерней с блестящим перстнем с фальшивым – или драгоценным(?) – камнем. Новизна есть новизна. Индеец ищет ей место. В нём сейсмические толчки, и Женщина-С-Чёрной-Головой его одобряет, хотя он ей неприятен, – в ней самой есть подобная духовная хтоника, активность магмы, которая движется сумбуром, накатом, и если б её жизнь текла сейчас так же авантюрно, как у Джима, она бы вела себя, возможно, еще хлеще, и она бы тоже была дочерью Чайковского!
Но Ромина жена родилась не в Эквадоре, не эмигрировала из него по неясным причинам на другой край земли, и поэтому она не дочь Чайковского, пока еще не дочь. Она дремлющий вулкан. В ней много культуры, того, что вознесло нашу цивилизацию на гребень волны. Она не может себе позволить так шуметь или так косолапить – быть такой пофигисткой можно только в вигваме со скорпионами и томагавками, а Женщина-С-Черной-Головой привыкла, что у неё есть хорошая жизнь, и за городом дача, и двушка в городе, по которой вместо неё снуёт робот-пылесос – чудо техники, есть посудомоечная машина, есть столько платьев и трусов, что впору не носить ни трусов, ни платьев. Внутри она бомба.
И Женщина-С-Бурой-Головой, моя женщина, признаёт за ней не столько право старшинства, сколько право силы её сейсмических толчков, право образца.
Сам же Ромка её за "образец", мягко говоря, не считает.
6.
Двое.
Будем говорить сразу о них двух – яшмово-бурых людях с флейтами или дудками (сейчас без дудок и флейт, сейчас с шампурами с истекающей соком свининой), с ушибленным гонором, в вышитых, обносившихся, пестрых жилетах и с глазами бродяг – тоскливыми и циничными.
– Койот Антонио, – представил Джим высокую, сгорбленную, худую фигуру истукана со сросшимися над носом прямыми бровями, вечного героя второго плана.
– А это Малыш Железная Рука!
Малыш не кивнул, не соизволил.
– А знаете, почему он Железная Рука? Вы думаете – он спортсмен, чемпион по армреслингу? Или он великий скрипач и может неделю не выпускать из пальцев смычка? Он с двенадцати лет блудит с пожилыми женщинами, которые суют ему деньги, он жил на это, ничего мужского у него еще не работало, и он удовлетворял их своей железной рукой! И вовсе он не чемпион по армреслингу, да, обхохочешься, – Джим предлагает потешиться вместе с ним, не быть ханжами. – Малыш, расслабься – здесь приличные дамы, они от тебя не потребуют твоих услуг, ведь ты теперь студент. Студент, да?
Не дожидаясь ответа, толстяк выталкивает вперёд Антонио:
– А он, знаете, почему Койот? Думаете, он похож на койота? Немного есть, но вообще он койот, потому что переводил людей нелегально через границу, по горным тропам. Они ползли. Таких у нас называют "койотами". Полицейские по ним стреляли – тах-тах! У него есть раны, – Джим тянул зубами румяное, недожаренное мясо, жевал и говорил, кусал и говорил, как будто никак не мог ни выговориться, ни наполнить свой рот. Мясо трещало в его зубах.
– А почему он говорит, что ты студент? – спросила Женщиной-С-Черной-Головой у Малыша.
Тот капризно посмотрел на своего взбалмошного антрепренера, сунул руку в карман и достал небольшую красную книжечку – студенческий билет. Там была его фотка, печать НГУ…
– Новосибирский… Издалека!
– Эквадор дальше, – сказал Малыш.
Потом подумал и добавил:
– Колесим. У нас всё лето гастроли, – он вдруг заговорил обаятельно и чистосердечно, словно скинул с себя чужой оговор или собственный морок. Ему внимали, женщины улыбнулись его молодости и откровенности. Джим шевелил своими толстыми губами, пока слушал.
– И он неправду сказал вам про женщин, – закончил Малыш.
– А в чем неправда? – разве женщины – хоть с бурой головой, хоть с черной, – позволят ему недоговорить после такого опровержения?
– На реке был паром, я его караулил. Женщинам надо было на тот берег. Всем женщинам надо было на другой берег.
– В прекрасное далеко, – вставил Ромка, знаток своей единственной жены.
– Некоторые были готовы кататься по несколько раз в день! – паренёк ухмыльнулся. – Некоторые приходили постоянно, а кого-то я видел только однажды. Всем женщинам нужна любовь, – он невинно пожал плечами.
– А какие они были?
– Они были… разные женщины. Замужние и девчонки. Я всем нравился, даже когда еще не был мужчиной. У меня был кассовый аппарат! Одному человеку не понравилось, что случилось с его женой. И мне пришлось уйти с переправы в большой город. Большой город – большая жизнь.
– Сутенер его бил, – сказал Джим Чайковский.
– А вы почему молчите? – спросила Женщина-С-Бурой-Головой у бровастого Антонио.
– Я не русский, – индеец был лаконичен.
– У него уши мерзнут, надень шапку! – прикрикнул Джим на своего подопечного.
– Не хочу шапка, – отверг Антонио.
Из всей троицы он более других походил на классический, киношный типаж индейского парубка – нос крючком, как у ястреба, вид непреклонно-несгибаемой суровости, скупые, четкие, красноречивые жесты, безэмоциональность, пирсинг в щеке.
– Упрямый, – пояснил Джим. – Он айнара. А я и Малыш – кечуя. Айнара все упрямые. Когда боги звали людей делиться миром, айнара пришли первыми, еще до рассвета, боги еще не успели проснуться и сказали – подождите, потом будет мир, приходите попозже, когда придут остальные племена. И когда пришли остальные племена, айнара уже не пришли.
Да, не отопрёшься – индеец купил нас базарными, родовыми баснями, как когда-то первые колонисты, первые ласточки завоевания купили его предков за стеклянные бусы. Он нашел свою публику, которая благоволила, хотя и понимала, что происходит что-то не то – как будто на Новый Год все ждали переодетого соседа с бородой из мочалки, а в дверь позвонил настоящий Дед Мороз с плечами, засыпанными полярным снегом вместо перхоти. Такой приблизительно возникал эффект. Мы диву давались происходящему на даче, и Женщина-С-Бурой-Головой предусмотрительно шепнула мне украдкой:
– Не наливай им много.
Но я уже показал коньяк.
– Дай, Джим, на счастье лапу мне, – декламировал успевший закосеть Ромка.
7.
Кисти рябины из рыжих стали красными, смородина поедена или осыпалась, а терновник туг – такое время года, для терновника рановато.
Я предупредил об этом Малыша, но он всё равно сорвал, сунул в рот, разжевал и проглотил синюю ягоду, чтобы узнать, что она никуда не годится.
– А как вы учитесь? – опять спросила Женщина-С-Черной-Головой с тактичной теплотой в голосе.
– Я первый ученик, – не сморгнув, ответил Малыш.
– Best of the best, – отозвался Джим, и в его лживых устах балаганщика это опять была кристальная правда.
Мне кажется, мораль имеет весьма посредственное отношение к чистоте, к искренности. Ведь если человек её соблюдает и ему плохо, это значит, он не чист, его мораль не от души и сердца, он предал что-то, а мог бы, между прочим, предать мораль, и боги бы очистили его тогда, ибо он сознавал бы свою заблудшесть, а моралист никогда не очистится, он так и будет дышать над язвой. Я так рассуждал, и мне говорили – ты опасный человек.
Не знаю – были ли реально опасны те люди с яшмовыми лицами, которых мы приютили на один короткий сентябрьский вечерок, не знаю, что они совершили после, и доучился ли бедолага Малыш в своём НГУ.
Мы уже пели песни – русские, наши, и Джим, оказывается, помнил наизусть "Катюшу", Малыш отстукивал ритм своей железной ладонью, показывая, что мог бы быть отменным барабанщиком. Антонио не вытерпел и напялил на затылок какой-то особенный, шерстяной колпак с рассыпчатыми, цветными кисточками, который смотрелся на нём достаточно мерзко.
– Я не могу, говорю – купи нормальную шапку. Клоповка какая-то! – глумился Джим. – Или хоть постирай. Очень упрямый, очень скупой. Когда боги призвали людей быть щедрыми и великодушными, айнара пришли на собрание первыми, еще по росе пришли они к богам, а те им сказали – потерпите немного, приходите вместе с остальными племенами и мы научим вас быть щедрыми и великодушными, научим вас уважать себя. И когда остальные племена собрались, айнара не пришли. Хуже, чем эти ребята из джунглей, только ребята с гор!
Я уже и сам сознавал, что надо понемногу притормаживать с тостами. Джим, вздыхая, косился на пустующие стопки. Тряпок на нем было не сосчитать – натуральная капуста, спрыснутая одеколоном поверх пота и благовоний: как минимум две жилетки, из-под которых высовывался воротник лиловой рубашки, какая-то пестро-расшитая перевязь поверх жилеток, черно-белый, зебристо-полосатый шарф, узорно набранный, широкий, кожаный пояс с серебряными цацками, а куртку Джим снял и повесил на спинку стула, чтоб всегда была под рукой; в куртке ему было жарко. За гастрольный чёс в нём до того всё взаимно пропиталось и перемешалось (от пяток до подмышек, своя и чужая кожа), что стало одним естественным запахом, похожим на запах камышовых болотин.
– Мы не любим мыться. У нашего народа мало воды. У вашего народа много воды, – Джим изрекал банальные вещи с самым внушительным и грозным видом. – Я знаю секреты своего народа, индейские хитрости. Но почему нет воды? – Джим наградил свою стопку щелбаном, намекнув в открытую. Я заметил, как Ромка порывается сказать, что у него есть ещё, что он принесёт, – так и пусть идут к Ромке! Наши женщины подустали и начинали зябнуть. Они были бы не против, если б вечер закруглился. Одна из них зевнула, после чего зевок повторила другая, но разве десант с континента коки и каучука не способен справиться с подобной заминкой? Будьте покойны – Джим Толстое Брюхо что-нибудь придумает, найдет способ заинтриговать, не смирится.
Я жарил курицу на решетке над углями. Мы окружили дотлевающий костёрок, и дрозд, свернув шею немного набок, с подозрением смотрел на диковинный шерстяной колпак на голове Антонио. Возможно, он напоминал ему родное гнездо.
– Нельзя всё знать в джунглях. Джунгли – это женщина с темными волосами, хотя там всё бурое и зеленое. Джунгли едят людей. Человек, который уснул в лесу, может проснуться ящерицей или лягушкой, – говорит Джим.
– А я бы кем проснулась? – спросила Женщина-С-Бурой-Головой.
Индеец смерил её взглядом:
– Ты cougar.
Встретив непонимание в наших глазах, он изобразил из пальцев обеих рук скрюченные когти:
– Mountain cat.
– А, пума! – догадался я, но теперь настал черед непонимания со стороны нашего гостя – мол, какая такая "пума"?
Я нашел в яндексе фотографию пумы.
– Да, – согласился Джим, а Женщине-С-Бурой-Головой это польстило (сравнение с пумой), потому что в принципе она была девушкой домашней – не хищной, не злой, иногда только востренькой в своей домовитости: начинала мельтешить, уговаривала сделать какой-нибудь необязательный, на мой взгляд, ремонт или перестановку, унитаз ей наш не нравился. Короче, дёргала, как положено жене или имеющей виды гражданской подруге.
– Учись у женщины, – вещал индеец. – Любая женщина – по природе шаманка, и любой шаман – по природе женщина. Неважно при этом, что у него между ног. В нашей стране у колдунов это так. Они обладают полнотой знания. У меня вот столько, – он показывает кусок мяса на испачканной тарелке. – У меня кусок знания, у тебя твой кусок, – показывает Джим на чужую тарелку с остатками закуски. – И только в шамане знание замыкается. Оно неразрезано. Оно красивое и круглое, как апельсин, – импровизирует индеец.
– А я какой зверь? – внезапно спросила из угла Женщина-С-Черной-Головой.
– Ты сама знаешь, – прозвучал ответ.
– Нет, не знаю.
– А мы сейчас проверим. Малыш, скажи, какая это женщина, – Джим распорядился, и студент НГУ взял за плечи Женщину-С-Черной-Головой. Она было хотела, поймав взгляд Ромки, отвести его темные, красноватые пальцы-присоски, но в последний момент почему-то оставила и только посмотрела свысока на студента.
– Она… тоже cougar, – объявил Малыш, наивно подыгрывая театральному представлению, затеянному их толстяком-командором, но не имея достаточно смелости и фантазии, чтобы назвать другое животное. Трогать чужую женщину студент не боялся, а на счёт зверя, каким её окрестить, выбирать самостоятельно он не рискнул.
Может, именно в тот момент, когда Малыш-эквадорец положил свои чуткие пальцы на плечо Женщины-С-Черной-Головой и когда она осталась стоять под ними, не предохранилась, не взбрыкнула, невзирая на весь абсурдный, скоморошачий крен ситуации, я мог бы уловить и даже помню, что уловил, но почему-то не среагировал на тот странный факт, что от людей иной расы и вся обстановка на исконной земле Бориса и Глеба, безвинно зарезанных русских князей, становится иной. Рассказы индейца звучали, словно инициирующие мантры. Уж слишком необычных, коварных не по коварству, а по своей неожиданности и новизне богов привело к нам на дачу трое жалких оборванцев – недоделанных, бесталанных паганини и бесприютных джимов-моррисонов, доедающих курицу и бросающих кости в железный тазик. Мы им поддались и очутились не в своей тарелке, хотя нас окружали знакомые предметы, растения и постройки, боровки с картошкой, хвосты моркови, задранные из грядок.
Уже на столе разливали второй коньяк. Джим добился своего и вовсю командорствовал.
– Ты в этой шапке как дурак выглядишь, – сказал он Антонио без тени упрека.
– Я не русский, – согласился тот, а Женщина-С-Бурой-Головой шепнула мне на ухо:
– Хоть в мем такого.
– Правильно! – закричал Джим. – Какой же ты русский? Ты айнара, cholo1. Не хочешь учиться языку моего великого предка Чайковского. Он жил музыкой, он вечером играл концерт, а после концерта он искал женщину. Он был как полоумный, бегал по улицам, как шальной, пока не находил женщину, и после этого мне еще говорят, что у великого Чайковского не было детей! Он сам не знал, сколько у него детей. Женщины валились к нему в ноги, уф, как бухались, – он оглянулся на Малыша. – Тебе далеко до его успехов!
Неизвестно, какую еще околесицу нам пришлось бы выслушать под закатным небом, но тут пожаловали "матные соседи", и, завидев их (они дуэтом вывернулись из-за теплицы), Женщина-С-Бурой-Головой недовольно поморщилась:
– Этих только не хватало.
Запахло жареным.
8.
О чем это я?
Все так называемые "измененные состояния сознания" имеют смысл не сами по себе, а в связи с тем, что после них естественное состояние становится другим, более выпуклым, сильным, как будто проросшим, – оно изменяется, происходит плодотворный, авангардный сдвиг, но в том-то и фокус, что в этих вызванных к жизни "мульках" можно зависнуть и уже не выбраться. Реальностей много, а человек один, и в нём они сходятся, как в точке пересечения, кристаллической грануле, нерегулярной структуре. Поэтому так сложно найти мне способ более адекватного рассказа о них, о всех существующих плоскостях и лучах, развернутых ли веером или строго-текущим, как однонаправленный поток воды, добиться того, чтобы мой рассказ звучал не как пересказ события – реального или выдуманного, не отчёт, не график, не диаграмма лучей, а как сами лучи, как нечто отдельное, не касающееся по сути ни меня, ни Ромки, ни шайки разболтанных эквадорских музыкантов, ни Женщины-с-Бурой-Головой, ни Женщины-С-Черной-Головой, ни выданного им авансом тотема cougar, ни "матных соседей". Сложно, чтобы ум не зашел за разум после того, как ты этому научился. Реальности соприкасаются и делают с тобой, что хотят, но и ты свободно ешь из любой тарелки, произвольно перемещаешься по всем направлениям, не обращая внимания на битую посуду.
"Матных соседей" звали Лёша и Аня.
Их появление на нашем участке сулило скандал, потому что размолвка из-за общего забора привела к тому, что любая мелочь разжигала в них претензии, а мы уходили в глухую оборону, и пока не решился вопрос с забором (где его ставить – на нашей стороне канавы или на их), мы поджаривали друг друга на медленном огне страстей.
И если в начале, когда соседи только въехали, перекупив участок у безобидной, белоголовой старушки Фёдоровой, мы снисходительно воспринимали друг друга, то теперь недостатки противоборствующей стороны рассматривались под лупой, разбирались, обсуждались и превращались в сплетню.
Нет, Леша и Аня ни за что не пожаловали бы к нам под белым флагом!
Какой-то душок поплыл с нашей дачи – не то от шапки-клоповки Антонио, не то от обвалившегося ангельского оперенья с упрятанных поглубже и замаскированных под цирковой камуфляж головных уборов спивающихся индейских вождей, – не то громкие голоса, не то мировая напряженность, не то социальная мстительность обделённых, – короче, что-то спровоцировало их визит, и даже уши у них были злые.
А что взять с парочки, которая между собой-то жила в вечном разладе? Они матерились, не замечая того, что матерятся, им привычно было лаяться. Их общественный статус имел под собой весьма шаткую основу.
Он – дальнобойщик с нездоровым прошлым, она – швея, тощая выпивоха, начинавшая под паром разговаривать громким, начальствующим голосом, и голос этот был груб, как казенная роба. Она и дальнобойщика держала под пяткой ("Ты кредит сначала выплати, ююю гороховый, мозги ююю, ююю, ююю!"), унижала его очно и заочно его матушку. "Я бывалая, а она небывалая ююю. Я ей лицо разукрашу", – обещала Аня по-блатному. Злая, как щука, в прошлом, видно, фигуристая, "матная" соседка ужалась до костей от собственной ядовитости. Выглядела она годков на сорок пять, но по всей вероятности была гораздо моложе. Пьяненькие дела – бич многих наших швей – и скверный характер не могли не сказаться на её внешнем виде, и когда-то статная, вероятно, популярная в дворовой мужской среде Аня стала похожа на сухую, колючую щепку!
Надо же было старушке Фёдоровой продать участок именно ей.
И вот теперь Лёша, хромая, как нищий, с обреченным лицом исполнителя-вышибалы ковылял по центральной, песчаной дорожке к столу, под навес, где до этого сыпался дружелюбный разговор, мистические анекдоты, увлекательные рассказы по экзотической этнографии, – никаких ююю.
И Аня тенью вела его, хотя шла позади, подобрав голые локти к костлявому телу, жгучая, как крапива. Щеки запали, на них больше не цвели бутоны невинности! Она была одета по-летнему легко, словно холод осени и вечерняя, ознобная сырость были ей нипочем. Сказывалась закалка – характера, физики, годы жизни в общежитии среди других живоглотов, которые сформировали её картину мира по своим лекалам. Аня боялась не труда, пролетарская привычка к которому сыграла ей на руку, когда она мыкала свой срок в колонии, а Аня боялась нормальной жизни, потому что тогда ей пришлось бы перестраиваться, а так её в общем-то устраивал её вывих и съехавший мир, измененное сознание, та самая "мулька", в которой можно застрять. Котел безумия был ей по душе. Бред сивой кобылы – как она не открещивайся – ласкал ей сердце. Аня была практичной и холодной, стальной, как бритва. Порой она умела с феноменальной точностью предсказывать ускользнувшие от гидрометеоцентра скачки погоды, но на слово "пифия" она бы обиделась. Кем бы Аня-матная проснулась в джунглях? Анакондой?
Лёша рядом с ней казался придатком.
Они шли скандалить.
Ну разумеется.
Это ясно, как день.
И я, не колеблясь, подсунул им Джима.
Тот моментально пришёл на помощь, и всем своим пузом под вышитою накидкой, с разбойничьим шиком, закинув полосатый, черно-белый, зебристый шарф за плечо, охотно напружинившись, повернулся встречать.
Те ожидали, что в качестве отпора для них приготовили всякие вежливые словечки, жидконогую дипломатию, высшее образование, отсылки к творчеству Толстого или Чехова, на худой конец, к уставу СНТ, – всё это они рассчитывали по-народному проломить, пристыдить, мол, а чё вы не как народ! У нас равенство и демократия, слава ВВП!
Но их приветствовал чапающий вразвалку пофигист-индеец – неуязвимый в своём радушии, толстогубый, улыбающийся, да просто сияющий.
И если раньше в нем было индейца на сто процентов, то сейчас стало на двести пятьдесят.
– Эх ты, – опешил Лёша, и его подруга-щепка встала как вкопанная, напоровшись на Джима. Какой бы бывалой она ни была, яшмово-бурые люди у нас за столом смутили её, спутали карты.
И так же стремительно, как когда-то разосрались, когда муть в глазах и выкрикнутые впопыхах горячие слова, может, в чем-то и справедливые, опорочили мир и райский уголок под дуплистыми, целомудренными антоновками, – так же стремительно Леша и Аня стали на нашу сторону, им захотелось дружить, присоединиться к нам (или к нашим индейцам), топор войны был зарыт, забор позабыт, и тут я немного забегаю вперёд, потому что меня крутит энергия замысла – он ведь тоже весь, когда возникает, хотя почти сплошь состоит из темных мест, но в том и мастерство, чтобы открыть эти темные места материала, возникшего, как соты, этажи, лабиринты или дальняя даль!
Я представил собравшихся:
– Джим Чайковский, а это его ансамбль, подручные. Он создал коллектив, а они у него играют.
– А-а, шестерки, – согласовал Лёша услышанное от меня со своим представлением о жизни.
– Босс? – не то по-русски, не то по-английски, обратился он к Джиму.
– Бременские музыканты, – усмехнулась Аня, но то, что она уже села за стол, что кивнула другим женщинам – не своего круга – и позволила себе налить, говорило за то, что счёты кончены.
И это не перемирие – это мир.
Так живёт и мирится весь русский народ на одной шестой суши!
9.
– А этот чего? – покосился Лёша на тихоню Антонио.
– Я не русский, – выдал Антонио коронную фразу.
– Точно в мем, – Женщина-С-Бурой-Головой встряхнула чёлкой. – Я тащусь от него.
– У него уши мерзнут, – объяснил Ромка.
– А-а… Ну давайте! – успокоился Лёша. Он тыкнул вилкой в банку с солеными огурцами, и один из них был самым проворным, пока Лешина вилка не доказала, что она проворней. Стопки ударились.
– Хорошо у нас? – спросил дальнобойщик. Локти его, точно каменные, упирались в стол.
– Очень хорошо, – поддержал Чайковский, уверенно и беззаботно благословляя и напутствуя всех россиян – от президента до Лёши.
– Чем же? – изумился тот.
– Скорпионов нет.
– А разве у вас много скорпионов?
– Что ты! – авторитетно заверил глава индейцев. Из него бы вышел зачётный тамада или артист стенд-апа, и пока Леша участливо хрустел пупырчатым огурцом, Джим нам поведал всю свою жизнь с купюрами и прибавками по мере необходимости. Он, судя по авторской версии биографии, когда-то работал гидом для белых туристов, желающих увидеть дикую природу его страны. "Не гидом – гидёнком!", – в очередной раз поразил индеец степенью освоения им русского языка со всеми его падежами и правилами. "Я тогда был тощий, как москит, и прожорливый, как пиранья". Он водил группы в трекинговые мини-походы и вовсю спекулировал национальным колоритом, подчеркивая в себе "настоящее индейство". Громко рыгал, подражал рёву каймана и тапира, пользуясь тем, что никто из туристов не знал доподлинно, как ревёт кайман, а как тапир, громко и немузыкально вопил у костра песни на тарабарском наречии, хамовато и угодливо подшучивал в дело и не в дело и всегда соглашался с причудами белых, драл с них за это валюту втридорога. Однажды приволок в лагерь броненосца, которого чуть не убил во время ловли, и загнал зверька за "хорошие бабки" одному голландцу, который "к нам привёз собственную траву, – понимаешь юмор?".
– Со своим самоваром в Тулу, – "матный" Лёша доказал, что понимает. Банку с огурцами он передвинул поближе к оратору – мол, не щелкай, закусывай, иначе развезет и мы тебя потеряем.
– Тебе бы фанфики писать, – вставила Женщина-С-Бурой-Головой.
– У меня на хате жил попугай ара, который умел ругаться по-испански и по-португальски. Потом наркотики, контрабанда, бегство, и только в России я зажил как человек, – заключил правнук Чайковского свою биографию, которая существовала в нём как готовое блюдо.
Женщина-С-Бурой-Головой выставила на стол пакет с кунжутным печеньем, и Чайковский быстро его умётывал – рука раз за разом таскала тонкие, плоские, выпеченные "монеты".
– Я приехал на родину своего дедушки. Я был на его могилке в вашем городе Петра.
Леха кивал с одобрением.
– Мы все там были, – подключился Малыш.
– И все там будем, – заключила Аня-матная и почему-то в одиночку хлопнула стопку.
Вечернюю, рыхло-розовую облачность пересекали темные, тучевые клинья.
Джим торжественно встал:
– О, что у нас за страна! Страна патриотов и борцов! Настоящих патриотов и настоящих борцов…
– С патриотами, – вставил Ромка.
– Вот такие дома, вот такие революции! Вы бы видели...
– Да чего мы тут не видели? – опять вразрез хмыкнула Аня-матная, нога у которой ездила под стулом и даже взрыхлила землю концом туфли.
– Вы не видели каймана, – наклонил голову Джим и зашлепал губами. – Но погодите – я вам расскажу, вы всё узнаете!
И мы узнали.
Наваро, малаката, ямбо, аламо, – такие обитают в Эквадоре племена.
Основной народ называется кечуя. Они католики.
В стране много скорпионов.
Да, это нам уже известно, Джим, продолжай, пожалуйста.
Нет чая и гречки.
Попутно он сообщил – в частности, присутствующим дамам, – что зеленый – цвет удачи, желтый – богатства, а красный – любви и страсти (Джим сказал "sex"), и на Новый год эквадорские леди, которым нужна страсть, одевают непременно красное нижнее бельё, те же леди, что желают денег и финансового достатка, – желтое, а те, которые уповают на счастливый случай, – зеленое.
Аня-матная сплюнула.
Вам нужны доказательства?
Окей, уван минит, – бронзовый палец начал листать галерею на телефоне, видимо, в поисках упомянутых леди в разноцветных трусах, но всё больше были виды снежной России, Петербурга, Новосибирска, пальм ("Сочи", – втиснулся Малыш).
Потеряв терпение, Джим возил по экрану, десятками пролистывая фотоизображения, словно гнал по прерии надоевшего Росинанта.
– Вот, – произнёс он, привстав на стременах. На снимке оказалась женщина в высокой, белой шляпе с тульей, обмотанной широкой, черною лентой, и с длинной, черной цыганской косой, перекинутой через плечо. "Высота шляпы – благородство происхождения". То же подчеркивало и пышное, строгое, белое платье и еще больше строго-усталое выражение лица. Даме было под сорок, и принятая ей поза соответствовала образу. А с краю снимка – как будто воровато-высунувшееся или, вероятнее, в последний момент призванное в кадр пожеланием дамы – расплывалось в растерянно-обаятельной, шалопайской улыбке счастливое лицо молодого Джима.
– Вы с мамой похожи, – умилившись, сказала Женщина-С-Бурой-Головой.
– Это моя жена, – Джим не обиделся. По-видимому, многие так ошибались. – У неё от меня было трое детей. Но я паскуда. Я от них сбежал. Они меня искали, – хохотал индеец, и по нему, как представителю иной национальности с другой части света трудно было разобрать – то ли он валяет дурака, то ли горюет, то ли он иронизирует, то ли ему всё равно.
– Она была гранд-миссис, с французской кровью, а я простой лодочник, – он изобразил руками движения, словно гребёт. – Она доила из меня мужчину до донышка. Я еле ноги таскал! – он опять ликовал. – Знаешь, что она носила, чтобы ей всего хватало? Она на Рождество надевала красные чулки и зеленую сорочку, а в волосы вставляла всегда один и тот же пластмассовый желтый цветок. И небеса дарили ей удачу, страсть и деньги. У неё была собственная багетная мастерская!.. – он провел пальцем дальше по экрану телефона. – А это мой учитель.
– Какой-то нищий.
– Около того, – Джим повернул в воздухе запястьем, словно вкручивал лампочку и словно он хотел поменять освещение. – Он просто не делал ничего лишнего. Учитель не учит – учитель являет, – индеец говорил убежденно, жарко, на отличном русском, которого ни за что бы не смог выучить в своём тростниковом захолустье – откуда там русский язык? В местах, где вьючные животные, которые у нас встречаются только в цирках и зоопарках, гуляют на свободе, а когда над вами пролетает нечто похожее на тень от огромной тряпки – это всего-навсего андский кондор. Я сошел с ума, у Чайковского были дети. Так в предсказуемый химический состав случай бросает дополнительный ингредиент, и новой становится вся бодяга.
10.
Койот Антонио присутствовал за столом с таким выражением лица, как будто он объелся.
Ощупью движется моё повествование – возможно, обречённое, до конца пока неясно.
В общем, был вечер.
Или был "тихий вечер".
Или был "тихий сентябрьский вечер".
Или был "вечер первого сентября". Как вздрагивают слова, как трепетно полотно ткани, которой автор одевает своих зеленых богов; как туга тетива…
Что было – то было.
"Матные соседи" признали нас за своих, за русских людей, которым не за чем ссориться из-за двух десятков досок, сколоченных между собой в вертикальном положении, наоборот – мы можем объединиться и требовать с Правления, чтобы забор поставили за общественный счёт! Вот это уже мысль, это идея!
Аня-матная, захмелев и расслабившись, больше не нападала на пустословящего Джима, пытаясь его срезать.
Женщина-С-Черной-Головой погрузилась в себя, как матёрый подстрекальщик. Под дачным шмотьем (look for summer house) было не видно всех её татуировок, включая ту, что клюнула её грудь на заре туманной юности с отяготившей её девственностью, дрянным вином из круглосуточных киосков и даже одним милицейским протоколом (были бы приличные люди, а не самодовольные ряхи в погонах – могли б и не составлять).
Называя её "подстрекальщик", я не имею в виду, что Женщина-С-Черной-Головой хотела кого-то на что-то подстрекнуть, но без неё – без её томящегося молчания или видимого бездействия – мы все были бы хуже, неинтереснее.
По белой груди летел бумажный самолет с завитком-шлейфом из наколотых точек…
В период лет с двадцати примерно по двадцать пять её съели джунгли. Она была лягушкой и ящерицей, она была съеденной.
Женщина-С-Черной-Головой и сейчас не без этого, побери её суринамская пипа!
Разговор превратился в разговор по душам.
– Пашешь, как проклятый, как негр ююю, – чесал культёй с рыжими волосками на тыльной стороне ладони за сальным воротом рубахи занудноватый Леша. – И всё – на дядю. Мне бы в кредит купить грузовик.
– Размечтался, – вмешалась его подруга-надсмотрщик.
– Я видел, как полицейские пристрелили нигера из трущоб, – почему-то очень тихо вставил Малыш.
Компания сплотилась, в ней завязались бойкие параллельные диалоги, и собеседники без труда рокировались, перехватывали друг у друга инициативу, высказывали мнения, то попадая, то не попадая в общее русло. Аня, по-моему, даже немного кадрилась к Женщине-С-Черной-Головой, о чем-то грубовато и прямолинейно секретничая с ней, стоя в сторонке: "Там сама на пальцы прыгнешь, не гордись раньше времени. В первые дни, конечно, стрёмно и страшно, не без этого, а вообще не пропадешь, держи сиськи по ветру", – наставляла она.
Потом прирученные скандалисты отчалили, боясь опоздать на последнюю маршрутку, способную доставить их в городскую квартиру за 27 рублей с носа, а не как такси, за 250.
Леха, по-братски прощаясь, хлопал Джима по спине.
– Ты ведь свистун! – обличал он радостно, чувствуя прилив сил от того, что Джим ему не противоречит, или от шести вспыхнувших коньячных звезд, или вообще от хорошего настроения, которое с ним случилось.
– Русские cholo, – индеец фыркнул, как лошадь, через толстые губы вслед ушедшей паре.
– Ты же умный человек, а в бубен бьешь, ходишь, как павлин в перьях, – теперь уже Ромка вызывал кечуя на откровенный разговор, и женщины поддержали. Всем хотелось услышать, что ответит эквадорец. Или снова отшутится? Или вытянет из кармана пушистого кролика?
– А я выбираю? – Джим вольготно откинулся на спинку стула, чуть не опрокинувшись, ибо задние ножки погрузились глубже во влажную землю.
– Мы не борцы за права индейцев, – продолжил Джим. – У индейцев нет никаких прав. Нет права выбора. Ни у кого нет никаких прав.
– Ну… меня есть права на вождение машины, – осторожно вставила Женщина-С-Бурой-Головой.
– Правильно! У меня тоже есть какие-то… бумаги, rubbish2. Но я не выбираю. Как это объяснить? Все права у богов. У человека нет никаких прав. Сила – это знание.
Он еще более оживился:
– Я могу быть плохой или хороший. Думать о себе хорошо или плохо, I am fine or fuck you. Все права у богов. Или у богинь. У нас есть богини, которых нет у вас. Но прав нет ни у кого из нас ни сегодня, ни завтра днем, ни послезавтра вечером. Богиня придёт, – заключил он беспечно – так, как если бы ослабил на животе свой узорно-набранный пояс с серебряными цацками. – У человека нет никаких прав на себя, кроме делать всякие глупости – большие или маленькие. Я говорю, потому что обладаю знанием. В следующей жизни я буду философом, мудрецом, миллионером, а пока что я циркач, музыкант, бродяга, потомок великого русского композитора, – рот его расплылся в широкой, жесткой улыбке, словно помогающей нам понять его правду.
– Кто хочет знания? – сказал вдруг Джим.
– Ну давайте я, – ответил за всех Ромка, что вышло естественно и по-своему логично – он ведь уже прошел один обряд посвящения у племени навахо, ему хоть бы хны, одним обрядом больше, другим меньше!
– И мне немного, – попросила Женщина-С-Черной-Головой.
– А с тебя хватит, – заметил индеец. – Обойдёшься.
И заехал Ромке по уху, влупил с размаху всей своей широкой, эквадорской ладонью, со всей нечинящейся, южноамериканской дури, так, что послышался смачный хлопок.
Ромка заорал, точнее, он вскрикнул и схватился за ухо.
– Я не виноват, – запричитал индеец, готовый попятиться.
– Ты дал мне по уху! – воскликнул Ромка.
– Я открыл канал, – забубнил индеец, озирая всех исподлобья, понимая, что натворил совсем уж что-то не то, но при этом не сдаваясь. – Теперь ты будешь свободен в своих поступках. А был закупорен. Мы видели это.
– Кто это видел? – пришел я на помощь другу.
– Я, – поднял руку Койот Антонио, сократив сакраментальную реплику до единого слова.
– И я, – Малыш перекрестился, как крестятся католики.
– Лол, – отреагировала Женщина-С-Бурой-Головой.
Черноголовая засмеялась, как будто это не её любимому человеку нанесли оскорбление, и напрасно прикрыла ладонью рот.
– Я не хотел его бить, – оправдывался Чайковский. – Он сам меня попросил об этом.
– Я чего-то не слышал, – обиженно сказал Ромка, менеджер выше среднего звена.
– А я слышал, – отозвался Малыш.
– И я, – брякнул Антонио.
– Мы все просим у жизни что-то, не называя, просим так, что не слышим самих себя. У нас в ушах пробки, в глазах затычки. Ты скоро почувствуешь – я открыл канал! – продолжал индеец, уже смекая, что не побьют и не выгонят.
Стало темно, во мраке выделялись высокие, круглые шапки гортензий, горело окно у старика Тимофеева, а потом все услышали, как прошел поезд – возвращающийся из Кинешмы "орлан" из двух вагонов. Угли в мангале погасли и почернели. Антонио на задворках странно тискался с Малышом – они как будто о чем-то спорили. Но спорить – спорьте, а зачем одному щипать другого за ягодицы? Разве это аргумент?
От Джима не ускользнуло моё внимание к парочке, ищущей уединения, и он объяснил так легко и толково, как ему вообще давались все объяснения:
– Они не гомики, ты не думай.
Я сделал вид, что я и не думаю, что ты.
– Просто лень искать женщину, – пояснил Чайковский. – Очень ленивы. До идиотизма. Зачем я с ними таскаюсь – сам не в курсе. Играют они неважно, – признался Джим. Его губы как будто стали еще толще и мяснее. Возможно, в нем текла доля негритянской крови.
Джим – имя хороших негров и выдающихся служебных собак из советского кинематографа.
– С наших свадеб таких музыкантов гнали бы в шею. Очень ленивы и немузыкальны. Не слышат инструменты. Всё держится на мне. Поэтому они и злы на меня, что мне никогда ничего не лень.
11.
Год был неяблочный – деревья отдыхали, и Рома рассчитывал их порядком опилить. Если бы не индейцы, он бы уже сегодня занялся этим, таскаясь с лестницей с одной стороны яблони на другую, от дерева к дереву, замазывая аккуратные кружочки спилов садовым варом, – хозяин плантации, просвещенный культиватор.
У Ромки с детства был крайне интеллигентный вид, породистый, некомичный, задиры и хулиганьё к нему не придирались. Сын обеспеченных родителей, он имел компакты, когда у всех были только магнитофонные кассеты, носил "гриндера" с металлическими вставками, не форся этим, – чувство собственного достоинства не позволяло ему задаваться; разбирался в одежде (знал, что купить и где будет дешевле), любил умные, сатирические книги вроде Войновича и Булгакова, играл в студенческий КВН, имел успех у противоположного пола, но не стремился за легкими победами – он и в этом отношении был чистоплотен и сдержан, хотя отнюдь не холоден.
По завершению университета, получив красный диплом экономиста, он двинул в Америку – в ту самую поездку, которая потом на долгие годы стала для него визитною карточкой. Тогда он удивил не только всех остальных, но и самого себя. " Эк занесло, на всю жизнь запомню", – думал он на заправке, когда водила, согласившийся подвезти его автостопом, отошел в забегаловку за сэндвичами и кофе. "Это было, как закрыть глаза и прыгнуть с парашютом. Вообще не знаешь, чего произойдёт – крокодил ногу откусит или мексиканец в карман залезет". Ромка немного перегибал с описаниями, но потрясение, пережитое им, было подлинным потрясением. Он смотрел на вещи трезво и твердо, но жил в постоянном состоянии миража, недоумении, как такое может быть: Виргиния, Каролина, резервация навахо… Ромка тогда далеко перешагнул за собственную нормальность. Не скажу, что после поездки он сильно изменился. Ну вышел из колеи – ну вошел в колею. Возможно, по молодости всё прошло гладко. Теперь он был "менеджером выше среднего звена" и рассказы о путешествии, о его одиссее из Нью-Йорка в Майями, в "немыслимую Флориду", если пользоваться терминологией Артюра Рембо, как бы оправдывали Ромку в собственных глазах, делали интересным, необуржуазившимся, как будто тот дальний свет, то золотое эхо до сих пор исповедовали и причащали его к мифическому ордену легендарных аргонавтов.
Вторым разом, когда Ромкина "нормальность" дала разбойную трещину, стал его роман с Женщиной-С-Черной-Головой. Мы думали – это у них недолго, страсть, баловство, но они всё жили и жили вместе. Счастливые? Несчастливые? – всего понемногу.
В данную минуту Ромка стоял в одиночестве под яблонями, но вовсе не чувствовал себя одиноким. Он пошел проводить свою подругу до дома, но не спешил возвращаться к нам – туда, где хороводил неугомонный, буролицый Джим, не потому что мы ему надоели или ему отчего-то стало плохо или тоскливо с нами – наоборот, Ромке было хорошо, и ему хотелось задержать в себе это чувство, осознать, просмолиться им. На бугре чернели сосны, и Ромке казалось, что он слышит, как ветер свистит в иголках.
– Русский? – услышал он.
А? Чего?.. – так реагирует человек спросонья.
– Русский, – перед Романом из темноты возник впалощекий молчальник Антонио. С настойчивой мягкостью он тронул Ромку за рукав:
– Разговор есть. Есть мысль, power, – индеец как бы умолял. Требовал.
– А ты, оказывается, говорящий.
– Русский… Ты получил от старшего знания. Ты должен ему двенадцать штук – это небольшие деньги. Ему они стоили гораздо дороже. Нам надо менять обувь машины…
– Колеса, – Ромка заперся в надменность.
– Да, колеса. Нам надо ехать, далеко, дальше, – индеец говорил уже как-то торжественно. – Ты получил от старшего силу. Двенадцать – недорого. Ты хороший русский.
– А ты, как видно, плохой индеец, – Ромка прищурился, глядя вымогателю прямо в глаза.
– Конечно, плохой, бедный.
"Я не хотел давать ему денег, – пояснял потом Ромка. – Он не угрожал мне. Мой мозг сопротивлялся, но в то же время я четко почувствовал, что должен ему. Я ощутил это как бы… целиком – не только головой (голова сдалась в последнюю очередь), а животом, ногами, руками, ключицами, мизинцами, мышцами таза, опорно-двигательным аппаратом, короче, всем собой. И душой, и телом, – выдохнул Ромка, когда, наконец, затяжное, ищущее за что схватиться словоблудие привело его к ёмкой, конкретной формулировке. – Я это понял как закон природы и я согласился. Пусть будет двенадцать штук. Я не уступил".
Вот как бывает. Есть вещи, стоящие треть зарплаты, и это не новый музыкальный центр.
Спустя пару месяцев Ромка по горящей путёвке сорвался в Индонезию, на остров Ява – бродил по вулканам, пил чай с остывшим пеплом, ночевал в лесных хижинах, покрытых соломой, привёз мне с побережья костяной гарпун. Он купался в индийском океане, и морской ёж вонзил в него иголки.
Что считать миражом?
Областная газета – даже на появившемся у неё интернет-сайте и страничке "вконтакте", – на этот раз ни строчкой не обмолвилась о повторной встрече Романа с индейцами, о нелепой оплеухе, которую тот получил, но мы-то о ней знали, верили в неё, и от этого все истории (и старые, и новые – про Америку или Яву), байки, воспоминания звучали отличительно свежо и оригинально, как пятнадцать лет назад, словно их заново окинул и наполнил солнечный луч, пробившийся из чужой, вероломной страны с зажравшимися, тупорылыми кайманами и желтыми реками, из долбанных пуэбло и джунглей, с нелюдимых отрогов гор и маисовых плантаций.
Интересный факт – когда все наелись и допили коньяк (даже тот, который я со всем усердием пытался заначить), когда тихий наглец Антонио обналичил у Романа сомнительный должок за полученную "силу" и снял, наконец, свою шутовскую, шерстяную шапчонку, когда Малыш о чем-то цинично и нетерпеливо ворковал на заднем сиденье подержанного "рено", когда угли в мангале окончательно почернели и погасли, а индейцы уехали, навсегда покинув уголок невзрачного, по-рубцовски осеннего СНТ, – Женщина-С-Черной-Головой ехала с ними. Она была одновременно у себя дома, на даче в пяти минутах ходьбы от нашей, и ехала с ними. Теперь я могу сказать правду – в рассказе было две Женщины-С-Черной-Головой. Одна большую часть рассказа сидела напротив Джима, рядом со своим гражданским мужем – "менеджером выше среднего звена", а вторая – богатырша и великанка – всё время стояла за спиной у толстого, болтливого кечуя и в нужный момент толкнула его руку, чтобы всё получилось.
1 у эквадорцев – чурбан, деревенщина
2 Дрянь, ерунда, мелочёвка (англ).
Кисти рябины из рыжих стали красными, смородина поедена или осыпалась, а терновник туг – такое время года, для терновника рановато.
Я предупредил об этом Малыша, но он всё равно сорвал, сунул в рот, разжевал и проглотил синюю ягоду, чтобы узнать, что она никуда не годится.
– А как вы учитесь? – опять спросила Женщина-С-Черной-Головой с тактичной теплотой в голосе.
– Я первый ученик, – не сморгнув, ответил Малыш.
– Best of the best, – отозвался Джим, и в его лживых устах балаганщика это опять была кристальная правда.
Мне кажется, мораль имеет весьма посредственное отношение к чистоте, к искренности. Ведь если человек её соблюдает и ему плохо, это значит, он не чист, его мораль не от души и сердца, он предал что-то, а мог бы, между прочим, предать мораль, и боги бы очистили его тогда, ибо он сознавал бы свою заблудшесть, а моралист никогда не очистится, он так и будет дышать над язвой. Я так рассуждал, и мне говорили – ты опасный человек.
Не знаю – были ли реально опасны те люди с яшмовыми лицами, которых мы приютили на один короткий сентябрьский вечерок, не знаю, что они совершили после, и доучился ли бедолага Малыш в своём НГУ.
Мы уже пели песни – русские, наши, и Джим, оказывается, помнил наизусть "Катюшу", Малыш отстукивал ритм своей железной ладонью, показывая, что мог бы быть отменным барабанщиком. Антонио не вытерпел и напялил на затылок какой-то особенный, шерстяной колпак с рассыпчатыми, цветными кисточками, который смотрелся на нём достаточно мерзко.
– Я не могу, говорю – купи нормальную шапку. Клоповка какая-то! – глумился Джим. – Или хоть постирай. Очень упрямый, очень скупой. Когда боги призвали людей быть щедрыми и великодушными, айнара пришли на собрание первыми, еще по росе пришли они к богам, а те им сказали – потерпите немного, приходите вместе с остальными племенами и мы научим вас быть щедрыми и великодушными, научим вас уважать себя. И когда остальные племена собрались, айнара не пришли. Хуже, чем эти ребята из джунглей, только ребята с гор!
Я уже и сам сознавал, что надо понемногу притормаживать с тостами. Джим, вздыхая, косился на пустующие стопки. Тряпок на нем было не сосчитать – натуральная капуста, спрыснутая одеколоном поверх пота и благовоний: как минимум две жилетки, из-под которых высовывался воротник лиловой рубашки, какая-то пестро-расшитая перевязь поверх жилеток, черно-белый, зебристо-полосатый шарф, узорно набранный, широкий, кожаный пояс с серебряными цацками, а куртку Джим снял и повесил на спинку стула, чтоб всегда была под рукой; в куртке ему было жарко. За гастрольный чёс в нём до того всё взаимно пропиталось и перемешалось (от пяток до подмышек, своя и чужая кожа), что стало одним естественным запахом, похожим на запах камышовых болотин.
– Мы не любим мыться. У нашего народа мало воды. У вашего народа много воды, – Джим изрекал банальные вещи с самым внушительным и грозным видом. – Я знаю секреты своего народа, индейские хитрости. Но почему нет воды? – Джим наградил свою стопку щелбаном, намекнув в открытую. Я заметил, как Ромка порывается сказать, что у него есть ещё, что он принесёт, – так и пусть идут к Ромке! Наши женщины подустали и начинали зябнуть. Они были бы не против, если б вечер закруглился. Одна из них зевнула, после чего зевок повторила другая, но разве десант с континента коки и каучука не способен справиться с подобной заминкой? Будьте покойны – Джим Толстое Брюхо что-нибудь придумает, найдет способ заинтриговать, не смирится.
Я жарил курицу на решетке над углями. Мы окружили дотлевающий костёрок, и дрозд, свернув шею немного набок, с подозрением смотрел на диковинный шерстяной колпак на голове Антонио. Возможно, он напоминал ему родное гнездо.
– Нельзя всё знать в джунглях. Джунгли – это женщина с темными волосами, хотя там всё бурое и зеленое. Джунгли едят людей. Человек, который уснул в лесу, может проснуться ящерицей или лягушкой, – говорит Джим.
– А я бы кем проснулась? – спросила Женщина-С-Бурой-Головой.
Индеец смерил её взглядом:
– Ты cougar.
Встретив непонимание в наших глазах, он изобразил из пальцев обеих рук скрюченные когти:
– Mountain cat.
– А, пума! – догадался я, но теперь настал черед непонимания со стороны нашего гостя – мол, какая такая "пума"?
Я нашел в яндексе фотографию пумы.
– Да, – согласился Джим, а Женщине-С-Бурой-Головой это польстило (сравнение с пумой), потому что в принципе она была девушкой домашней – не хищной, не злой, иногда только востренькой в своей домовитости: начинала мельтешить, уговаривала сделать какой-нибудь необязательный, на мой взгляд, ремонт или перестановку, унитаз ей наш не нравился. Короче, дёргала, как положено жене или имеющей виды гражданской подруге.
– Учись у женщины, – вещал индеец. – Любая женщина – по природе шаманка, и любой шаман – по природе женщина. Неважно при этом, что у него между ног. В нашей стране у колдунов это так. Они обладают полнотой знания. У меня вот столько, – он показывает кусок мяса на испачканной тарелке. – У меня кусок знания, у тебя твой кусок, – показывает Джим на чужую тарелку с остатками закуски. – И только в шамане знание замыкается. Оно неразрезано. Оно красивое и круглое, как апельсин, – импровизирует индеец.
– А я какой зверь? – внезапно спросила из угла Женщина-С-Черной-Головой.
– Ты сама знаешь, – прозвучал ответ.
– Нет, не знаю.
– А мы сейчас проверим. Малыш, скажи, какая это женщина, – Джим распорядился, и студент НГУ взял за плечи Женщину-С-Черной-Головой. Она было хотела, поймав взгляд Ромки, отвести его темные, красноватые пальцы-присоски, но в последний момент почему-то оставила и только посмотрела свысока на студента.
– Она… тоже cougar, – объявил Малыш, наивно подыгрывая театральному представлению, затеянному их толстяком-командором, но не имея достаточно смелости и фантазии, чтобы назвать другое животное. Трогать чужую женщину студент не боялся, а на счёт зверя, каким её окрестить, выбирать самостоятельно он не рискнул.
Может, именно в тот момент, когда Малыш-эквадорец положил свои чуткие пальцы на плечо Женщины-С-Черной-Головой и когда она осталась стоять под ними, не предохранилась, не взбрыкнула, невзирая на весь абсурдный, скоморошачий крен ситуации, я мог бы уловить и даже помню, что уловил, но почему-то не среагировал на тот странный факт, что от людей иной расы и вся обстановка на исконной земле Бориса и Глеба, безвинно зарезанных русских князей, становится иной. Рассказы индейца звучали, словно инициирующие мантры. Уж слишком необычных, коварных не по коварству, а по своей неожиданности и новизне богов привело к нам на дачу трое жалких оборванцев – недоделанных, бесталанных паганини и бесприютных джимов-моррисонов, доедающих курицу и бросающих кости в железный тазик. Мы им поддались и очутились не в своей тарелке, хотя нас окружали знакомые предметы, растения и постройки, боровки с картошкой, хвосты моркови, задранные из грядок.
Уже на столе разливали второй коньяк. Джим добился своего и вовсю командорствовал.
– Ты в этой шапке как дурак выглядишь, – сказал он Антонио без тени упрека.
– Я не русский, – согласился тот, а Женщина-С-Бурой-Головой шепнула мне на ухо:
– Хоть в мем такого.
– Правильно! – закричал Джим. – Какой же ты русский? Ты айнара, cholo1. Не хочешь учиться языку моего великого предка Чайковского. Он жил музыкой, он вечером играл концерт, а после концерта он искал женщину. Он был как полоумный, бегал по улицам, как шальной, пока не находил женщину, и после этого мне еще говорят, что у великого Чайковского не было детей! Он сам не знал, сколько у него детей. Женщины валились к нему в ноги, уф, как бухались, – он оглянулся на Малыша. – Тебе далеко до его успехов!
Неизвестно, какую еще околесицу нам пришлось бы выслушать под закатным небом, но тут пожаловали "матные соседи", и, завидев их (они дуэтом вывернулись из-за теплицы), Женщина-С-Бурой-Головой недовольно поморщилась:
– Этих только не хватало.
Запахло жареным.
8.
О чем это я?
Все так называемые "измененные состояния сознания" имеют смысл не сами по себе, а в связи с тем, что после них естественное состояние становится другим, более выпуклым, сильным, как будто проросшим, – оно изменяется, происходит плодотворный, авангардный сдвиг, но в том-то и фокус, что в этих вызванных к жизни "мульках" можно зависнуть и уже не выбраться. Реальностей много, а человек один, и в нём они сходятся, как в точке пересечения, кристаллической грануле, нерегулярной структуре. Поэтому так сложно найти мне способ более адекватного рассказа о них, о всех существующих плоскостях и лучах, развернутых ли веером или строго-текущим, как однонаправленный поток воды, добиться того, чтобы мой рассказ звучал не как пересказ события – реального или выдуманного, не отчёт, не график, не диаграмма лучей, а как сами лучи, как нечто отдельное, не касающееся по сути ни меня, ни Ромки, ни шайки разболтанных эквадорских музыкантов, ни Женщины-с-Бурой-Головой, ни Женщины-С-Черной-Головой, ни выданного им авансом тотема cougar, ни "матных соседей". Сложно, чтобы ум не зашел за разум после того, как ты этому научился. Реальности соприкасаются и делают с тобой, что хотят, но и ты свободно ешь из любой тарелки, произвольно перемещаешься по всем направлениям, не обращая внимания на битую посуду.
"Матных соседей" звали Лёша и Аня.
Их появление на нашем участке сулило скандал, потому что размолвка из-за общего забора привела к тому, что любая мелочь разжигала в них претензии, а мы уходили в глухую оборону, и пока не решился вопрос с забором (где его ставить – на нашей стороне канавы или на их), мы поджаривали друг друга на медленном огне страстей.
И если в начале, когда соседи только въехали, перекупив участок у безобидной, белоголовой старушки Фёдоровой, мы снисходительно воспринимали друг друга, то теперь недостатки противоборствующей стороны рассматривались под лупой, разбирались, обсуждались и превращались в сплетню.
Нет, Леша и Аня ни за что не пожаловали бы к нам под белым флагом!
Какой-то душок поплыл с нашей дачи – не то от шапки-клоповки Антонио, не то от обвалившегося ангельского оперенья с упрятанных поглубже и замаскированных под цирковой камуфляж головных уборов спивающихся индейских вождей, – не то громкие голоса, не то мировая напряженность, не то социальная мстительность обделённых, – короче, что-то спровоцировало их визит, и даже уши у них были злые.
А что взять с парочки, которая между собой-то жила в вечном разладе? Они матерились, не замечая того, что матерятся, им привычно было лаяться. Их общественный статус имел под собой весьма шаткую основу.
Он – дальнобойщик с нездоровым прошлым, она – швея, тощая выпивоха, начинавшая под паром разговаривать громким, начальствующим голосом, и голос этот был груб, как казенная роба. Она и дальнобойщика держала под пяткой ("Ты кредит сначала выплати, ююю гороховый, мозги ююю, ююю, ююю!"), унижала его очно и заочно его матушку. "Я бывалая, а она небывалая ююю. Я ей лицо разукрашу", – обещала Аня по-блатному. Злая, как щука, в прошлом, видно, фигуристая, "матная" соседка ужалась до костей от собственной ядовитости. Выглядела она годков на сорок пять, но по всей вероятности была гораздо моложе. Пьяненькие дела – бич многих наших швей – и скверный характер не могли не сказаться на её внешнем виде, и когда-то статная, вероятно, популярная в дворовой мужской среде Аня стала похожа на сухую, колючую щепку!
Надо же было старушке Фёдоровой продать участок именно ей.
И вот теперь Лёша, хромая, как нищий, с обреченным лицом исполнителя-вышибалы ковылял по центральной, песчаной дорожке к столу, под навес, где до этого сыпался дружелюбный разговор, мистические анекдоты, увлекательные рассказы по экзотической этнографии, – никаких ююю.
И Аня тенью вела его, хотя шла позади, подобрав голые локти к костлявому телу, жгучая, как крапива. Щеки запали, на них больше не цвели бутоны невинности! Она была одета по-летнему легко, словно холод осени и вечерняя, ознобная сырость были ей нипочем. Сказывалась закалка – характера, физики, годы жизни в общежитии среди других живоглотов, которые сформировали её картину мира по своим лекалам. Аня боялась не труда, пролетарская привычка к которому сыграла ей на руку, когда она мыкала свой срок в колонии, а Аня боялась нормальной жизни, потому что тогда ей пришлось бы перестраиваться, а так её в общем-то устраивал её вывих и съехавший мир, измененное сознание, та самая "мулька", в которой можно застрять. Котел безумия был ей по душе. Бред сивой кобылы – как она не открещивайся – ласкал ей сердце. Аня была практичной и холодной, стальной, как бритва. Порой она умела с феноменальной точностью предсказывать ускользнувшие от гидрометеоцентра скачки погоды, но на слово "пифия" она бы обиделась. Кем бы Аня-матная проснулась в джунглях? Анакондой?
Лёша рядом с ней казался придатком.
Они шли скандалить.
Ну разумеется.
Это ясно, как день.
И я, не колеблясь, подсунул им Джима.
Тот моментально пришёл на помощь, и всем своим пузом под вышитою накидкой, с разбойничьим шиком, закинув полосатый, черно-белый, зебристый шарф за плечо, охотно напружинившись, повернулся встречать.
Те ожидали, что в качестве отпора для них приготовили всякие вежливые словечки, жидконогую дипломатию, высшее образование, отсылки к творчеству Толстого или Чехова, на худой конец, к уставу СНТ, – всё это они рассчитывали по-народному проломить, пристыдить, мол, а чё вы не как народ! У нас равенство и демократия, слава ВВП!
Но их приветствовал чапающий вразвалку пофигист-индеец – неуязвимый в своём радушии, толстогубый, улыбающийся, да просто сияющий.
И если раньше в нем было индейца на сто процентов, то сейчас стало на двести пятьдесят.
– Эх ты, – опешил Лёша, и его подруга-щепка встала как вкопанная, напоровшись на Джима. Какой бы бывалой она ни была, яшмово-бурые люди у нас за столом смутили её, спутали карты.
И так же стремительно, как когда-то разосрались, когда муть в глазах и выкрикнутые впопыхах горячие слова, может, в чем-то и справедливые, опорочили мир и райский уголок под дуплистыми, целомудренными антоновками, – так же стремительно Леша и Аня стали на нашу сторону, им захотелось дружить, присоединиться к нам (или к нашим индейцам), топор войны был зарыт, забор позабыт, и тут я немного забегаю вперёд, потому что меня крутит энергия замысла – он ведь тоже весь, когда возникает, хотя почти сплошь состоит из темных мест, но в том и мастерство, чтобы открыть эти темные места материала, возникшего, как соты, этажи, лабиринты или дальняя даль!
Я представил собравшихся:
– Джим Чайковский, а это его ансамбль, подручные. Он создал коллектив, а они у него играют.
– А-а, шестерки, – согласовал Лёша услышанное от меня со своим представлением о жизни.
– Босс? – не то по-русски, не то по-английски, обратился он к Джиму.
– Бременские музыканты, – усмехнулась Аня, но то, что она уже села за стол, что кивнула другим женщинам – не своего круга – и позволила себе налить, говорило за то, что счёты кончены.
И это не перемирие – это мир.
Так живёт и мирится весь русский народ на одной шестой суши!
9.
– А этот чего? – покосился Лёша на тихоню Антонио.
– Я не русский, – выдал Антонио коронную фразу.
– Точно в мем, – Женщина-С-Бурой-Головой встряхнула чёлкой. – Я тащусь от него.
– У него уши мерзнут, – объяснил Ромка.
– А-а… Ну давайте! – успокоился Лёша. Он тыкнул вилкой в банку с солеными огурцами, и один из них был самым проворным, пока Лешина вилка не доказала, что она проворней. Стопки ударились.
– Хорошо у нас? – спросил дальнобойщик. Локти его, точно каменные, упирались в стол.
– Очень хорошо, – поддержал Чайковский, уверенно и беззаботно благословляя и напутствуя всех россиян – от президента до Лёши.
– Чем же? – изумился тот.
– Скорпионов нет.
– А разве у вас много скорпионов?
– Что ты! – авторитетно заверил глава индейцев. Из него бы вышел зачётный тамада или артист стенд-апа, и пока Леша участливо хрустел пупырчатым огурцом, Джим нам поведал всю свою жизнь с купюрами и прибавками по мере необходимости. Он, судя по авторской версии биографии, когда-то работал гидом для белых туристов, желающих увидеть дикую природу его страны. "Не гидом – гидёнком!", – в очередной раз поразил индеец степенью освоения им русского языка со всеми его падежами и правилами. "Я тогда был тощий, как москит, и прожорливый, как пиранья". Он водил группы в трекинговые мини-походы и вовсю спекулировал национальным колоритом, подчеркивая в себе "настоящее индейство". Громко рыгал, подражал рёву каймана и тапира, пользуясь тем, что никто из туристов не знал доподлинно, как ревёт кайман, а как тапир, громко и немузыкально вопил у костра песни на тарабарском наречии, хамовато и угодливо подшучивал в дело и не в дело и всегда соглашался с причудами белых, драл с них за это валюту втридорога. Однажды приволок в лагерь броненосца, которого чуть не убил во время ловли, и загнал зверька за "хорошие бабки" одному голландцу, который "к нам привёз собственную траву, – понимаешь юмор?".
– Со своим самоваром в Тулу, – "матный" Лёша доказал, что понимает. Банку с огурцами он передвинул поближе к оратору – мол, не щелкай, закусывай, иначе развезет и мы тебя потеряем.
– Тебе бы фанфики писать, – вставила Женщина-С-Бурой-Головой.
– У меня на хате жил попугай ара, который умел ругаться по-испански и по-португальски. Потом наркотики, контрабанда, бегство, и только в России я зажил как человек, – заключил правнук Чайковского свою биографию, которая существовала в нём как готовое блюдо.
Женщина-С-Бурой-Головой выставила на стол пакет с кунжутным печеньем, и Чайковский быстро его умётывал – рука раз за разом таскала тонкие, плоские, выпеченные "монеты".
– Я приехал на родину своего дедушки. Я был на его могилке в вашем городе Петра.
Леха кивал с одобрением.
– Мы все там были, – подключился Малыш.
– И все там будем, – заключила Аня-матная и почему-то в одиночку хлопнула стопку.
Вечернюю, рыхло-розовую облачность пересекали темные, тучевые клинья.
Джим торжественно встал:
– О, что у нас за страна! Страна патриотов и борцов! Настоящих патриотов и настоящих борцов…
– С патриотами, – вставил Ромка.
– Вот такие дома, вот такие революции! Вы бы видели...
– Да чего мы тут не видели? – опять вразрез хмыкнула Аня-матная, нога у которой ездила под стулом и даже взрыхлила землю концом туфли.
– Вы не видели каймана, – наклонил голову Джим и зашлепал губами. – Но погодите – я вам расскажу, вы всё узнаете!
И мы узнали.
Наваро, малаката, ямбо, аламо, – такие обитают в Эквадоре племена.
Основной народ называется кечуя. Они католики.
В стране много скорпионов.
Да, это нам уже известно, Джим, продолжай, пожалуйста.
Нет чая и гречки.
Попутно он сообщил – в частности, присутствующим дамам, – что зеленый – цвет удачи, желтый – богатства, а красный – любви и страсти (Джим сказал "sex"), и на Новый год эквадорские леди, которым нужна страсть, одевают непременно красное нижнее бельё, те же леди, что желают денег и финансового достатка, – желтое, а те, которые уповают на счастливый случай, – зеленое.
Аня-матная сплюнула.
Вам нужны доказательства?
Окей, уван минит, – бронзовый палец начал листать галерею на телефоне, видимо, в поисках упомянутых леди в разноцветных трусах, но всё больше были виды снежной России, Петербурга, Новосибирска, пальм ("Сочи", – втиснулся Малыш).
Потеряв терпение, Джим возил по экрану, десятками пролистывая фотоизображения, словно гнал по прерии надоевшего Росинанта.
– Вот, – произнёс он, привстав на стременах. На снимке оказалась женщина в высокой, белой шляпе с тульей, обмотанной широкой, черною лентой, и с длинной, черной цыганской косой, перекинутой через плечо. "Высота шляпы – благородство происхождения". То же подчеркивало и пышное, строгое, белое платье и еще больше строго-усталое выражение лица. Даме было под сорок, и принятая ей поза соответствовала образу. А с краю снимка – как будто воровато-высунувшееся или, вероятнее, в последний момент призванное в кадр пожеланием дамы – расплывалось в растерянно-обаятельной, шалопайской улыбке счастливое лицо молодого Джима.
– Вы с мамой похожи, – умилившись, сказала Женщина-С-Бурой-Головой.
– Это моя жена, – Джим не обиделся. По-видимому, многие так ошибались. – У неё от меня было трое детей. Но я паскуда. Я от них сбежал. Они меня искали, – хохотал индеец, и по нему, как представителю иной национальности с другой части света трудно было разобрать – то ли он валяет дурака, то ли горюет, то ли он иронизирует, то ли ему всё равно.
– Она была гранд-миссис, с французской кровью, а я простой лодочник, – он изобразил руками движения, словно гребёт. – Она доила из меня мужчину до донышка. Я еле ноги таскал! – он опять ликовал. – Знаешь, что она носила, чтобы ей всего хватало? Она на Рождество надевала красные чулки и зеленую сорочку, а в волосы вставляла всегда один и тот же пластмассовый желтый цветок. И небеса дарили ей удачу, страсть и деньги. У неё была собственная багетная мастерская!.. – он провел пальцем дальше по экрану телефона. – А это мой учитель.
– Какой-то нищий.
– Около того, – Джим повернул в воздухе запястьем, словно вкручивал лампочку и словно он хотел поменять освещение. – Он просто не делал ничего лишнего. Учитель не учит – учитель являет, – индеец говорил убежденно, жарко, на отличном русском, которого ни за что бы не смог выучить в своём тростниковом захолустье – откуда там русский язык? В местах, где вьючные животные, которые у нас встречаются только в цирках и зоопарках, гуляют на свободе, а когда над вами пролетает нечто похожее на тень от огромной тряпки – это всего-навсего андский кондор. Я сошел с ума, у Чайковского были дети. Так в предсказуемый химический состав случай бросает дополнительный ингредиент, и новой становится вся бодяга.
10.
Койот Антонио присутствовал за столом с таким выражением лица, как будто он объелся.
Ощупью движется моё повествование – возможно, обречённое, до конца пока неясно.
В общем, был вечер.
Или был "тихий вечер".
Или был "тихий сентябрьский вечер".
Или был "вечер первого сентября". Как вздрагивают слова, как трепетно полотно ткани, которой автор одевает своих зеленых богов; как туга тетива…
Что было – то было.
"Матные соседи" признали нас за своих, за русских людей, которым не за чем ссориться из-за двух десятков досок, сколоченных между собой в вертикальном положении, наоборот – мы можем объединиться и требовать с Правления, чтобы забор поставили за общественный счёт! Вот это уже мысль, это идея!
Аня-матная, захмелев и расслабившись, больше не нападала на пустословящего Джима, пытаясь его срезать.
Женщина-С-Черной-Головой погрузилась в себя, как матёрый подстрекальщик. Под дачным шмотьем (look for summer house) было не видно всех её татуировок, включая ту, что клюнула её грудь на заре туманной юности с отяготившей её девственностью, дрянным вином из круглосуточных киосков и даже одним милицейским протоколом (были бы приличные люди, а не самодовольные ряхи в погонах – могли б и не составлять).
Называя её "подстрекальщик", я не имею в виду, что Женщина-С-Черной-Головой хотела кого-то на что-то подстрекнуть, но без неё – без её томящегося молчания или видимого бездействия – мы все были бы хуже, неинтереснее.
По белой груди летел бумажный самолет с завитком-шлейфом из наколотых точек…
В период лет с двадцати примерно по двадцать пять её съели джунгли. Она была лягушкой и ящерицей, она была съеденной.
Женщина-С-Черной-Головой и сейчас не без этого, побери её суринамская пипа!
Разговор превратился в разговор по душам.
– Пашешь, как проклятый, как негр ююю, – чесал культёй с рыжими волосками на тыльной стороне ладони за сальным воротом рубахи занудноватый Леша. – И всё – на дядю. Мне бы в кредит купить грузовик.
– Размечтался, – вмешалась его подруга-надсмотрщик.
– Я видел, как полицейские пристрелили нигера из трущоб, – почему-то очень тихо вставил Малыш.
Компания сплотилась, в ней завязались бойкие параллельные диалоги, и собеседники без труда рокировались, перехватывали друг у друга инициативу, высказывали мнения, то попадая, то не попадая в общее русло. Аня, по-моему, даже немного кадрилась к Женщине-С-Черной-Головой, о чем-то грубовато и прямолинейно секретничая с ней, стоя в сторонке: "Там сама на пальцы прыгнешь, не гордись раньше времени. В первые дни, конечно, стрёмно и страшно, не без этого, а вообще не пропадешь, держи сиськи по ветру", – наставляла она.
Потом прирученные скандалисты отчалили, боясь опоздать на последнюю маршрутку, способную доставить их в городскую квартиру за 27 рублей с носа, а не как такси, за 250.
Леха, по-братски прощаясь, хлопал Джима по спине.
– Ты ведь свистун! – обличал он радостно, чувствуя прилив сил от того, что Джим ему не противоречит, или от шести вспыхнувших коньячных звезд, или вообще от хорошего настроения, которое с ним случилось.
– Русские cholo, – индеец фыркнул, как лошадь, через толстые губы вслед ушедшей паре.
– Ты же умный человек, а в бубен бьешь, ходишь, как павлин в перьях, – теперь уже Ромка вызывал кечуя на откровенный разговор, и женщины поддержали. Всем хотелось услышать, что ответит эквадорец. Или снова отшутится? Или вытянет из кармана пушистого кролика?
– А я выбираю? – Джим вольготно откинулся на спинку стула, чуть не опрокинувшись, ибо задние ножки погрузились глубже во влажную землю.
– Мы не борцы за права индейцев, – продолжил Джим. – У индейцев нет никаких прав. Нет права выбора. Ни у кого нет никаких прав.
– Ну… меня есть права на вождение машины, – осторожно вставила Женщина-С-Бурой-Головой.
– Правильно! У меня тоже есть какие-то… бумаги, rubbish2. Но я не выбираю. Как это объяснить? Все права у богов. У человека нет никаких прав. Сила – это знание.
Он еще более оживился:
– Я могу быть плохой или хороший. Думать о себе хорошо или плохо, I am fine or fuck you. Все права у богов. Или у богинь. У нас есть богини, которых нет у вас. Но прав нет ни у кого из нас ни сегодня, ни завтра днем, ни послезавтра вечером. Богиня придёт, – заключил он беспечно – так, как если бы ослабил на животе свой узорно-набранный пояс с серебряными цацками. – У человека нет никаких прав на себя, кроме делать всякие глупости – большие или маленькие. Я говорю, потому что обладаю знанием. В следующей жизни я буду философом, мудрецом, миллионером, а пока что я циркач, музыкант, бродяга, потомок великого русского композитора, – рот его расплылся в широкой, жесткой улыбке, словно помогающей нам понять его правду.
– Кто хочет знания? – сказал вдруг Джим.
– Ну давайте я, – ответил за всех Ромка, что вышло естественно и по-своему логично – он ведь уже прошел один обряд посвящения у племени навахо, ему хоть бы хны, одним обрядом больше, другим меньше!
– И мне немного, – попросила Женщина-С-Черной-Головой.
– А с тебя хватит, – заметил индеец. – Обойдёшься.
И заехал Ромке по уху, влупил с размаху всей своей широкой, эквадорской ладонью, со всей нечинящейся, южноамериканской дури, так, что послышался смачный хлопок.
Ромка заорал, точнее, он вскрикнул и схватился за ухо.
– Я не виноват, – запричитал индеец, готовый попятиться.
– Ты дал мне по уху! – воскликнул Ромка.
– Я открыл канал, – забубнил индеец, озирая всех исподлобья, понимая, что натворил совсем уж что-то не то, но при этом не сдаваясь. – Теперь ты будешь свободен в своих поступках. А был закупорен. Мы видели это.
– Кто это видел? – пришел я на помощь другу.
– Я, – поднял руку Койот Антонио, сократив сакраментальную реплику до единого слова.
– И я, – Малыш перекрестился, как крестятся католики.
– Лол, – отреагировала Женщина-С-Бурой-Головой.
Черноголовая засмеялась, как будто это не её любимому человеку нанесли оскорбление, и напрасно прикрыла ладонью рот.
– Я не хотел его бить, – оправдывался Чайковский. – Он сам меня попросил об этом.
– Я чего-то не слышал, – обиженно сказал Ромка, менеджер выше среднего звена.
– А я слышал, – отозвался Малыш.
– И я, – брякнул Антонио.
– Мы все просим у жизни что-то, не называя, просим так, что не слышим самих себя. У нас в ушах пробки, в глазах затычки. Ты скоро почувствуешь – я открыл канал! – продолжал индеец, уже смекая, что не побьют и не выгонят.
Стало темно, во мраке выделялись высокие, круглые шапки гортензий, горело окно у старика Тимофеева, а потом все услышали, как прошел поезд – возвращающийся из Кинешмы "орлан" из двух вагонов. Угли в мангале погасли и почернели. Антонио на задворках странно тискался с Малышом – они как будто о чем-то спорили. Но спорить – спорьте, а зачем одному щипать другого за ягодицы? Разве это аргумент?
От Джима не ускользнуло моё внимание к парочке, ищущей уединения, и он объяснил так легко и толково, как ему вообще давались все объяснения:
– Они не гомики, ты не думай.
Я сделал вид, что я и не думаю, что ты.
– Просто лень искать женщину, – пояснил Чайковский. – Очень ленивы. До идиотизма. Зачем я с ними таскаюсь – сам не в курсе. Играют они неважно, – признался Джим. Его губы как будто стали еще толще и мяснее. Возможно, в нем текла доля негритянской крови.
Джим – имя хороших негров и выдающихся служебных собак из советского кинематографа.
– С наших свадеб таких музыкантов гнали бы в шею. Очень ленивы и немузыкальны. Не слышат инструменты. Всё держится на мне. Поэтому они и злы на меня, что мне никогда ничего не лень.
11.
Год был неяблочный – деревья отдыхали, и Рома рассчитывал их порядком опилить. Если бы не индейцы, он бы уже сегодня занялся этим, таскаясь с лестницей с одной стороны яблони на другую, от дерева к дереву, замазывая аккуратные кружочки спилов садовым варом, – хозяин плантации, просвещенный культиватор.
У Ромки с детства был крайне интеллигентный вид, породистый, некомичный, задиры и хулиганьё к нему не придирались. Сын обеспеченных родителей, он имел компакты, когда у всех были только магнитофонные кассеты, носил "гриндера" с металлическими вставками, не форся этим, – чувство собственного достоинства не позволяло ему задаваться; разбирался в одежде (знал, что купить и где будет дешевле), любил умные, сатирические книги вроде Войновича и Булгакова, играл в студенческий КВН, имел успех у противоположного пола, но не стремился за легкими победами – он и в этом отношении был чистоплотен и сдержан, хотя отнюдь не холоден.
По завершению университета, получив красный диплом экономиста, он двинул в Америку – в ту самую поездку, которая потом на долгие годы стала для него визитною карточкой. Тогда он удивил не только всех остальных, но и самого себя. " Эк занесло, на всю жизнь запомню", – думал он на заправке, когда водила, согласившийся подвезти его автостопом, отошел в забегаловку за сэндвичами и кофе. "Это было, как закрыть глаза и прыгнуть с парашютом. Вообще не знаешь, чего произойдёт – крокодил ногу откусит или мексиканец в карман залезет". Ромка немного перегибал с описаниями, но потрясение, пережитое им, было подлинным потрясением. Он смотрел на вещи трезво и твердо, но жил в постоянном состоянии миража, недоумении, как такое может быть: Виргиния, Каролина, резервация навахо… Ромка тогда далеко перешагнул за собственную нормальность. Не скажу, что после поездки он сильно изменился. Ну вышел из колеи – ну вошел в колею. Возможно, по молодости всё прошло гладко. Теперь он был "менеджером выше среднего звена" и рассказы о путешествии, о его одиссее из Нью-Йорка в Майями, в "немыслимую Флориду", если пользоваться терминологией Артюра Рембо, как бы оправдывали Ромку в собственных глазах, делали интересным, необуржуазившимся, как будто тот дальний свет, то золотое эхо до сих пор исповедовали и причащали его к мифическому ордену легендарных аргонавтов.
Вторым разом, когда Ромкина "нормальность" дала разбойную трещину, стал его роман с Женщиной-С-Черной-Головой. Мы думали – это у них недолго, страсть, баловство, но они всё жили и жили вместе. Счастливые? Несчастливые? – всего понемногу.
В данную минуту Ромка стоял в одиночестве под яблонями, но вовсе не чувствовал себя одиноким. Он пошел проводить свою подругу до дома, но не спешил возвращаться к нам – туда, где хороводил неугомонный, буролицый Джим, не потому что мы ему надоели или ему отчего-то стало плохо или тоскливо с нами – наоборот, Ромке было хорошо, и ему хотелось задержать в себе это чувство, осознать, просмолиться им. На бугре чернели сосны, и Ромке казалось, что он слышит, как ветер свистит в иголках.
– Русский? – услышал он.
А? Чего?.. – так реагирует человек спросонья.
– Русский, – перед Романом из темноты возник впалощекий молчальник Антонио. С настойчивой мягкостью он тронул Ромку за рукав:
– Разговор есть. Есть мысль, power, – индеец как бы умолял. Требовал.
– А ты, оказывается, говорящий.
– Русский… Ты получил от старшего знания. Ты должен ему двенадцать штук – это небольшие деньги. Ему они стоили гораздо дороже. Нам надо менять обувь машины…
– Колеса, – Ромка заперся в надменность.
– Да, колеса. Нам надо ехать, далеко, дальше, – индеец говорил уже как-то торжественно. – Ты получил от старшего силу. Двенадцать – недорого. Ты хороший русский.
– А ты, как видно, плохой индеец, – Ромка прищурился, глядя вымогателю прямо в глаза.
– Конечно, плохой, бедный.
"Я не хотел давать ему денег, – пояснял потом Ромка. – Он не угрожал мне. Мой мозг сопротивлялся, но в то же время я четко почувствовал, что должен ему. Я ощутил это как бы… целиком – не только головой (голова сдалась в последнюю очередь), а животом, ногами, руками, ключицами, мизинцами, мышцами таза, опорно-двигательным аппаратом, короче, всем собой. И душой, и телом, – выдохнул Ромка, когда, наконец, затяжное, ищущее за что схватиться словоблудие привело его к ёмкой, конкретной формулировке. – Я это понял как закон природы и я согласился. Пусть будет двенадцать штук. Я не уступил".
Вот как бывает. Есть вещи, стоящие треть зарплаты, и это не новый музыкальный центр.
Спустя пару месяцев Ромка по горящей путёвке сорвался в Индонезию, на остров Ява – бродил по вулканам, пил чай с остывшим пеплом, ночевал в лесных хижинах, покрытых соломой, привёз мне с побережья костяной гарпун. Он купался в индийском океане, и морской ёж вонзил в него иголки.
Что считать миражом?
Областная газета – даже на появившемся у неё интернет-сайте и страничке "вконтакте", – на этот раз ни строчкой не обмолвилась о повторной встрече Романа с индейцами, о нелепой оплеухе, которую тот получил, но мы-то о ней знали, верили в неё, и от этого все истории (и старые, и новые – про Америку или Яву), байки, воспоминания звучали отличительно свежо и оригинально, как пятнадцать лет назад, словно их заново окинул и наполнил солнечный луч, пробившийся из чужой, вероломной страны с зажравшимися, тупорылыми кайманами и желтыми реками, из долбанных пуэбло и джунглей, с нелюдимых отрогов гор и маисовых плантаций.
Интересный факт – когда все наелись и допили коньяк (даже тот, который я со всем усердием пытался заначить), когда тихий наглец Антонио обналичил у Романа сомнительный должок за полученную "силу" и снял, наконец, свою шутовскую, шерстяную шапчонку, когда Малыш о чем-то цинично и нетерпеливо ворковал на заднем сиденье подержанного "рено", когда угли в мангале окончательно почернели и погасли, а индейцы уехали, навсегда покинув уголок невзрачного, по-рубцовски осеннего СНТ, – Женщина-С-Черной-Головой ехала с ними. Она была одновременно у себя дома, на даче в пяти минутах ходьбы от нашей, и ехала с ними. Теперь я могу сказать правду – в рассказе было две Женщины-С-Черной-Головой. Одна большую часть рассказа сидела напротив Джима, рядом со своим гражданским мужем – "менеджером выше среднего звена", а вторая – богатырша и великанка – всё время стояла за спиной у толстого, болтливого кечуя и в нужный момент толкнула его руку, чтобы всё получилось.
сентябрь 2022 – январь 2023
1 у эквадорцев – чурбан, деревенщина
2 Дрянь, ерунда, мелочёвка (англ).



