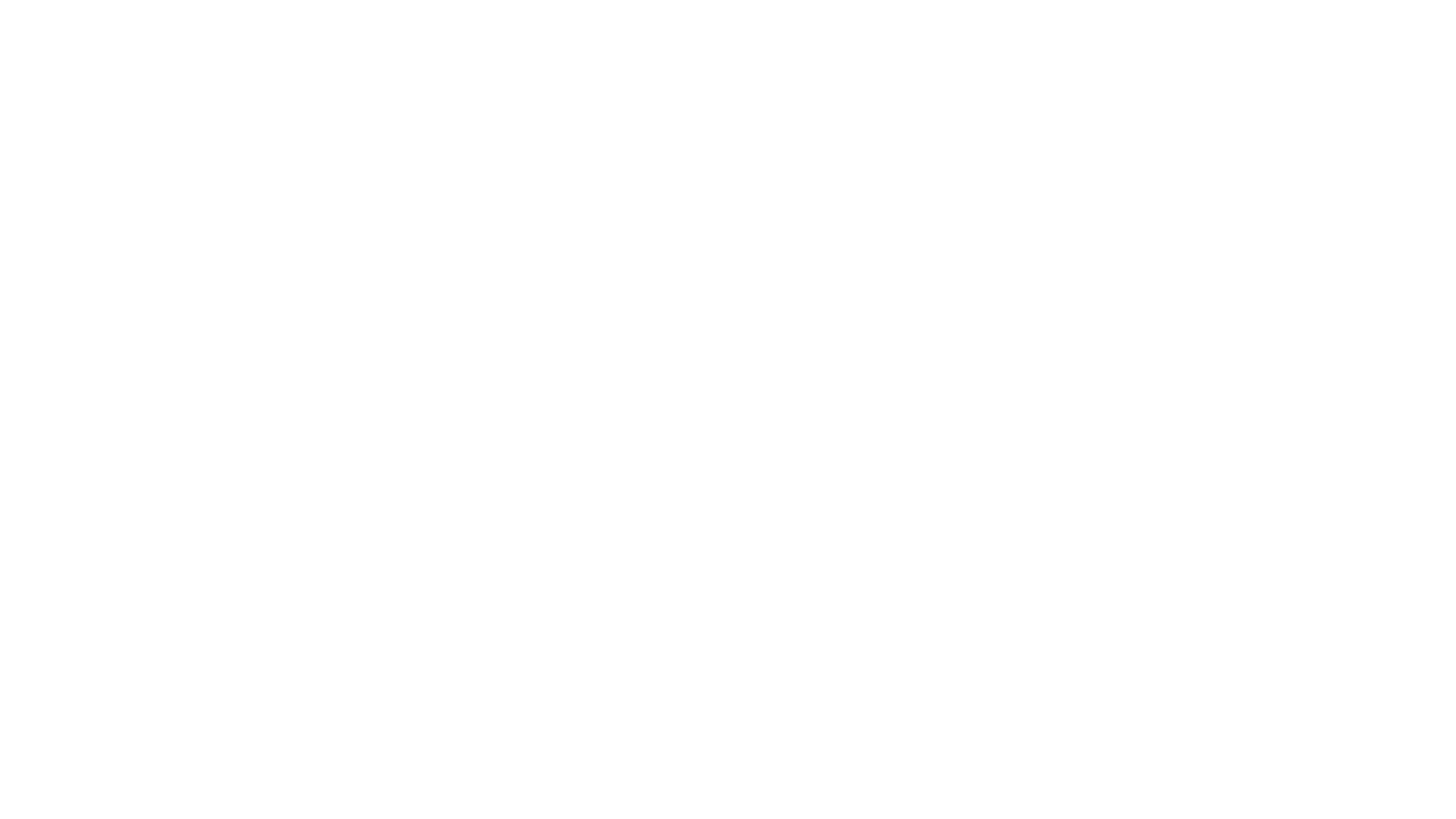
Глазами редактора: стихи 2023 года
Есть стихи, которые хочется унести с собой. О которых хочется говорить и молчать. В этой рубрике редакторы журнала «Пролиткульт» делятся стихами, которые стали для них поэтическим открытием 2023 года, и своими впечатлениями о них. Мы начинаем растить наш лес. Каждое стихотворение-деревце бережно высаживаем в почву. Рассказываем, почему именно оно.
Алексей Дьячков
(Новая Юность, 5/2023)
Смена
Не будет тополь марлей занавешен,
А тихий сквер до белой пыли стерт,
Когда из хирургического фельдшер
Отпустит отоспаться медсестер.
Докатятся глухая боль и горе
До девочек, дымящих на крыльце,
Унылым причитаньем в коридоре,
Отчаянными хрипами во сне.
Печально листья смахивает дворник,
Стажеры на тележке катят груз —
На чем ни сконцентрируется Оля,
Во всем тоска виднеются и грусть.
Подруга затянулась и застыла,
Промолвить не успела: Тихо тут…
Ее лицо и пальцы форму дыма
Прозрачного вот-вот приобретут.
(Новая Юность, 5/2023)
Смена
Не будет тополь марлей занавешен,
А тихий сквер до белой пыли стерт,
Когда из хирургического фельдшер
Отпустит отоспаться медсестер.
Докатятся глухая боль и горе
До девочек, дымящих на крыльце,
Унылым причитаньем в коридоре,
Отчаянными хрипами во сне.
Печально листья смахивает дворник,
Стажеры на тележке катят груз —
На чем ни сконцентрируется Оля,
Во всем тоска виднеются и грусть.
Подруга затянулась и застыла,
Промолвить не успела: Тихо тут…
Ее лицо и пальцы форму дыма
Прозрачного вот-вот приобретут.

Мария Затонская
поэт, главный редактор журнала
Дьячков вполне себе сюжетный поэт. В этом стихотворении многое происходит во внешнем мире, события движутся от точки А к точке Б. В событиях участвуют персонажи: иногда их мало, иногда много. Несмотря на то, что здесь названы всего четыре героя – фельдшер, две медсестры (Оля и её подружка) и дворник, – людей в пространстве стихотворения значительно больше. Это и стажёры, которые катят хтонический груз на тележке, и те, чьи боль, горе и хрипы разносятся по коридору.
Главную сюжетную трансформацию здесь претерпевает пространство. Вначале представленное в виде лирического сквера, оно сужается до коридора больницы, а потом возвращается вовне, на крыльцо, в расширенную перспективу – в умиротворящий природный ландшафт. Причем это внешнее пространство, хоть и отличается от внутрибольничного, несет на себе его признаки и приметы:
Печально листья смахивает дворник,
Стажеры на тележке катят груз —
На чем ни сконцентрируется Оля,
Во всем тоска виднеются и грусть.
Пространство тоже действует, оно меняет формы, растет в ширину или сплющивается. Но всё же материал, из которого оно создано, остаётся неизменным. Этот материал – жизнь и смерть.
Следуя за движениями пространства, мы совершаем рывок в конце стихотворения – по вертикали, вверх.
Подруга затянулась и застыла,
Промолвить не успела: Тихо тут…
Ее лицо и пальцы форму дыма
Прозрачного вот-вот приобретут.
Пока персонажи и элементы пейзажа остаются на плоскости – сигаретный дым направляет наш взгляд вверх. И это – то же самое пространство, только угол зрения другой: вот уже и небо видно, хотя оно и не упомянуто. И несмотря на то, что эта часть о смерти – об исчезающей девочке, пойманной в мгновении полураспада, – именно вертикаль дыма уводит нас от присущей всему сущему конечности.
Пространство делает все свои геометрические выкрутасы вокруг трех основных точек: тополя, сквера, крыльца больницы. Почти как блоковские ночь-улица-фонарь-аптека. У Блока, правда, статика декларирует статику, а Дьячков утверждает статику посредством витиеватой динамики, которая пульсирует, как музыка, оттого мир стихотворения и сложнее, и тоньше, чем кажется на первый взгляд.
Статика здесь явлена не в том, что написано (написано-то как раз обратное), а в том, что не написано («не будет тополь марлей занавешен»). Такой вот фокус – самое главное осталось за пределами стихотворения. В том самом месте, куда уплывает дым. Оно воплощает статику в полном объёме: небо – куда ни глянь – всюду оно. И его невыраженность речью, языком, но при этом полная проявленность в стихотворении и делают приближение к великой тайне возможным. Так, будто если назовёшь, этим названием украдёшь его первозданный смысл, сузишь его до определения в словаре.
Это великое неназванное, неналичествующее в стихотворении на языковом уровне, – сильнее жизни и смерти – незыблемых веществ пространства, содержащихся в каждом его элементе. То, что существует, то, что названо, подлежит старению и распаду. А то, что не названо, – удалось сберечь. Потому и не больно. Потому стихотворение и длится ещё долго после того, как его не раз прочитаешь.
Главную сюжетную трансформацию здесь претерпевает пространство. Вначале представленное в виде лирического сквера, оно сужается до коридора больницы, а потом возвращается вовне, на крыльцо, в расширенную перспективу – в умиротворящий природный ландшафт. Причем это внешнее пространство, хоть и отличается от внутрибольничного, несет на себе его признаки и приметы:
Печально листья смахивает дворник,
Стажеры на тележке катят груз —
На чем ни сконцентрируется Оля,
Во всем тоска виднеются и грусть.
Пространство тоже действует, оно меняет формы, растет в ширину или сплющивается. Но всё же материал, из которого оно создано, остаётся неизменным. Этот материал – жизнь и смерть.
Следуя за движениями пространства, мы совершаем рывок в конце стихотворения – по вертикали, вверх.
Подруга затянулась и застыла,
Промолвить не успела: Тихо тут…
Ее лицо и пальцы форму дыма
Прозрачного вот-вот приобретут.
Пока персонажи и элементы пейзажа остаются на плоскости – сигаретный дым направляет наш взгляд вверх. И это – то же самое пространство, только угол зрения другой: вот уже и небо видно, хотя оно и не упомянуто. И несмотря на то, что эта часть о смерти – об исчезающей девочке, пойманной в мгновении полураспада, – именно вертикаль дыма уводит нас от присущей всему сущему конечности.
Пространство делает все свои геометрические выкрутасы вокруг трех основных точек: тополя, сквера, крыльца больницы. Почти как блоковские ночь-улица-фонарь-аптека. У Блока, правда, статика декларирует статику, а Дьячков утверждает статику посредством витиеватой динамики, которая пульсирует, как музыка, оттого мир стихотворения и сложнее, и тоньше, чем кажется на первый взгляд.
Статика здесь явлена не в том, что написано (написано-то как раз обратное), а в том, что не написано («не будет тополь марлей занавешен»). Такой вот фокус – самое главное осталось за пределами стихотворения. В том самом месте, куда уплывает дым. Оно воплощает статику в полном объёме: небо – куда ни глянь – всюду оно. И его невыраженность речью, языком, но при этом полная проявленность в стихотворении и делают приближение к великой тайне возможным. Так, будто если назовёшь, этим названием украдёшь его первозданный смысл, сузишь его до определения в словаре.
Это великое неназванное, неналичествующее в стихотворении на языковом уровне, – сильнее жизни и смерти – незыблемых веществ пространства, содержащихся в каждом его элементе. То, что существует, то, что названо, подлежит старению и распаду. А то, что не названо, – удалось сберечь. Потому и не больно. Потому стихотворение и длится ещё долго после того, как его не раз прочитаешь.
Владимир Салимон
(Новый мир, 2/2023)
* * *
Есть в нашем городе река,
иль нет её на самом деле,
коль пароходного гудка
я здесь не слышал с колыбели?
Сквозь сон я слышал бой часов
на Спасской башне,
с Каланчёвки
был слышен рокот поездов
и звон трамваев на Покровке.
А пароходов не слыхал
гудков тревожных и протяжных,
и моряков я не видал
вблизи Москва-реки отважных.
Мне нянька старая моя
рассказывала, что видала
однажды батюшку Царя,
однажды Ленина слыхала.
Чего не скажешь обо мне —
безмерно повезло старухе.
Я вижу только — тьму в окне.
И слышу шум ноябрьской вьюги.
(Новый мир, 2/2023)
* * *
Есть в нашем городе река,
иль нет её на самом деле,
коль пароходного гудка
я здесь не слышал с колыбели?
Сквозь сон я слышал бой часов
на Спасской башне,
с Каланчёвки
был слышен рокот поездов
и звон трамваев на Покровке.
А пароходов не слыхал
гудков тревожных и протяжных,
и моряков я не видал
вблизи Москва-реки отважных.
Мне нянька старая моя
рассказывала, что видала
однажды батюшку Царя,
однажды Ленина слыхала.
Чего не скажешь обо мне —
безмерно повезло старухе.
Я вижу только — тьму в окне.
И слышу шум ноябрьской вьюги.

Ксения Малышева
прозаик, журналист, соведущая подкастов «Пролиткультотбор» и «Причина искусства»
Стихотворение «Есть в нашем городе река» открывает подборку «Доверься сердцу» Владимира Салимона, опубликованную в «Новом мире» №2, 2023[1]. Это неспешное и вдумчиво-тревожное осмысление быстро меняющейся действительности — мысли вслух, заземлённые в тексте с помощью простых и понятных образов, узнаваемого городского пейзажа. Но пароходы, поезда и трамваи — только прорисованные контуры предметов в туманном пространстве то ли сна, то ли воспоминания.
Отличительная черта поэтики Салимона — эволюция повседневности: он описывает незначительные, на первый взгляд, вещи и явления, но они обретают особый смысл, когда происходит столкновение с необратимостью уходящего времени. И тут рождается иное восприятие: всё имеет значение — каждый штрих, движение, звук.
В стихах Салимона много звуков: он выделяет их в общем жизненном потоке, ловит сигналы, трансформирует и создаёт цельные образы. Случайные детали, собранные вместе — «бой часов на Спасской башне», «рокот поездов», «звон трамваев» и «тревожные гудки» — рисуют пространство города. Привычный быт, преобразуясь через личные переживания, ассоциации и удивительную чуткость поэта, выходит на новый, метафизический уровень. Это простое и размеренное движение текста, без давления и вычурности поэтических приёмов.
Кажется, что Салимон прежде всего воспринимает мир на слух, а уже потом сверяется с тем, что успели запечатлеть глаза. Звучание становится важным и необходимым свойством всего живого. Но река, которой поэт уделяет особое внимание в начале стихотворения, пустынна и беззвучна, будто совсем исчезла. Какие призраки прошлого затеряны в её глухой, тёмной глубине? И были ли они — пароходы и моряки — если «пароходного гудка я здесь не слышал с колыбели»? Река – умолкшая и призрачная, может указывать на внутреннюю инертность лирического героя или даже его бессилие.
«А пароходов не слыхал\ гудков тревожных и протяжных…» – рождается тревога и нарастает напряжение. Кажется, что кому-то другому повезло соприкоснуться в своей жизни с чем-то значительным, а сам лирический герой будто зависает в настоящем моменте в одной точке – на конце плотно сжатого пружинного завитка. «Я вижу только — тьму в окне. И слышу шум ноябрьской вьюги»: что скрывается в этой тьме и снежном хаосе? Внутренняя потерянность, невнятный голос современной эпохи или неумолимо нарастающее бедствие?
Стихи Салимона редко заканчиваются на последней строчке. Так и здесь: кажется, что «тёмная материя» за окном продолжает расширяться. Окно — как хрупкая грань между реальностью и сном, жизнью и смертью. Есть ли что-то после? Примечательно, что Салимон продолжает эту тему в других стихах:
…но мы во мраке различали
свет белый, словно белым днём.
Не нужно темноты бояться.
И за чертой в кромешной тьме
мелькнёт луч света, может статься,
как мысль счастливая в уме.
Свет в стихах Салимона — чаще всего едва уловимый, скрытый, камерный. Как светящийся круг от настольной лампы, повернутой к темной стене. И всегда остаётся право выбора: наблюдать за пугающей темнотой со стороны, или вглядеться во тьму, чтобы однажды увидеть, как сквозь её глухую, плотную пелену пробивается пульсирующее свечение.
_________________
[1] https://nm1925.ru/articles/2023/02-2023/doversya-serdtsu/
Отличительная черта поэтики Салимона — эволюция повседневности: он описывает незначительные, на первый взгляд, вещи и явления, но они обретают особый смысл, когда происходит столкновение с необратимостью уходящего времени. И тут рождается иное восприятие: всё имеет значение — каждый штрих, движение, звук.
В стихах Салимона много звуков: он выделяет их в общем жизненном потоке, ловит сигналы, трансформирует и создаёт цельные образы. Случайные детали, собранные вместе — «бой часов на Спасской башне», «рокот поездов», «звон трамваев» и «тревожные гудки» — рисуют пространство города. Привычный быт, преобразуясь через личные переживания, ассоциации и удивительную чуткость поэта, выходит на новый, метафизический уровень. Это простое и размеренное движение текста, без давления и вычурности поэтических приёмов.
Кажется, что Салимон прежде всего воспринимает мир на слух, а уже потом сверяется с тем, что успели запечатлеть глаза. Звучание становится важным и необходимым свойством всего живого. Но река, которой поэт уделяет особое внимание в начале стихотворения, пустынна и беззвучна, будто совсем исчезла. Какие призраки прошлого затеряны в её глухой, тёмной глубине? И были ли они — пароходы и моряки — если «пароходного гудка я здесь не слышал с колыбели»? Река – умолкшая и призрачная, может указывать на внутреннюю инертность лирического героя или даже его бессилие.
«А пароходов не слыхал\ гудков тревожных и протяжных…» – рождается тревога и нарастает напряжение. Кажется, что кому-то другому повезло соприкоснуться в своей жизни с чем-то значительным, а сам лирический герой будто зависает в настоящем моменте в одной точке – на конце плотно сжатого пружинного завитка. «Я вижу только — тьму в окне. И слышу шум ноябрьской вьюги»: что скрывается в этой тьме и снежном хаосе? Внутренняя потерянность, невнятный голос современной эпохи или неумолимо нарастающее бедствие?
Стихи Салимона редко заканчиваются на последней строчке. Так и здесь: кажется, что «тёмная материя» за окном продолжает расширяться. Окно — как хрупкая грань между реальностью и сном, жизнью и смертью. Есть ли что-то после? Примечательно, что Салимон продолжает эту тему в других стихах:
…но мы во мраке различали
свет белый, словно белым днём.
Не нужно темноты бояться.
И за чертой в кромешной тьме
мелькнёт луч света, может статься,
как мысль счастливая в уме.
Свет в стихах Салимона — чаще всего едва уловимый, скрытый, камерный. Как светящийся круг от настольной лампы, повернутой к темной стене. И всегда остаётся право выбора: наблюдать за пугающей темнотой со стороны, или вглядеться во тьму, чтобы однажды увидеть, как сквозь её глухую, плотную пелену пробивается пульсирующее свечение.
_________________
[1] https://nm1925.ru/articles/2023/02-2023/doversya-serdtsu/



