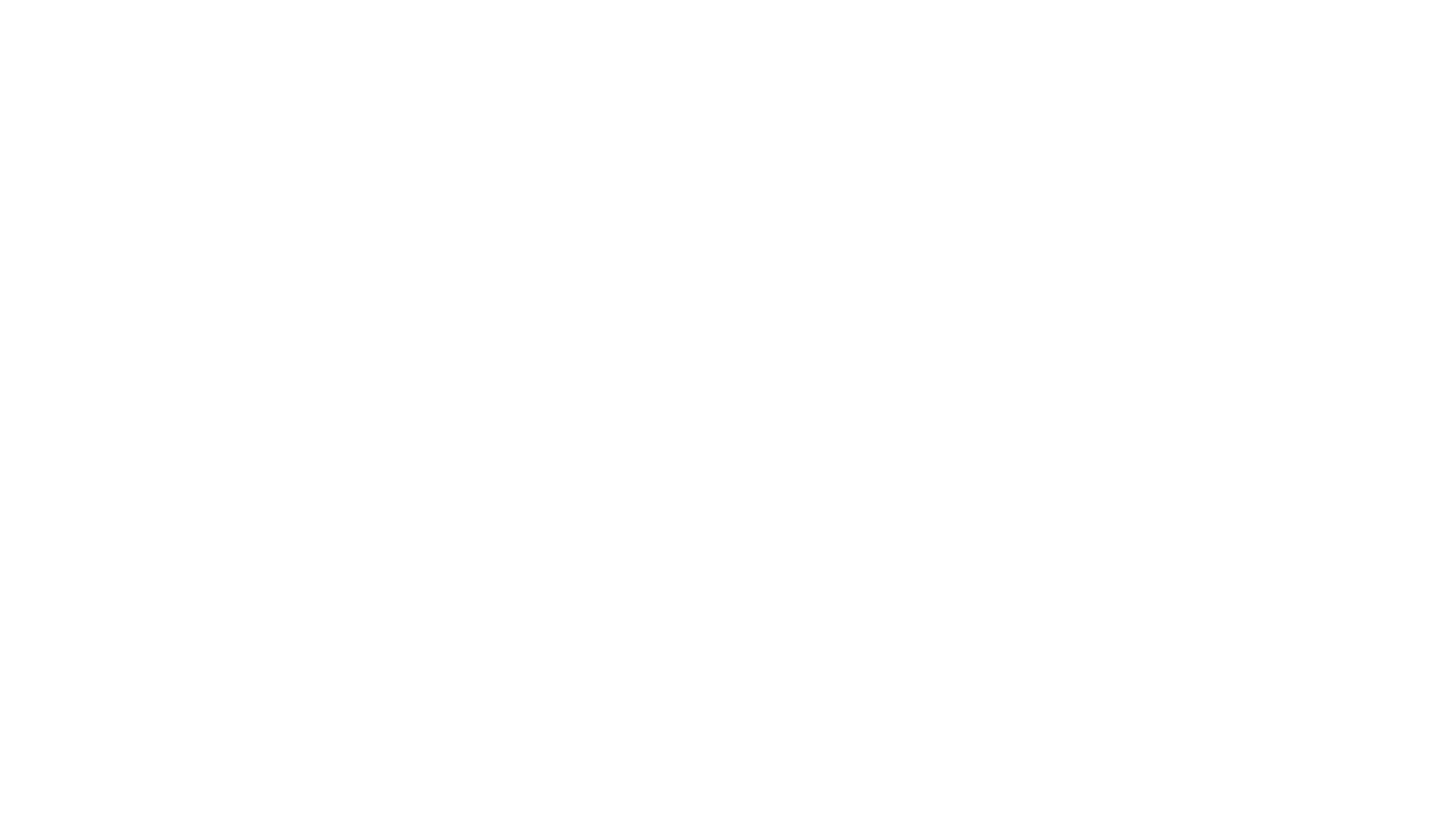
Вячеслав Харченко – Портреты Волошинского
(Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков, Валерий Лобанов, Юрий Кублановский, Кирилл Ковальджи, Андрей Василевский, Владимир Алейников, Светлана Василенко, Саша Соколов, Алексей Пурин, Ирина Евса, Анна Гедымин, Павел Крючков, Ольга Ермолаева, Геннадий Калашников, Александр Тимофеевский, Александр Анашкин, Евгений Степанов)
Вячеслав Харченко – прозаик, поэт. Родился в 1971 году в Краснодарском крае, детство и юность провел в г. Петропавловске-Камчатском, окончил МГУ имени М. В. Ломоносова. Член Союза писателей Москвы и Русского Пен-центра. Печатался в толстых литературных журналах: Знамя, Октябрь, Волга, Арион и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса и премии журнала «Зинзивер». Автор шести книг прозы. Рассказы переводились на немецкий, английский, китайский и турецкий языки. Живет в Симферополе.
Вместо предисловия
Вместо предисловия
Мария Затонская попросила написать меня критическую статью об ушедших поэтах Волошинского фестиваля. Я отказался. Во-первых, ушедших поэтов не существует, они живут, если это были поэты. Во-вторых, я не критик, стихи я помню неотчетливо, скорее, как вспышки, строки у меня путаются, голоса, произносившие эти строки, перемешиваются, что я о них могу написать критического, к тому же я не филолог, к тому же сказали, что это должно быть не эссе. Отправил Марию Затонскую к Герману Власову, но Герман Власов вернул Марию ко мне обратно.
Волошинский фестиваль организовал Андрей Коровин. Ему помогали. Например, Наталия Мирошниченко, заместитель директора Дома-музея Волошина. Основные участниками были так называемые поэты сетевые, поэты круга Рукомоса и ЛИТО Пиитер. Именно они и ездили в Крым читать свои стихи, именно они и подавали свои работы на рассмотрение жюри, высокого Ареопага, но всегда, на протяжении всей 22-летней жизни Волошинского фестиваля, его участниками также являлись и высокие гости, поэты, создавшие себе имя намного ранее, поэты на поколение старше нас. Им сейчас лет по 65-70, кто-то из них уже ушел из жизни, кто-то еще здравствует и активно пишет. Они приезжали как гости или как члены жюри, они вели свои мастер-классы, они читали с уютной сцены Дома-музея Волошина свои стихи, некоторые вели активный образ жизни, кто-то был затворником и интровертом. Вот об этом поколении волошинцев мне бы и хотелось написать. Есть такое модное словечко: хедлайнер. Вот о них и напишу. Пусть не обижаются мои друзья молодости и просто друзья, но писать я буду о тех, кого знал мало, скорее, по касательной. Смутные впечатления, а не суровая правда жизни. Яркие картинки. Портреты без стихов. Называть я их буду по имени. Это не панибратство, а данность. Мы же не называем Есенина – Сергей Александрович, а называем просто Сергей. Мои впечатления – это скорее заметки, чем связная речь, чем эссе или критическая статья, тем более филологическое научное исследование.
Волошинский фестиваль организовал Андрей Коровин. Ему помогали. Например, Наталия Мирошниченко, заместитель директора Дома-музея Волошина. Основные участниками были так называемые поэты сетевые, поэты круга Рукомоса и ЛИТО Пиитер. Именно они и ездили в Крым читать свои стихи, именно они и подавали свои работы на рассмотрение жюри, высокого Ареопага, но всегда, на протяжении всей 22-летней жизни Волошинского фестиваля, его участниками также являлись и высокие гости, поэты, создавшие себе имя намного ранее, поэты на поколение старше нас. Им сейчас лет по 65-70, кто-то из них уже ушел из жизни, кто-то еще здравствует и активно пишет. Они приезжали как гости или как члены жюри, они вели свои мастер-классы, они читали с уютной сцены Дома-музея Волошина свои стихи, некоторые вели активный образ жизни, кто-то был затворником и интровертом. Вот об этом поколении волошинцев мне бы и хотелось написать. Есть такое модное словечко: хедлайнер. Вот о них и напишу. Пусть не обижаются мои друзья молодости и просто друзья, но писать я буду о тех, кого знал мало, скорее, по касательной. Смутные впечатления, а не суровая правда жизни. Яркие картинки. Портреты без стихов. Называть я их буду по имени. Это не панибратство, а данность. Мы же не называем Есенина – Сергей Александрович, а называем просто Сергей. Мои впечатления – это скорее заметки, чем связная речь, чем эссе или критическая статья, тем более филологическое научное исследование.
Бахыт Кенжеев
Бахыт Кенжеев
Бахыта Кенжеева все любили, и он всех любил. Он был на Волошинском фестивале не менее трех раз. Он относился к тем людям, от которых шел свет, которые собирали вокруг себя читателей и поэтов. Он первый из больших авторов дал свои стихи в журнал Рукомоса «Сетевая поэзия» и всегда любил молодость. Кенжеев и был сама молодость. Открытый, смеющийся, веселый, акынный. Он и читал свои стихи со сцены, как акын. Он в такт двигал левой рукой, покачивался, иногда прерывал свое чтение на глоток воды, и я боюсь, что в его бутылочке была отнюдь не вода. Поредевшие его волосы развевались на ветру. Какой-то иконный ареол образовывали его волосы, они шевелились, они сверкали, а он то ли пел, то ли играл на домбре. Акын, что с него взять.
Когда он читал, то казалось, что вся его эмиграция – это дурацкая ошибка, блажь, чушь. Вот где ты есть, вот где ты нужен, вот где ты живешь по-настоящему, вот где твои настоящие читатели. Они сейчас возьмут тебя на руки, вы купите пару бутылочек розового вина «Монте Руж» и после окончания вечера пойдете к морю, слушать море и чаек, купаться, радоваться, петь, читать стихи. И Кенжеев будет читать стихи, возможно, даже не свои, чужие, великих поэтов прошлого, и мы будем читать стихи, а самое главное Кенжеев без какой-либо позы гениальности будет слушать стихи молодых поэтов, а еще, самое главное, не давать им оценки, потому что акын не может давать оценок, он не критик, он философ, а философу, что стихи, что море, что Коктебель, что сияющая бездна, что ночная набережная – все едино.
Ну и романы. Да были романы. Кенжеева любили женщины (и молодые женщины), это нормально. Свет должен тянуться к свету, а женщины – это свет.
Кенжеев лучше всех из известных мне мэтров понимал слово братство. Ты можешь быть дворником, слесарем, врачом, бомжом, мэром, программистом, блогером, ассенизатором, чиновником, но здесь в Крыму, сочинив пару бессвязных строк, мы тебя принимаем в братство поэтов. Вот тебе татарская шапочка, вот тебе бутылка вина, вот тебе шашлык, вот тебе пара веселых подружек, рапаны и креветки – и ты наш, ты вечно наш, тебе от нас не уйти. Ты нас теперь не бросишь. Ты познал. Ты поэт, пусть и сочинил всего две строки, пусть и приехал на последние деньги, пусть ты валяешься в канаве или спишь в отеле Камелия-Кафа, ты наш.
Кенжеев был наш. И все это понимали, и он это понимал, и он понимал, что жизнь поэта бесконечна, даже если ты написал две строки. Даже если ты ничего не написал. Не важно.
А еще Кенжеев вел мастер-классы и был в жюри.
Когда он читал, то казалось, что вся его эмиграция – это дурацкая ошибка, блажь, чушь. Вот где ты есть, вот где ты нужен, вот где ты живешь по-настоящему, вот где твои настоящие читатели. Они сейчас возьмут тебя на руки, вы купите пару бутылочек розового вина «Монте Руж» и после окончания вечера пойдете к морю, слушать море и чаек, купаться, радоваться, петь, читать стихи. И Кенжеев будет читать стихи, возможно, даже не свои, чужие, великих поэтов прошлого, и мы будем читать стихи, а самое главное Кенжеев без какой-либо позы гениальности будет слушать стихи молодых поэтов, а еще, самое главное, не давать им оценки, потому что акын не может давать оценок, он не критик, он философ, а философу, что стихи, что море, что Коктебель, что сияющая бездна, что ночная набережная – все едино.
Ну и романы. Да были романы. Кенжеева любили женщины (и молодые женщины), это нормально. Свет должен тянуться к свету, а женщины – это свет.
Кенжеев лучше всех из известных мне мэтров понимал слово братство. Ты можешь быть дворником, слесарем, врачом, бомжом, мэром, программистом, блогером, ассенизатором, чиновником, но здесь в Крыму, сочинив пару бессвязных строк, мы тебя принимаем в братство поэтов. Вот тебе татарская шапочка, вот тебе бутылка вина, вот тебе шашлык, вот тебе пара веселых подружек, рапаны и креветки – и ты наш, ты вечно наш, тебе от нас не уйти. Ты нас теперь не бросишь. Ты познал. Ты поэт, пусть и сочинил всего две строки, пусть и приехал на последние деньги, пусть ты валяешься в канаве или спишь в отеле Камелия-Кафа, ты наш.
Кенжеев был наш. И все это понимали, и он это понимал, и он понимал, что жизнь поэта бесконечна, даже если ты написал две строки. Даже если ты ничего не написал. Не важно.
А еще Кенжеев вел мастер-классы и был в жюри.
Алексей Цветков
Алексей Цветков
Когда я увидел Алексея Цветкова, то вспомнил Флавия Аэция – последнего римлянина, хотя внешность Алексея Петровича к этому не располагала. Он был худ, небольшого роста. Сед. Нахмурен. Он хромал. У него была палочка. У него была военная кепочка.
Алексея Петровича нельзя было назвать Алексей, он был Алексеем Петровичем. На вечере он читал и ранние стихи. Я запомнил свой любимый стих о Люблинской Московской больнице из книги «Дивно молвить». Понимаете, Цветков был трибуном. Он читал свои стихи, как воззвания, ему было важно отношение зала и отклик читателя, ему всё было важно, любая мелочь, любое движение. Казалось, что Цветков должен быть на баррикадах, в бурлении, в толпе, взывать, он должен владеть умами и нести вечные истины о справедливости, о долге, о любви, о войне, о мире, но читал-то он очень проникновенные лирические стихи, и это несоответствие трибуна и глашатая с лирикой так оглушающе действовало на публику, что оторваться от стихов было невозможно. Он был настоящий карбонарий Великой Французской Революции. И видимо он любил революции, он любил борьбу, споры и поиски. Он был гуманистом в трактовке Западно-Европейской цивилизации. Вольтер. Дидро и пр.
И мастер-классы по поэзии он вел также. Ему было важно сказать истину. Ему было важно, чтобы молодой поэт нашел свой путь к правде и поэзии, и эту правду Алексей Петрович и озвучивал, пускай она и была нелегкой и нелицеприятной. Пускай молодой поэт и страдал. Сейчас, через события, ты понимаешь, что путь к правде тернист и неясен, но вся жизнь Алексея Петровича была путем к правде, как он это понимал, как он понимал правду.
Мне кажется, что хорошие посиделки, доброе вино, приятное женское общество способствовали тому, чтобы Алексей Петрович и дальше писал свои замечательные стихи. Алексей Петрович был тверд, но Крым его смягчил. Мне кажется, последний римлянин чувствовал себя в Крыму как дома. Крым и есть наш дом.
Алексея Петровича нельзя было назвать Алексей, он был Алексеем Петровичем. На вечере он читал и ранние стихи. Я запомнил свой любимый стих о Люблинской Московской больнице из книги «Дивно молвить». Понимаете, Цветков был трибуном. Он читал свои стихи, как воззвания, ему было важно отношение зала и отклик читателя, ему всё было важно, любая мелочь, любое движение. Казалось, что Цветков должен быть на баррикадах, в бурлении, в толпе, взывать, он должен владеть умами и нести вечные истины о справедливости, о долге, о любви, о войне, о мире, но читал-то он очень проникновенные лирические стихи, и это несоответствие трибуна и глашатая с лирикой так оглушающе действовало на публику, что оторваться от стихов было невозможно. Он был настоящий карбонарий Великой Французской Революции. И видимо он любил революции, он любил борьбу, споры и поиски. Он был гуманистом в трактовке Западно-Европейской цивилизации. Вольтер. Дидро и пр.
И мастер-классы по поэзии он вел также. Ему было важно сказать истину. Ему было важно, чтобы молодой поэт нашел свой путь к правде и поэзии, и эту правду Алексей Петрович и озвучивал, пускай она и была нелегкой и нелицеприятной. Пускай молодой поэт и страдал. Сейчас, через события, ты понимаешь, что путь к правде тернист и неясен, но вся жизнь Алексея Петровича была путем к правде, как он это понимал, как он понимал правду.
Мне кажется, что хорошие посиделки, доброе вино, приятное женское общество способствовали тому, чтобы Алексей Петрович и дальше писал свои замечательные стихи. Алексей Петрович был тверд, но Крым его смягчил. Мне кажется, последний римлянин чувствовал себя в Крыму как дома. Крым и есть наш дом.
Валерий Лобанов
Валерий Лобанов
После чтения прозы на Волошинском ко мне подошел сухой и задумчивый человек. Лицо его было грустным, но глаза очень теплыми. Он дернул меня за руку и, даже не поздоровавшись, что-то достал из брезентовой сумки. Это была 150 граммовая медицинская мензурка.
– На, – сказал он мне.
Я опешил, но, собравшись с мыслями, произнес:
– Что это?
– Чистый спирт, – произнес незнакомец.
– Я не пью, – ответил я. К сожалению, у меня был период в лет пять, когда я не пил. Потерянные годы.
Незнакомец удивился. На его лице отобразилась невидимая борьба.
– Бери, – ласково сказал он мне.
– Бери, бери, – еще более ласково повторила женщина, стоявшая за плечом незнакомца. Видимо, его жена.
– Не могу, я не пью, – ответил я решительно.
Незнакомец удивился и расстроился.
Но тут ко мне подбежал Саша Переверзин:
– Ты что, – воскликнул он.
– Чего, – ответил я непонимающе.
– Это же Валера Лобанов. Последний раз он давал спирт Саше Соколову и Саше Николаенко.
Валерий Лобанов – уникальный русский поэт и читатель, что редко сочетается в одном человеке. Он медик, работал на скорой помощи, сейчас на пенсии. Кроме прекрасных стихов, он отличается необычайной бережностью ко всему, что дышит в русской поэзии и прозе.
Валера читает свои стихи, немного наклонившись вперед. Клетчатая рубашка. Седина. Тихая спокойная лирика. Это тот незаметный быт русского человека, когда он сам не знает, можно ли в это верить. А самое главное, что понимает: незаметность – это обыденность.
Со стихами Валеры Лобанова я познакомился благодаря Саше Переверзину. Нотка Георгия Иванова, но это свой голос. Даже не знаю, что Валера сейчас об этом подумает.
А мензурку мне жаль. Жаль мензурку. И спирт жаль.
– На, – сказал он мне.
Я опешил, но, собравшись с мыслями, произнес:
– Что это?
– Чистый спирт, – произнес незнакомец.
– Я не пью, – ответил я. К сожалению, у меня был период в лет пять, когда я не пил. Потерянные годы.
Незнакомец удивился. На его лице отобразилась невидимая борьба.
– Бери, – ласково сказал он мне.
– Бери, бери, – еще более ласково повторила женщина, стоявшая за плечом незнакомца. Видимо, его жена.
– Не могу, я не пью, – ответил я решительно.
Незнакомец удивился и расстроился.
Но тут ко мне подбежал Саша Переверзин:
– Ты что, – воскликнул он.
– Чего, – ответил я непонимающе.
– Это же Валера Лобанов. Последний раз он давал спирт Саше Соколову и Саше Николаенко.
Валерий Лобанов – уникальный русский поэт и читатель, что редко сочетается в одном человеке. Он медик, работал на скорой помощи, сейчас на пенсии. Кроме прекрасных стихов, он отличается необычайной бережностью ко всему, что дышит в русской поэзии и прозе.
Валера читает свои стихи, немного наклонившись вперед. Клетчатая рубашка. Седина. Тихая спокойная лирика. Это тот незаметный быт русского человека, когда он сам не знает, можно ли в это верить. А самое главное, что понимает: незаметность – это обыденность.
Со стихами Валеры Лобанова я познакомился благодаря Саше Переверзину. Нотка Георгия Иванова, но это свой голос. Даже не знаю, что Валера сейчас об этом подумает.
А мензурку мне жаль. Жаль мензурку. И спирт жаль.
Юрий Кублановский
Юрий Кублановский
Юрий Кублановский на Волошинский фестиваль приезжал один раз, в 2015 году. До этого я слушал его стихи в Москве, в 1998 году в студии «Луч» Игоря Леонидовича Волгина. После возвращения Юрия Михайловича из эмиграции он представлял свою книгу «Число» – лучшие его стихи за 60-90 годы. Кублановский читал вдумчиво. Он и в 2015 году на Волошинском читал вдумчиво. Орнаментальный стих Кублановского сразу же захватывал слушателя, но в него надо было войти, как входишь в поток чего-то неизвестного, но притягательного. Над всеми его стихами витал дух какого-то прекрасного заряженного действа. Кто-то сказал «византийства». Довольно высокий ростом, он читал загадочно и с паузами. Рядом с ним сидел Андрей Поляков.
В Партените в Крыму живет давняя подруга его семьи Ольга Дарфи. В 2024 году Кублановский с семьей приезжал к ней в Партенит и оставил книги с автографами моим Симферопольским друзьям – прозаику Александру Барбуху и поэту Андрею Полякову.
В Партените в Крыму живет давняя подруга его семьи Ольга Дарфи. В 2024 году Кублановский с семьей приезжал к ней в Партенит и оставил книги с автографами моим Симферопольским друзьям – прозаику Александру Барбуху и поэту Андрею Полякову.
Кирилл Ковальджи
Кирилл Ковальджи
Кирилла Ковальджи тоже все любили, но если Кенжеева любили как брата, то Кирилла Владимировича как учителя. Он вел свою студию молодых поэтов в Москве, и в Коктебеле органично продолжил эти занятия на мастер-классах. Живой и обаятельный, он легко и искренне говорил о главном.
В 2008 году мы ехали с фестиваля практически в одном купе. Ну как в одном купе. В одном купе с ним ехали Герман Власов и Андрей Коровин, а я бегал к ним из своего купе, в котором ехал с главным редактором «Нового мира» Андреем Витальевичем Василевским.
Мы вели поэтические беседы. В процессе беседы Андрей Коровин заговорщицки достал бутылку массандровского вина «Мускатель», его глаза сверкнули, и он, подмигнув, сказал:
– Мёд.
Так любил говорить о вине покойный наш друг поэт Андрей Новиков.
Мы все (и Ковальджи) согласно закивали – мёд.
В процессе потребления и разговора Кирилл Владимирович вдруг откуда-то, как герой Леонардо де Каприо достал карандаш, вытянул его в руке и произнес:
- А вот что вы Герман Евгеньевич напишете нам об это карандаше.
– Экспромт? – спросил Герман Власов.
– Экспромт, – кивнул Ковальджи.
На лице Германа отразились творческие, поэтические муки. Наконец он выдохнул и произнес:
Я сжимаю в руке карандаш.
Дашь ты мне или не дашь!
Мы все задумались. Экспромт был философский, но грустный. Нам стало тревожно и тоскливо за Германа.
– Нет, нет, – закричал Ковальджи Герману, – не так, – и произнес:
Я сжимаю в руке карандаш.
Дашь ты мне? Дашь, дашь, дашь.
Мы все повеселели. Повеселел и Кирилл Владимирович. Повеселел и Герман.
В 2008 году мы ехали с фестиваля практически в одном купе. Ну как в одном купе. В одном купе с ним ехали Герман Власов и Андрей Коровин, а я бегал к ним из своего купе, в котором ехал с главным редактором «Нового мира» Андреем Витальевичем Василевским.
Мы вели поэтические беседы. В процессе беседы Андрей Коровин заговорщицки достал бутылку массандровского вина «Мускатель», его глаза сверкнули, и он, подмигнув, сказал:
– Мёд.
Так любил говорить о вине покойный наш друг поэт Андрей Новиков.
Мы все (и Ковальджи) согласно закивали – мёд.
В процессе потребления и разговора Кирилл Владимирович вдруг откуда-то, как герой Леонардо де Каприо достал карандаш, вытянул его в руке и произнес:
- А вот что вы Герман Евгеньевич напишете нам об это карандаше.
– Экспромт? – спросил Герман Власов.
– Экспромт, – кивнул Ковальджи.
На лице Германа отразились творческие, поэтические муки. Наконец он выдохнул и произнес:
Я сжимаю в руке карандаш.
Дашь ты мне или не дашь!
Мы все задумались. Экспромт был философский, но грустный. Нам стало тревожно и тоскливо за Германа.
– Нет, нет, – закричал Ковальджи Герману, – не так, – и произнес:
Я сжимаю в руке карандаш.
Дашь ты мне? Дашь, дашь, дашь.
Мы все повеселели. Повеселел и Кирилл Владимирович. Повеселел и Герман.
Андрей Василевский
Андрей Василевский
Андрей Витальевич Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», приезжал на фестиваль не раз. Он выступал с чтением своих стихов и вел мастер-классы, был в жюри.
С ним у меня связано одно забавное воспоминание. В каком-то году мы ехали с ним в одном купе обратно в Москву с Волошинского фестиваля. Купе было почему-то пустым. Мы сидели на нижних полках. Я что-то читал, Набокова или Фаулза «Женщина французского лейтенанта», Андрей Витальевич сидел напротив меня и смотрел в окно. Мелькал степной крымский пейзаж, беленые хатки, желтая безграничность пространства, золотозубые торговки продавали на остановках вареную картошку, огурцы, помидоры, персики и инжир. Жара уже спала, было комфортно, кондиционеров в то время в поездах не было.
Всю дорогу у меня было смутное чувство, что я должен дать Андрею Витальевичу подборку своих стихов для печати в «Новом мире». Перед выездом на фестиваль я распечатал десяток таких подборок и раздавал их в Коктебеле своим друзьям поэтам. Поэты внимательно их читали. И вот теперь мне представился шанс в пустом купе, в молчаливой дорожной обстановке отдать подборку стихов главному редактору «Нового мира» прямо в руки, а не на почтовый электронный адрес, а раз прямо в руки, то их точно прочтут, а если прочтут, то точно напечатают, потому что я считал, что мои стихи нельзя не напечатать.
И вот когда я полез в чемодан за стихами, я вдруг понял всю странность и ненужность этой ситуации. Вот я устал. Возможно, устал даже от стихов. И Андрей Витальевич, возможно, устал. Возможно, устал от стихов, и вот теперь он спокойно едет в Москву, в столицу, тихий и светлый, и никто его не трогает, и никто не дает ему своих стихов. Ему, наверное, хорошо. И мне хорошо. И я тоже еду в Москву. Нам вместе светло и хорошо, хоть и немного печально.
И тогда я подумал и не дал своих стихов Андрею Витальевичу Василевскому. Мы молча доехали до Москвы и только на вокзале, поскрипывая чемоданом, я прошептал:
– До свидания.
И Андрей Витальевич прошептал мне:
– До свидания.
Потом мы виделись в редакции «Нового мира» в Москве и очень тепло всегда здоровались, а однажды, когда мы с Германом Власовым летали читать лекции на Чукотку в Анадырь, он с радостью подарил нам номера журнала Новый мир, чтобы мы представили их далеким чукотским детям.
С ним у меня связано одно забавное воспоминание. В каком-то году мы ехали с ним в одном купе обратно в Москву с Волошинского фестиваля. Купе было почему-то пустым. Мы сидели на нижних полках. Я что-то читал, Набокова или Фаулза «Женщина французского лейтенанта», Андрей Витальевич сидел напротив меня и смотрел в окно. Мелькал степной крымский пейзаж, беленые хатки, желтая безграничность пространства, золотозубые торговки продавали на остановках вареную картошку, огурцы, помидоры, персики и инжир. Жара уже спала, было комфортно, кондиционеров в то время в поездах не было.
Всю дорогу у меня было смутное чувство, что я должен дать Андрею Витальевичу подборку своих стихов для печати в «Новом мире». Перед выездом на фестиваль я распечатал десяток таких подборок и раздавал их в Коктебеле своим друзьям поэтам. Поэты внимательно их читали. И вот теперь мне представился шанс в пустом купе, в молчаливой дорожной обстановке отдать подборку стихов главному редактору «Нового мира» прямо в руки, а не на почтовый электронный адрес, а раз прямо в руки, то их точно прочтут, а если прочтут, то точно напечатают, потому что я считал, что мои стихи нельзя не напечатать.
И вот когда я полез в чемодан за стихами, я вдруг понял всю странность и ненужность этой ситуации. Вот я устал. Возможно, устал даже от стихов. И Андрей Витальевич, возможно, устал. Возможно, устал от стихов, и вот теперь он спокойно едет в Москву, в столицу, тихий и светлый, и никто его не трогает, и никто не дает ему своих стихов. Ему, наверное, хорошо. И мне хорошо. И я тоже еду в Москву. Нам вместе светло и хорошо, хоть и немного печально.
И тогда я подумал и не дал своих стихов Андрею Витальевичу Василевскому. Мы молча доехали до Москвы и только на вокзале, поскрипывая чемоданом, я прошептал:
– До свидания.
И Андрей Витальевич прошептал мне:
– До свидания.
Потом мы виделись в редакции «Нового мира» в Москве и очень тепло всегда здоровались, а однажды, когда мы с Германом Власовым летали читать лекции на Чукотку в Анадырь, он с радостью подарил нам номера журнала Новый мир, чтобы мы представили их далеким чукотским детям.
Владимир Алейников
Владимир Алейников
О Владимире Алейникове, одном из основателей СМОГА (вместе с Леонидом Губановым), довольно много написал Эдуард Лимонов в своей «Книге мертвых». Мне эта книга не нравится. Все в его книге непонятно кто, а сам Лимонов в белом пальто на белом коне. В ней представлены странные комментарии не только об Алейникове, но и о Губанове, Сапгире и Холине.
Лимонов вообще, мне кажется, не любил людей искусства, считая себя человеком действия и дела. Но разве заниматься искусством – это не дело?
Владимир Алейников приземист, бородат и усаст, глаза немного в глубине. В Коктебеле у него дом, поэтому он не раз бывал на Волошинском фестивале. В этом доме много кто останавливался, например, Саша Соколов.
В Коктебеле Алейников выступал, как со стихами, так и с прозой. Мне даже кажется, что с прозой ему выступать больше нравилось. Он садился за столик под шум прибоя и доставал листы с текстом из огромной папки, видимо в то время это была рукопись, и книга еще не была издана.
Читал он не очень громко и, видимо, гул набережной и шум моря возле Дома-музея Волошина доставляли ему изрядные неудобства.
Проза была густой, все в ней выдавало мастера, но прозу всегда сложно читать вслух, очень сложно.
Он достаточно много печатается, в Неве, в Звезде, в Детях Ра. Это скорее проза поэта, что и немудрено. Алейников поэт. Недавно вышли его воспоминания о 60-х. Кто хочет, может найти в сети и почитать.
Лимонов вообще, мне кажется, не любил людей искусства, считая себя человеком действия и дела. Но разве заниматься искусством – это не дело?
Владимир Алейников приземист, бородат и усаст, глаза немного в глубине. В Коктебеле у него дом, поэтому он не раз бывал на Волошинском фестивале. В этом доме много кто останавливался, например, Саша Соколов.
В Коктебеле Алейников выступал, как со стихами, так и с прозой. Мне даже кажется, что с прозой ему выступать больше нравилось. Он садился за столик под шум прибоя и доставал листы с текстом из огромной папки, видимо в то время это была рукопись, и книга еще не была издана.
Читал он не очень громко и, видимо, гул набережной и шум моря возле Дома-музея Волошина доставляли ему изрядные неудобства.
Проза была густой, все в ней выдавало мастера, но прозу всегда сложно читать вслух, очень сложно.
Он достаточно много печатается, в Неве, в Звезде, в Детях Ра. Это скорее проза поэта, что и немудрено. Алейников поэт. Недавно вышли его воспоминания о 60-х. Кто хочет, может найти в сети и почитать.
Светлана Василенко
Светлана Василенко
В году 2007 в Доме-музее Булгакова в Москве в рамках поэтического салона Андрея Коровина образовался семинар прозаиков. Семинар поэзии-то это редкость, а тут семинар прозаиков. Нам выделили комнату за столом, возможно, за которым сидел сам Булгаков, и мы стали обсуждать свои рассказы. Я, Саша Барбух, Алиса Поникаровская, Виктория Лебедева, Ирина Горюнова, Евгений Сулес, Ганна Шевченко, Евгений Беверс, Юлия Шералиева и еще многие, многие и многие. Руководителем семинара была Светлана Владимировна Василенко. Так случилось, что почти весь этот семинар ездил на Волошинский фестиваль в Крыму, где мастер-классы тоже вела Светлана Владимировна. За 22 года не помню ни одного фестиваля, чтобы Светлана Владимировна на него не приехала и не возглавила прозаические мастер-классы.
Отличительная черта Светланы Владимировны – необычайная доброжелательность и точность оценок. В любом тексте она умеет видеть главное и способна помочь и направить.
Светлана Владимировна не раз выступала на фестивале со своими стихами и рассказами. Я люблю ее книгу рассказов «Капустин Яр». Столь глубокой прозы сейчас не пишет никто. Молодой писатель открыт ветрам. Ему кажется, что до него никто ничего не писал, а при его жизни тем более никто ничего не пишет. Даже сейчас, когда мы живем в информационном буме, тебе кажется, что весь мир сосредоточился лишь на тебе. Такой писательский нарциссизм. Это не так.
Отличительная черта Светланы Владимировны – необычайная доброжелательность и точность оценок. В любом тексте она умеет видеть главное и способна помочь и направить.
Светлана Владимировна не раз выступала на фестивале со своими стихами и рассказами. Я люблю ее книгу рассказов «Капустин Яр». Столь глубокой прозы сейчас не пишет никто. Молодой писатель открыт ветрам. Ему кажется, что до него никто ничего не писал, а при его жизни тем более никто ничего не пишет. Даже сейчас, когда мы живем в информационном буме, тебе кажется, что весь мир сосредоточился лишь на тебе. Такой писательский нарциссизм. Это не так.
Саша Соколов
Саша Соколов
Я называю Сашу Соколова Сашей, потому что он везде сам называет себя Сашей, и в литературу вошел как Саша Соколов.
Саша Соколов выступал на Волошинском фестивале в 2007 году, и «Независимая газета приложение ExLibris» назвала это выступление событием года. Мне вообще непонятно, как при довольно закрытом образе жизни Соколова Андрею Коровину удалось уговорить его выступить. Это была случайность. Это было внеплановое внепрограммное событие. Саша Соколов в тот год гостил в Коктебеле у своего друга Владимира Алейникова и, видимо, Андрею Коровину удалось решить этот вопрос через Алейникова.
Помню, я сидел и курил на веранде Дома-музея Волошина (тогда это было возможно) и ко мне подошел Валерий Лобанов и шепотом, но как-то восторженно сказал, что сейчас, буквально через 15 минут, будет выступать Соколов. О Соколове в тот момент я слышал («Школа для дураков», «Палисандрия»), но ничего у него не читал. Точнее, была попытка в 1997 году прочесть «Школу для дураков», но что-то не сложилось. Попытка не удалась.
Я не помню такой тишины, которая сопровождала выступление Соколова. Он читал отрывки из новой своей прозы, читал довольно тихо, но зал (не зал, открытый зал, на улице, забитый до отказа зал, стульев не хватало) внимал каждому слову. Было какое-то невообразимое количество молодых светлых лиц, молодых девочек, молодых поэтесс, молодых поэтов. Был счастливый Коровин, счастливый Валера Лобанов. Все были счастливы. После выступления Соколов так же незаметно исчез, как и неожиданно появился. Мне кажется, он даже не посидел за огромным накрытым яствами и напитками фуршетным столом. Волошинский фестиваль – это сбывшиеся мечты.
Это выступление послужило мне толчком для запойного чтения книг Соколова. Сейчас все они стоят в моей библиотеке.
Саша Соколов выступал на Волошинском фестивале в 2007 году, и «Независимая газета приложение ExLibris» назвала это выступление событием года. Мне вообще непонятно, как при довольно закрытом образе жизни Соколова Андрею Коровину удалось уговорить его выступить. Это была случайность. Это было внеплановое внепрограммное событие. Саша Соколов в тот год гостил в Коктебеле у своего друга Владимира Алейникова и, видимо, Андрею Коровину удалось решить этот вопрос через Алейникова.
Помню, я сидел и курил на веранде Дома-музея Волошина (тогда это было возможно) и ко мне подошел Валерий Лобанов и шепотом, но как-то восторженно сказал, что сейчас, буквально через 15 минут, будет выступать Соколов. О Соколове в тот момент я слышал («Школа для дураков», «Палисандрия»), но ничего у него не читал. Точнее, была попытка в 1997 году прочесть «Школу для дураков», но что-то не сложилось. Попытка не удалась.
Я не помню такой тишины, которая сопровождала выступление Соколова. Он читал отрывки из новой своей прозы, читал довольно тихо, но зал (не зал, открытый зал, на улице, забитый до отказа зал, стульев не хватало) внимал каждому слову. Было какое-то невообразимое количество молодых светлых лиц, молодых девочек, молодых поэтесс, молодых поэтов. Был счастливый Коровин, счастливый Валера Лобанов. Все были счастливы. После выступления Соколов так же незаметно исчез, как и неожиданно появился. Мне кажется, он даже не посидел за огромным накрытым яствами и напитками фуршетным столом. Волошинский фестиваль – это сбывшиеся мечты.
Это выступление послужило мне толчком для запойного чтения книг Соколова. Сейчас все они стоят в моей библиотеке.
Алексей Пурин
Алексей Пурин
Алексей Пурин – главный редактор отдела поэзии питерского журнала «Звезда» – приезжал на Волошинский фестиваль в 2021 году. Огромный задумчивый человек, погруженный в себя. В день его назначенного выступления мы все долго его ждали, но он не смог прийти, и чтения его стихов не состоялось или состоялось, но на другой день.
Пурина мы встретили почти ночью на набережной Коктебеля у кафе «Московское». Он шел с прекрасной незнакомой. Мы – я, Либуркин и Даниэль Орлов – остановили его:
– Это же, это же, это же! – воскликнул я.
– Пурин, – подсказал мне Алексей Пурин.
– Пурин! – воскликнул я.
Мы восторженно загалдели.
– А присылайте свои стихи, – неожиданно сказал нам Пурин.
– Мы не поэты, мы прозаики, – хором сказали мы: я, Саша Либуркин и Даня Орлов.
– Тогда прозу высылайте, – сказал Пурин.
– Вы же ее не напечатаете, – немного обидел я Пурина.
– Почему? – немного обиженно спросил Пурин.
– Вы же Либуркина не печатаете, – сказал я и показал на Либуркина. Либуркин и Пурин были оба из Питера. Либуркин не раз носил свою прозу в журнал «Звезда». Либуркин мечтал о «Звезде».
– Высылайте, высылайте, – сказал Пурин и пошел в ночь дальше гулять с таинственной незнакомкой.
Пурина мы встретили почти ночью на набережной Коктебеля у кафе «Московское». Он шел с прекрасной незнакомой. Мы – я, Либуркин и Даниэль Орлов – остановили его:
– Это же, это же, это же! – воскликнул я.
– Пурин, – подсказал мне Алексей Пурин.
– Пурин! – воскликнул я.
Мы восторженно загалдели.
– А присылайте свои стихи, – неожиданно сказал нам Пурин.
– Мы не поэты, мы прозаики, – хором сказали мы: я, Саша Либуркин и Даня Орлов.
– Тогда прозу высылайте, – сказал Пурин.
– Вы же ее не напечатаете, – немного обидел я Пурина.
– Почему? – немного обиженно спросил Пурин.
– Вы же Либуркина не печатаете, – сказал я и показал на Либуркина. Либуркин и Пурин были оба из Питера. Либуркин не раз носил свою прозу в журнал «Звезда». Либуркин мечтал о «Звезде».
– Высылайте, высылайте, – сказал Пурин и пошел в ночь дальше гулять с таинственной незнакомкой.
Ирина Евса и Анна Гедымин
Ирина Евса и Анна Гедымин
Ирина Евса и Анна Гедымин столь значительные поэты, что каждая из них заслуживает отдельного воспоминания, но в моей памяти почему-то всплывает, как они приболели. Жили они в одном номере. Слово «приболели» до конца не отражает того состояния, в которое погружались многие славные персоналии на берегу Черного моря в Коктебеле. Неокрепшие организмы попадали в руки необъяснимой лихорадки, которая валила их, как какой-то зубастый африканский вирус. Все это сопровождалось температурой и извержениями. Я, как давний гость фестиваля, хорошо знал все особенности этой лихорадки и всегда возил с собой большой запас всевозможных лекарств. У меня даже была своя методика, которую я опробовал на многих страдальцах. Сначала надо выпить 10 таблеток активированного угля, потом две таблетки аспирина, потом две таблетки парацетамола, потом таблетку энтерофурила, и на утро все будет замечательно. Именно эти события и послужили причиной моего сближения с Ириной Евсой и Анной Гедымин. Они потом так активно благодарили меня за спасение, что пришлось им запретить активно благодарить меня за спасение.
Ирина Евса читала стихи отстранённо. В её жизни было много мировоззренческих поворотов, но я ее помню, когда она представляла книгу «Юго-Восток» на Волошинском фестивале, за которую получила премию. Если честно, это единственный поэт, при чтении стихов которого у меня выступали слезы. Она вела мастер-классы и была в жюри.
Анна Гедымин восторженный поэт, поэт восторга. Она так необъяснимо открыта миру, что каждое мгновение проживает в невероятной радости. В ней живет большой ребенок, и это очень важно для писателя, для поэта. С Анной Гедымин я много раз пересекался в Москве в Доме-музее Булгакова и всегда рад ее видеть и слышать ее чудесные стихи.
Ирина Евса читала стихи отстранённо. В её жизни было много мировоззренческих поворотов, но я ее помню, когда она представляла книгу «Юго-Восток» на Волошинском фестивале, за которую получила премию. Если честно, это единственный поэт, при чтении стихов которого у меня выступали слезы. Она вела мастер-классы и была в жюри.
Анна Гедымин восторженный поэт, поэт восторга. Она так необъяснимо открыта миру, что каждое мгновение проживает в невероятной радости. В ней живет большой ребенок, и это очень важно для писателя, для поэта. С Анной Гедымин я много раз пересекался в Москве в Доме-музее Булгакова и всегда рад ее видеть и слышать ее чудесные стихи.
Павел Крючков
Павел Крючков
Павел Крючков, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», как-то привез на фестиваль коллекцию своих записей чтения стихов поэтов Серебряного века. То есть подлинные записи, как классики Серебряного века сами читают свои стихи.
Мы все в предвкушении чуда собрались на открытой сцене Дома-музея Волошина и замерли, потому что событие было необычным и неожиданным. Еще когда мы услышим классиков.
Долго налаживали аппаратуру. Помню, был ноутбук и огромные колонки. Кажется, записи запустились не с первого раза.
Был Блок. Блок читал грудным задумчивым голосом. Неспешно и уважительно к своим стихам. Потом был Волошин. Волошин читал трубным голосом, он гремел и временами пел. Было очень странное ощущение. Вот во дворе стоит памятник Волошину, вот на набережной стоит второй памятник Волошину и вот Волошин сам, собственной персоной читает нам свои стихи.
Потом еще был Гумилев. Гумилев эпичен. Солдат и стоик.
Его зычный голос до боли ощущался, как невидимая тонкая связь (простите, Господи, за штамп) времен.
И мы понимали, что вот они здесь сидели, они здесь ходили, вот по этой же набережной, может, этот камушек держала в руках Черубина, а на уступчике сидел Мандельштам с Наденькой, а здесь бродили Гумилев и Волошин.
Потом Крючков сам бродил по набережной, наверное, заходил в кафе, рестораны, дул вечерний бриз, шумели волны, плыл сладкий запах водорослей и шашлыка.
Мы все в предвкушении чуда собрались на открытой сцене Дома-музея Волошина и замерли, потому что событие было необычным и неожиданным. Еще когда мы услышим классиков.
Долго налаживали аппаратуру. Помню, был ноутбук и огромные колонки. Кажется, записи запустились не с первого раза.
Был Блок. Блок читал грудным задумчивым голосом. Неспешно и уважительно к своим стихам. Потом был Волошин. Волошин читал трубным голосом, он гремел и временами пел. Было очень странное ощущение. Вот во дворе стоит памятник Волошину, вот на набережной стоит второй памятник Волошину и вот Волошин сам, собственной персоной читает нам свои стихи.
Потом еще был Гумилев. Гумилев эпичен. Солдат и стоик.
Его зычный голос до боли ощущался, как невидимая тонкая связь (простите, Господи, за штамп) времен.
И мы понимали, что вот они здесь сидели, они здесь ходили, вот по этой же набережной, может, этот камушек держала в руках Черубина, а на уступчике сидел Мандельштам с Наденькой, а здесь бродили Гумилев и Волошин.
Потом Крючков сам бродил по набережной, наверное, заходил в кафе, рестораны, дул вечерний бриз, шумели волны, плыл сладкий запах водорослей и шашлыка.
Ольга Ермолаева
Ольга Ермолаева
С Ольгой Юрьевной Ермолаевой, редактором отдела поэзии журнала «Знамя», я знаком очень давно. Лет 20. Для меня это значительный срок. Мы даже как-то раз жили в соседних номерах. Ольга Юрьевна первой из редакторов толстых литературных журналов стала возиться с так называемыми сетевыми поэтами, которые сформировались в начале нулевых вокруг Рукомоса, ЛИТО Пиитер и Волошинского фестиваля.
Ездила она на фестиваль неоднократно. Не удивлюсь, что раз десять. Возилась с нами. У нее были прекрасные и доброжелательные отношения с Андреем Новиковым. Посмертная книжка стихов Андрея Новикова «Нерасчетливый наследник» вышла с предисловием с обширным комментарием Ольги Юрьевны. Все чемоданы и сумки Ольги Юрьевны после каждого фестивали были набиты книжками стихов и подборками стихов волошинских поэтов.
Доброжелательный мастер, поэт. Если не ошибаюсь, у нее тоже был как-то вечер стихов на Волошинском.
Существуют замечательные фотографии и видео, как Ольга Юрьевна летит на мотодельтаплане над Коктебельской бухтой. Да-да. Летит на мотодельтаплане.
Если честно, за 21 год существования Волошинского фестиваля я так и не решился полетать на параплане или мотодельтаплане.
Ольгу Юрьевну я бы назвал хранителем. Для любого поэта (если это поэт) она готова сделать очень многое, готова возиться с ним и пестовать, собирать стихи, терпеливо сносить все чудачества и странности.
Ездила она на фестиваль неоднократно. Не удивлюсь, что раз десять. Возилась с нами. У нее были прекрасные и доброжелательные отношения с Андреем Новиковым. Посмертная книжка стихов Андрея Новикова «Нерасчетливый наследник» вышла с предисловием с обширным комментарием Ольги Юрьевны. Все чемоданы и сумки Ольги Юрьевны после каждого фестивали были набиты книжками стихов и подборками стихов волошинских поэтов.
Доброжелательный мастер, поэт. Если не ошибаюсь, у нее тоже был как-то вечер стихов на Волошинском.
Существуют замечательные фотографии и видео, как Ольга Юрьевна летит на мотодельтаплане над Коктебельской бухтой. Да-да. Летит на мотодельтаплане.
Если честно, за 21 год существования Волошинского фестиваля я так и не решился полетать на параплане или мотодельтаплане.
Ольгу Юрьевну я бы назвал хранителем. Для любого поэта (если это поэт) она готова сделать очень многое, готова возиться с ним и пестовать, собирать стихи, терпеливо сносить все чудачества и странности.
Геннадий Калашников
Геннадий Калашников
- Слава, привет, - сказал мне поэт Геннадий Калашников.
- Привет, - ответил я.
Мы стояли у вешалки в Доме-музее Булгакова в Москве после какого-то выступления. Все одевались и собирались идти к Патриаршим прудам немного прогуляться.
- Вот что у меня для тебя есть.
- Что?
Гена порылся в своей заплечной сумке и протянул мне тоненькую книжку. Я подумал, что это стихи. Я люблю стихи Геннадия Калашникова.
- Спасибо, - сказал я и поехал домой в Люблино.
Если я скажу, что сразу дома открыл книгу Калашникова, то это будет неправда. Не сразу. Какое-то время она лежала на подоконнике, а потом в какой-то вечер я ее приметил, раскрыл и ахнул.
Это были не стихи, а проза. В ней голые мальчишки скакали в ночном на конях, слышалось какое-то степное пение, всходила луна и сверкали звезды. Это была книга прозы поэта о своем советском детстве.
Геннадий Калашников не только поэт, но и прозаик. Он не раз приезжал на фестиваль в Крым, а на последнем фестивале в Дагестане вел мастер-классы с Анной Гедымин. Стихи его лиричны, полны радости и глубины.
- Привет, - ответил я.
Мы стояли у вешалки в Доме-музее Булгакова в Москве после какого-то выступления. Все одевались и собирались идти к Патриаршим прудам немного прогуляться.
- Вот что у меня для тебя есть.
- Что?
Гена порылся в своей заплечной сумке и протянул мне тоненькую книжку. Я подумал, что это стихи. Я люблю стихи Геннадия Калашникова.
- Спасибо, - сказал я и поехал домой в Люблино.
Если я скажу, что сразу дома открыл книгу Калашникова, то это будет неправда. Не сразу. Какое-то время она лежала на подоконнике, а потом в какой-то вечер я ее приметил, раскрыл и ахнул.
Это были не стихи, а проза. В ней голые мальчишки скакали в ночном на конях, слышалось какое-то степное пение, всходила луна и сверкали звезды. Это была книга прозы поэта о своем советском детстве.
Геннадий Калашников не только поэт, но и прозаик. Он не раз приезжал на фестиваль в Крым, а на последнем фестивале в Дагестане вел мастер-классы с Анной Гедымин. Стихи его лиричны, полны радости и глубины.
Александр Тимофеевский
Александр Тимофеевский
Над Александром Тимофеевским поэтическая судьба сыграла злую шутку. Его «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рукой» известны больше, чем сам поэт, написавший эти стихи. Мультипликационный персонаж Чебурашка почти насильно забрал себе стихи поэта, заслонив собой прекрасного стихотворца. Тимофеевский попал на фестиваль уже в солидном возрасте и вел довольно тихий и незаметный образ жизни, но возраст никак не сказывался на этом энергичном и жизнелюбивом человеке.
Почти всех нас поразило, как Александр Александрович взобрался на гору к могиле Волошина. Могила Волошина расположена на крутой возвышенности, и путь к ней труден и нелегок даже для подготовленного человека. Я, к своему стыду, могу признаться, что ни разу туда так и не дошел.
Помню восторженный разговор с Сашей Переверзиным:
- Представляешь, Тимофеевский взобрался к могиле Волошина.
Помню, как мне было стыдно.
Переверзин вообще довольно много занимался поэтическим наследием Тимофеевского.
Книги стихов Тимофеевского вышли поздно в 2016 и 2017 годах, а в 2018 в издательстве «Воймега» благодаря стараниям Александра Переверзина вышла книга избранного Александра Тимофеевского.
Во всем облике Александра Александровича виделся какой-то ореол искренности. Добродушие, простота, нежность. К Тимофеевскому можно было испытывать только теплые чувства.
Почти всех нас поразило, как Александр Александрович взобрался на гору к могиле Волошина. Могила Волошина расположена на крутой возвышенности, и путь к ней труден и нелегок даже для подготовленного человека. Я, к своему стыду, могу признаться, что ни разу туда так и не дошел.
Помню восторженный разговор с Сашей Переверзиным:
- Представляешь, Тимофеевский взобрался к могиле Волошина.
Помню, как мне было стыдно.
Переверзин вообще довольно много занимался поэтическим наследием Тимофеевского.
Книги стихов Тимофеевского вышли поздно в 2016 и 2017 годах, а в 2018 в издательстве «Воймега» благодаря стараниям Александра Переверзина вышла книга избранного Александра Тимофеевского.
Во всем облике Александра Александровича виделся какой-то ореол искренности. Добродушие, простота, нежность. К Тимофеевскому можно было испытывать только теплые чувства.
Александр Анашкин
Александр Анашкин
Саша Анашкин любил Крым и, в частности, Коктебель. Он с большим удовольствием приезжал на Волошинский фестиваль и участвовал в программе фестиваля. Читал Саша свои стихи довольно мрачно. Он поднимал свой телефон на уровень глаз и читал с него тексты. Иногда казалось, что Саша прекрасно помнит свои стихи и мог бы их читать по памяти, но, видимо, телефон был нужен ему для страховки. Стихи Анашкина со слуха производили впечатления яркой загадки, тем более что он любил вставлять в текст научные термины. Мы уже тогда понимали, что это что-то значительное.
Ходил Саша в Коктебеле в темно-оранжевой косоворотке с крымским орнаментом, на седой голове его красовалась крымская шапочка. Чем-то он напоминал Максимилиана Волошина. Такой же плотный, коренастый и веселый. Казалось, если дать ему посох и снять сандалии, то можно спутать с Волошиным.
В Коктебеле Саша не то чтобы только читал, но любил гедонистический образ жизни, пиршества с утра до вечера, внимание девушек, долгие купания у подножия горы Волошина, походы на рынок за домашним сыром и кефалью, прогулки от эллингов до Дома-музея Волошина, прогулки до холма Юнге, татарский ресторан и кафе «Московское», ночные бдения, бесконечный литературные беседы с друзьями-поэтами, полеты на параплане.
Мне кажется, Саша так и не удостоился никакой премии Волошинского фестиваля, в лучшем случае был дипломантом.
Запомнился какой-то год, когда он для участников фестиваля придумал свой собственный приз – набор серебряных рюмок и фляжку (кто бы мог подумать!). Вручала этот специальный приз девушка, Саша был непубличным человеком. Его жизнь протекала далеко от глаз публики.
2006 год был значимым для Саши. В издательстве Эвелины Ракитиной выходит его первая и единственная прижизненная книжка «Другая метрика».
Последние годы Саши прошли в кругу семьи. Он тяжело болел. К нему приходили только друзья детства. Хоронили его тоже близкие родственники и друзья детства.
Ходил Саша в Коктебеле в темно-оранжевой косоворотке с крымским орнаментом, на седой голове его красовалась крымская шапочка. Чем-то он напоминал Максимилиана Волошина. Такой же плотный, коренастый и веселый. Казалось, если дать ему посох и снять сандалии, то можно спутать с Волошиным.
В Коктебеле Саша не то чтобы только читал, но любил гедонистический образ жизни, пиршества с утра до вечера, внимание девушек, долгие купания у подножия горы Волошина, походы на рынок за домашним сыром и кефалью, прогулки от эллингов до Дома-музея Волошина, прогулки до холма Юнге, татарский ресторан и кафе «Московское», ночные бдения, бесконечный литературные беседы с друзьями-поэтами, полеты на параплане.
Мне кажется, Саша так и не удостоился никакой премии Волошинского фестиваля, в лучшем случае был дипломантом.
Запомнился какой-то год, когда он для участников фестиваля придумал свой собственный приз – набор серебряных рюмок и фляжку (кто бы мог подумать!). Вручала этот специальный приз девушка, Саша был непубличным человеком. Его жизнь протекала далеко от глаз публики.
2006 год был значимым для Саши. В издательстве Эвелины Ракитиной выходит его первая и единственная прижизненная книжка «Другая метрика».
Последние годы Саши прошли в кругу семьи. Он тяжело болел. К нему приходили только друзья детства. Хоронили его тоже близкие родственники и друзья детства.
Евгений Степанов
Евгений Степанов
Евгений Степанов обладает одним замечательным свойством, характерным талантливому филологу и поэту – видеть литературу за гранью литературного процесса, видеть фигуры, которые находятся в тени, но требуют повышенного внимания любителей литературы.
Вдохновенный издатель десятка журналов и необычайного количества книг, поэт и подвижник литературной действительности, он как никто другой может отыскать зерно истины и зерно литературы, казалось бы, в том, мимо чего проходят другие исследователи литературы.
На Волошинском фестивале я помню его неотчетливо. Он высок и как-то слишком скромен в быту. Он выступал, вел мастер-классе. Именно на его мастер-классе была моя жена Лена Левина, и потом в его замечательном журнале «Дети Ра» вышла подборка ее стихов.
Ближе я познакомился с Евгением Степановым совсем недавно. Мне посчастливилось быть в махонькой комнатке его издательства, которая находится в центре Москвы.
Огромные стопки книг, много работы и заботы, отчётливо наблюдаемая любовь к книге. Потом мы тепло посидели в холле издательства, много что вспоминали, оказалось, круг наших общих друзей значителен. Я рассказал о себе, Евгений рассказал о себе. Иногда я спрашиваю у Евгения Викторовича совета о том или ином поэте, которой мог бы попасть в круг наших общих интересов.
Вдохновенный издатель десятка журналов и необычайного количества книг, поэт и подвижник литературной действительности, он как никто другой может отыскать зерно истины и зерно литературы, казалось бы, в том, мимо чего проходят другие исследователи литературы.
На Волошинском фестивале я помню его неотчетливо. Он высок и как-то слишком скромен в быту. Он выступал, вел мастер-классе. Именно на его мастер-классе была моя жена Лена Левина, и потом в его замечательном журнале «Дети Ра» вышла подборка ее стихов.
Ближе я познакомился с Евгением Степановым совсем недавно. Мне посчастливилось быть в махонькой комнатке его издательства, которая находится в центре Москвы.
Огромные стопки книг, много работы и заботы, отчётливо наблюдаемая любовь к книге. Потом мы тепло посидели в холле издательства, много что вспоминали, оказалось, круг наших общих друзей значителен. Я рассказал о себе, Евгений рассказал о себе. Иногда я спрашиваю у Евгения Викторовича совета о том или ином поэте, которой мог бы попасть в круг наших общих интересов.
Вместо послесловия
Вместо послесловия
Если честно, я не знаю, что со всем этим делать. По идее хороших поэтов на Волошинском было так много, что портреты можно писать и писать. Вот, например, Станислав Минаков, или Лена Исаева, или Виталий Кальпиди, или Владимир Салимон, или Андрей Поляков. А есть еще куча моих друзей-волошинцев, поэтов моего возраста.
Видимо, надо писать книгу.
Видимо, надо писать книгу.



