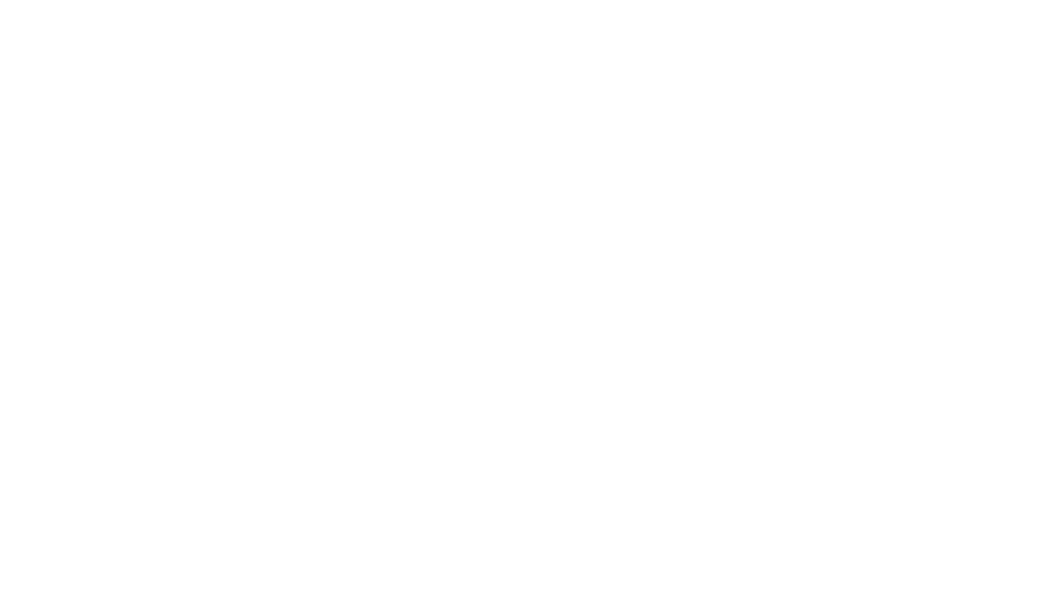
Ирина Родионова — Не спеши
Ирина Родионова родилась в 1995 году в Новотроицке Оренбургской области, педагог-психолог по образованию. В 2018 году на Всероссийском семинаре-совещании «Мы выросли в России» была признана лучшим молодым фантастом, в 2019 году – прозаиком. По результатам семинаров вышли сборники рассказов «Мариуш» и «Жажда». Обладатель литературной премии им. Левитова, премии им. Рычкова и спецпремии им. Аксакова, лауреат второй степени премии «За правду». Автор книги «Поросль».
Ранним утром все в доме умылись, оделись в белое и теперь ждали с радостным, хоть и немного печальным волнением. Праздник этот готовился давно: подгадывали, собирались и съезжались всей большой, хоть и далекой друг от друга семьей. С шести утра вздохами скрипели половицы в деревенском доме, шелестели голоса, шумела вода. Сквозь тонкие стены лилось журчание, смахивающее на жадную весеннюю капель.
Разгорался май.
Ольга Ивановна появилась последней — все родственники сидели в комнате перед тихим ворчливым телевизором, который отвлекал правнуков от нервных смешков и вздохов. Спала Ольга Ивановна барыней, одна-единственная в необставленной большой комнате, и весь дом, заваленный раскладушками и матрасами, будто завистливо выдохнул от ее открытой двери. Сразу отовсюду полился воздух, свет.
Грохнуло о косяк, и все бросились в коридор.
Ольга Ивановна привычно выползла на руках, глянула на столпившихся внуков и правнуков снизу вверх, хмыкнула:
— Чего подорвались? Аль война?
И, никого больше не слушая, шустро поползла в ванну. Левой пяткой она отталкивалась от пола — теперь эта пятка была ее единственной, а значит, и самой любимой. Правую ногу отрезали по самое не балуй, но Ольга Ивановна уже так привыкла жить без нее, что и не представляла саму себя с двумя ногами. На рынке она торговалась за каждую плетеную туфлю, требуя продать ей половину пары. Продавцы плаксиво бурчали в ответ, что им тоже одинокая обувка не нужна, где еще такую бабку в округе найдешь, одноногую-то?.. Но скидку делали, и сияющая Ольга Ивановна в ответ дарила продавщицам ту самую, никому не нужную правую туфлю.
Тем утром Ольга Ивановна спряталась в ванной, которую внуки отгрохали на зависть всем соседям: в бело-розовом холодном кафеле, с чистенькими полипропиленовыми трубами и лоханью ванны, напоминающей свежий душистый цветок. Ольга Ивановна с трудом взобралась на раковину, ополоснула лицо. Сейчас, правда, ванные почти у всех в округе появились — это ведь и не деревня, а так, пригородный поселок, двадцать минут на машине от съежившегося в степи города, где до сих пор жили дочь и несколько внучек. Сколько их было, внуков и внучек, правнуков и правнучек, а еще этих мелких, суетливых пра-пра-пра... Ольга Ивановна давно потеряла им счет и старалась никого не называть по имени, звала лишь:
— Милая!
Или, чуть суровей, как и требовалось с настоящим мужчиной:
— Ну-ка, милый, подсоби бабке.
Слышно было, как все они: и внучки, и пра, и пра-пра — перешептываются за дверью. Ольга Ивановна медленно сползла на тканый половик, подаренный давней подруги, что раньше жила за три забора от ее дома, и лбом уперлась в холодный бок унитаза. Правнучки вчера навели уборку, вымели и выскребли весь дом, оправдываясь тем, чтобы старушка хоть последние деньки пожила в чистоте и уюте. Ольга Ивановна блаженно улыбалась в ответ. Хоть она и не могла уже запомнить имена и лица, но голова у нее была на месте, и она (и голова, и сама Ольга Ивановна) прекрасно понимала, что дом готовят на продажу.
Когда выползла из ванной, на руки ее, легенькую, невесомую, тут же подхватил внук. Она заругалась по привычке, мол, нечего ее, как колоду беспомощную таскать, она и на ладонях любого правнука обгонит. Ее по обыкновению не услышали — усадили на диван, оправили ночную сорочку. Мелькнула то ли правнучка, то ли праправнучка, коротко стриженная, почти лысая, с блестящим камушком в носу:
— Бабань, ну чего лохматая-то такая...
— Я и так красавица. Уйди, говорю! — отбивалась Ольга Ивановна.
— Надо бы расчесаться, — это внук, тот самый, что на руках ее нес. Толстый стал, жуть: щеки багровые, дряблые, в мелких красных прожилках, нос картошкой. Изменился, и не вспомнишь его. Пьет, что ли? Явно не от горя. И глаза такие прозрачные-прозрачные, будто сам умирать собрался.
Ольга Ивановна хватанула воздуха — держалась при них, а тут не смогла, — и закашлялась. Продышавшись, выдавила из груди:
— Не поеду сегодня никуда.
Они застонали, заныли — большая толпа с разноцветными глазами и волосами, намешанная чужая кровь в одинаковых рубахах и ситцевых платьях, как секта, ей-богу. Винили ее, стыдили, пытались ухватить за руки, а Ольга Ивановна изворачивалась и поджимала губы, которые морщинами давно проросли в темное лицо. От нахмуренных бровей кожа туго обтянула череп, зазвенела, растягиваясь, и Ольга Ивановна попробовала осторожно улыбнуться для них, гомонящих, недовольных.
— Три недели тут уже!
— Бабань, пора и честь знать...
— Ну и чего ты тянешь? Легче уже не будет.
И, тоненькое, обиженное:
— Ты ведь обещала!
На руки вполз самый мелкий из них, Славик, устроился и обнял Ольгу Ивановну за шею. Тонкий и гибкий, как ивовая ветвь, Славик казался самым улыбчивым, самым любящим, самым надежным. Ольга Ивановна крепко обхватила его и оправдалась:
— У меня платье не сшито.
— Давай дошью, — в три голоса предложили ей.
— Еще чего! В гроб-то мне ложится, швее заслуженной, ветерану труда, между прочим, и в чужих тряпках. Не дождетесь! Вот дошью, и сразу же поедем.
И снова закашлялась. В грудину будто мяч тяжелый втолкнули, перекрыли узенькую дырочку для воздуха, и дышать случалось лишь мелкими глотками, через паузы. Силы уходили из Ольги Ивановны, утекали и впитывались в трухлявые доски, просачивались в подпол, к банкам маринованных огурцов, сладких помидоров и арбузных корок в мутном рассоле.
— Огурчик хочу, соленый! — капризно потребовала Ольга Ивановна, только бы отвлечь их, отогнать от себя, но никто и не пошевелился. На них со Славиком смотрели с одним выражением лица — как на малых и неразумных, ничего не соображающих.
Жарким днем Ольга Ивановна уползла на лавку под козырек, по которому летом снова поползут побеги дикого винограда с темными острыми листьями. Посидела в теньке, глядя, как Славик носится среди заросших клубничных кустов, как падает и поднимается, даже не заметив исцарапанных коленок, как улыбается солнцу во весь беззубый рот. Выползла следом за ним на свет, легла на траву, скрестила на груди руки.
Мимо прошел кто-то внуков, хмыкнул:
— Живая?
— Поживее вас, — привычно отозвалась Ольга Ивановна.
— Попить принести?
— Ничего мне не надо, дай хоть на небо погляжу.
Внук ушел, а Ольга Ивановна осталась лежать на мягком. Ей жутко хотелось спать. Вместо этого дотянулась до заросших пустых грядок, принялась полоть мелкую кусачую траву, выщипывать дорожки, прореживать пышные клубничные кусты. Только благодаря тому, что все время двигалась, Ольга Ивановна и дожила до девяноста лет.
Всю свою жизнь она проработала швеей, как трудились и мать, и бабка. Сначала женщины шили юбки для всей округи в низенькой темной избе, потом перебрались в город и набрали заказов у старых знакомых, кроили костюмы для похорон, рубашечки для новорожденных, строгие деловые юбки. Брали немного, жили дружно, дед устроился на комбинат. Потом мать пришла в ателье, где было больше клиентов и больше возможностей купить конфет для мелких или рассады для стариков. У Ольги Ивановны было два старших брата: один потом погиб по молодости в пьяной драке, а другой ушел дряхлым пенсионером, склочным и завистливым. Она никак не могла забыть, как он орал и синел от крика, что все дожидаются одной лишь его смерти, только бы квартиру отобрать. Его скромная однушка в самом злачном районе города даже детям была едва нужна, разве что на продажу, не то что самой Ольге Ивановне.
Отца она не помнила — он умер в войну, в самом ее начале. Ушел на фронт, когда Оленька была крошечной. Что-то такое брезжило в голове — руки огромные и теплые, шершавая ткань под щекой, внимательные синие глаза. Может, Ольга Ивановна подсмотрела это в одном из фильмов про войну, а может, и правда запомнила. Мать через много лет привела в дом нового мужика, но Ольга Ивановна быстро сбежала от них — отчим выпивал, поколачивал и даже звал детей, брезгливо оттопырив нижнюю губу. В ее памяти отчим тоже остался черным силуэтом, ничего от него не сохранилось, как корова слизнула языком. Наверное, просто так сильно хотелось забыть.
В детстве Оленька часто ходила с мамой на работу, в тусклый и сырой полуподвал без окон, где по стенам висели шторы, кружавчики, рюши и тюль. Люди часто заглядывали в ателье, мяли в пальцах все это богатство до той поры, пока шторки не морщились и не серели от чужих касаний. Оленька играла с отрезами ткани, с нитками и ножницами, кромсала подушечки о лезвия и рыдала, а мать гнала ее с окровавленной рукой подальше от очередного платья или новеньких брюк. Матери было непросто: она часто плакала, когда думала, что дети не видят, но над рабочим столом всегда преображалась — чертила обмылками тонкие белые полосы на ткани, прикладывала длинную деревянную линейку, резала и строчила. Довольно хмыкала своим мыслям.
Громыхала в углу швейная машинка, а Оленька крутилась у всех под ногами. Мамина напарница вечно дарила ей что-нибудь: то тяжело пахнущую веточку черемухи, то яблоко, белый налив, то пуговицу блестящую. У напарницы не было детей, и Оленьку они с мамой воспитывали на пару.
Чуть повзрослев, Оленька и сама пришла в ателье, сначала в то же самое, а потом перебралась в место поближе к новому дому. До глубокой старости, пока глаза еще могли видеть иголку, а пальцы успевали за швейной машинкой, Ольга Ивановна пропадала за работой. Бежала теплым весенним утром, выпрыгивая из босоножек, только бы набросать новый силуэт и достать с полки рулон тяжелой ткани. Ее знали по всему городу. Костюмы на свадьбу к дочерям заказывали только у Ольги Ивановны, подшивать тюли тоже бегали к ней, она расшивала блузочки и ушивала юбки, делала всю работу на совесть. Ночами сидела под голой лампочкой без абажура, подтянув светильник к глазам, и не вставала со скрипучего стула, пока строчка не выходила идеально ровной, а платье не сидело на очередной невесте, как влитое.
Сама она дважды выходила замуж. Был еще и третий суженый, гражданский, двух последних похоронила сама Ольга Ивановна. Даже шила им галстуки в гроб: второй муж любил ярко-алый, а третьему было все равно, и она взяла зеленый отрез с синим отливом. Первый муж сбежал, только пятки сверкали, но от него Ольга Ивановна родила единственную дочку — хилую Танечку, которая болела больше, чем жила здоровой. То бронхиты, то кишечные колики, то диабет, то гайморит, то краснуха... После Танечки Ольга Ивановна дала себе зарок, что ни одного ребенка больше не приведет в этот мир, будет воспитывать племянников и внуков. Правда, к тридцати годам Танечка все же стала крепкой и живучей. Один из кавалеров увез ее далеко-далеко и почти три недели продержал у себя дома. Бил, мучил, может и насиловал даже, и Ольга Ивановна думала, что Таня совсем сломается, зачахнет, а Таня вернулась боевая и полная желания жить. Нарожала один за другим четверых детей, удачно вышла замуж, и они всей семьей укатили в столицу. Правда, вернулись через несколько лет, не прижились. Про кавалера того Танечка не вспоминала и запретила матери даже заикаться о нем, только взгляд у нее стал суровый, вечно что-то подозревающий.
И вот они, внуки, правнуки и пра-пра, ходят по дому Ольги Ивановны, выглядывают в окна. Ждут, когда она совсем захиреет. А Танечка, между прочим, выглядит старше самой Ольги Ивановны, того и гляди уйдет первее всех. Сидит целый день, вытаращившись перед телевизором, и только морщится от инсулиновых уколов. Сдала мелкая, совсем сдала...
— Бабушка сошла с ума, — донеслось из-за приоткрытой створки, теплый сквозняк выдул на улицу занавеску. C кухни нервно застучали ножами. — Не соображает ничего. Надо психиатра звать, пускай он решает...
— Никакой психиатр ее на эвтаназию не отправит. Ты же сама знаешь, все добровольно.
— Но с головой-то беда!
— И чего? — вскрикнули так хрупко и нежно, что Ольга Ивановна улыбнулась. Этот голос она всегда узнавала среди других. — Значит, у тебя тоже с головой проблемы, раз дождаться не можешь. И не жалко?
— Жалко! Мне — жалко! Я не хочу, чтобы она столько мучилась, оттягивала. Ползает, как ящерица без хвоста.
— Заканчивайте языками чесать. Ясная у нее голова, слышали, как ругается? Как молоденькая.
— А опухоль, у нее же в груди все выросло, давит...
— Не хочет же умирать, так? Ну так и дайте ей пожить немного.
Замолчали. Засвистел чайник на газовой плите, зарыдал Славик в глубине дома, только минуту назад рвавший щавель с грядки. К младшенькому кинулись тетешкать, уговаривать. От клубничных листьев пахло сладостью, еще не рожденными ягодами, покачивались на тонких стебельках белые цветы.
Ольга Ивановна набрала воздуха и крикнула из вредности:
— Как вас слышно хорошо, милые! — и, подумав, добавила: — Сами вы ящерицы, холодные и скользкие.
Кухня пристыженно замолчала, даже чайник угомонился.
Ольга Ивановна расхохоталась.
Со вчерашнего вечера холодильник ломился от салатов и остывшего горячего, но внучки все равно что-то резали, кромсали и чистили. Вчера они специально взад-вперед ходили мимо Ольги Ивановны с подносами и тарелками: лил дождь, и старуха сидела у окна, уткнувшись грудиной в подоконник. Болело страшно, но на все вопросы Ольга Ивановна лишь улыбалась и кивала. «Яблоко положить в крабовый салат, бабуль? Капусту потушим, ты же ее больше жареной любишь, да?».
Ей натушили целый тазик капусты, с морковкой, с лучком, только бы она не передумала.
— Завтра поедем, точно, — успокаивала Ольга Ивановна, устав ловить на себе пристальные взгляды. — Решила. Умру, и проблем вам не будет.
— Бабаня, ну какие проблемы...
— Милая ты наша, хоть сто лет живи, только бы тебе хорошо было.
— Только твое слово и ждем.
Они приехали почти три недели назад, собрались семьями, с детьми и внуками. Разложились, устроились. По вечерам жарили под козырьком душистые шашлыки, шумной толпой ходили купаться на ледяную речку. Взрослые внуки, с утра раздобыв где-то удочки и спиннинги, брали бутылку и бежали «удить карасей, успокаивать нервы». Рыбы приносили мало, их жены скандалили, а одна из внучек клятвенно обещала или закопать муженька в саду, или отправить его восвояси. Хорошо еще, что у пра-пра учеба почти закончилась, и всех их можно было привезти к бабушке в деревню.
Старая семейная традиция, единственная из всех, забытых — хоронить надо дружно, всей семьей, даже дальним родственникам. Некоторых, конечно, не отпустили с работы, кто-то прикрылся проблемами со здоровьем, а один из племянников, Федя, кажется, в это время сидел за грабеж. Младшие шепотом договорились ничего Ольге Ивановне не рассказывать, чтобы бабушка не расстраивалась, а она подслушала и только посмеялась. Никакого Феди она не помнила, но мысленно пожелала ему легкой отсидки. От сумы и от тюрьмы, как говорится...
Приехали родные, потому что Ольга Ивановна решилась на эвтаназию. Сказала, что пожила много и хорошо, что опухоль в груди хоть и доброкачественная, но выросла так, что спасения от нее нет. Годы, опять же... Бодрая и неунывающая Ольга Ивановна наконец решила, что ей пора. Почти всех подруг давно увезли в больницу, в маленькую комнату с широким, начисто вымытым окном, через которое круглый год лилось согревающее солнце. Каждую подругу Ольга Ивановна расцеловывала, каждую перекрещивала, хоть никогда и не показывалась на пороге церкви, каждой повторяла:
— С богом!
Пришло и ее время. Умирать Ольге Ивановне было нестрашно, интересно даже, что-то вроде далекой поездки на черноморское побережье, в санаторий с чистым воздухом и трехразовым питанием — главное, чтоб не болело. Будут ли там, за чертой, дожидаться ее дряхлые подруги? А мужья, как им двоим законным и третьему, гражданскому, в глаза смотреть? А узнает ли Оленька отца-солдата? Может, ее вообще на сковордку бросят, и пусть шкварчит там бедная, жила-то хорошо, и чревоугодничала, и завидовала, и аборт был... Словом, простор огромный. Да и внуки, правнуки давно готовились, лет двадцать так точно. Выплакали, выстрадали. Сейчас делают, конечно, грустные физиономии, трепетно гладят ее по крепкому плечу, но все они устали месяц куковать в переполненном доме и ждать, когда Ольга Ивановна решится на смерть.
А она каждый день находила новую отговорку. Садятся уже по машинам, предлагают Ольге Ивановне инвалидное кресло, которое она ненавидела и которым не пользовалась, а она выползет на крылечко, вдохнет во всю больную грудь, закашляется и просипит:
— Весна-то, весна, а! Не пойду. Дайте погреть косточки перед смертью.
Все возвращаются в дом.
Завтракает Ольга Ивановна, ест рулетики из баклажанов с помидорами и майонезом, тещин язык, щурится от удовольствия:
— Вкуснотища... Завтра еще хочу, приготовите, девочки, не сложно?
Девочки одинаково щерятся и кивают.
То соловей поет в голом абрикосе, то трава вылезет у забора, то настроение плохое, а разве можно с плохим настроением умирать? То сережки надо новые, хочет Ольга Ивановна с новыми сережками в гробу лежать, и ее везут в город, и таскают по ювелирным магазинам, и внук носит на загривке, а Ольга Ивановна морщит нос. Нашла потом, правда. И как специально листья начали распускаться на яблоньке, клейкие, пахучие.
Ворчание разрасталось, будто жило теперь по углам и даже ночами бормотало в уши несносной Ольге Ивановне. Она вспоминала подруг — те соглашались умереть, только когда становилось совсем худо или тоскливо. Им устраивали пышные проводы-застолья, как дембелям, и наутро незаметно увозили в больницу для спокойной смерти.
Но что-то Ольгу Ивановну останавливало. Она просыпалась, видела утренний туман и хмарь, наползающие в гулкую комнату, и думала: «Не сегодня». Трепетала невесомая паутинка под потолком, за плинтусами скреблись мыши, орал глупый соседский петух. И вот уже три недели таких «несегодня». Внукам в глаза смотреть стыдно, честное слово.
Но терпят, вроде. Столы накрывают, хохочут, пьют ее настойку смородиновую да рябиновую. И сразу так много голосов вокруг, так людей много, и яркие пятна футболок, и юбки, которые подметают пол, и шлепанцев у дверей россыпь, и Славик из давно опустевшей собачьей будки гавкает, и хорошо так... В первые дни все они, шумные и вечно попадающиеся на глаза, Ольгу Ивановну раздражали. Теперь она радовалась, грызла сыр-косичку и волоклась следом за ними на реку, окунуть грубые ладони в воду, в траву, залитую весенним половодьем, отскрести от кожи впившиеся камешки. Бегала на руках Ольга Ивановна и правда резво, много лет практики давали о себе знать.
Вечером ей поставили уколы — хорошо еще, что одна из правнучек отучилась на медсестру. Уложили бабку на кровать, столпились вокруг, молчаливые, хмурые. Ольга Ивановна хохотнула:
— Ну, и чего? Умирать не собираюсь.
— А завтра? — спросил тот самый хрупкий голосок, баюкая Славика на руках.
— Завтра и посмотрим... — сонно ответила она.
Платье для гроба Ольга Ивановна так и не дошила.
Она думала подождать до июня, когда можно будет упасть в реку и лежать на прогретых камнях или набрать полные руки виктории, как Ольга Ивановна с детства называла клубнику. Или же лучше уйти после очередной грозы, с грохотом и молниями на черном небе, когда все маленькие пра-пра забивались под кровать в ее комнате и испуганно катали машинки, а она заползала к ним, рисовала мелками на пыльных досках и расчесывала кукол.
Не сегодня. Не сегодня.
Не...
Пришел холодный июнь, и дом начал пустеть. Ольгу Ивановну все же заставили сесть за швейную машинку, и она дошила юбку — кривую, неказистую, чуть не заплакала даже от ее сиротливого вида. Внучки в четыре руки помогли переделать. Новые домочадцы съели соления и варенья, начисто несколько раз вымыли дом и, кажется, даже объявление о продаже подали, но Ольга Ивановна никак не могла решиться. Ее свозили в больницу, показали ту самую «умиральную яму» с огромным окном и куцыми занавесками, кровать с матрасом в пятнах («Мы свой привезем»», — успокаивали правнуки) и несколько табуреток («Дома много, возьмем» — подтверждали внуки), но комната казалась пустой и бездушной. Там пахло хлоркой и таблетками, а для Ольги Ивановны именно так пахла смерть.
Из комнаты этой она сбежала на руках. Одна из правнучек расплакалась у всех на виду, вытаращилась на прабабку огромными виноватыми глазами. И чего в этих глазах было больше, нетерпения или скорби, Ольга Ивановна так и не поняла.
Она проснулась очередным летним утром и поняла, что пора. Ехать «за укольчиком», как уговаривали все вокруг, не хотелось, и Ольга Ивановна решила умирать сама. В груди болело так, будто кто-то всю ночь простоял в свинцовых ботинках прямо у нее на ребрах, а под утро и потанцевал на всякий случай. Во рту высохло, язык прилип к небу. Ольга Ивановна едва разлепила тоненькие веки и поползла к выходу. Дом еще спал.
Оставалось только вспоминать.
Дети разъезжались. Ольга Ивановна в последнее время всех их называла своими детьми, или, обращаясь к каждому, «ребятенок мой», и они тускнели лицами. Она черно шутила, закатывалась смехом или вела малышню ловить лягушек в овраге, создавала видимость простых семейных посиделок. Правнуки разбегались во все стороны, Ольга Ивановна прыгала за ними на ладонях и чувствовала себя удивительно сильной и живой. Будто напоследок ей дали погулять, подышать вволю, вернули молодые силы. Ольга Ивановна складывала альбомы, фотографии, письма, каждому из детей поручала свое наследство, разглядывала похоронное платье и купленные сережки. Сережки были некрасивыми, но на безрыбье...
Машины отчаливали, внуки целовали ее в сухие щеки, отводили глаза. Рассказывали, что их и так вот-вот убьют на работе, что они взяли пару дней на похороны прабабки, а оно вон как получилось. Что малышей ждут в садике, что проекты горят, что люди умирают, но это все равно было чудесное время — с бабушкой в деревне, — и что они всегда ее будут помнить, и потом обязательно с венками приедут на могилу.
Они уезжали, а Ольга Ивановна снова тянула.
До этого утра.
В саду пеленой стоял туман. Солнечная макушка только-только показалась над деревьями и низкими крышами, подсветила листву розовым и желтым. Воздух был полон воды. Ольга Ивановна села на крылечке, прислонилась спиной к косяку. Подняла свои руки в темно-коричневых пятнышках, пошевелила пальцами. Морщинистая кожа висела чулком, повсюду прощупывались хрупкие косточки. Ольга Ивановна представила себя очаровательным белоснежным скелетом и улыбнулась.
От росы стало холодно, ночная рубашка вымокла насквозь. Ольга Ивановна доползла до калитки, с трудом распахнула ее, выкатилась на дорогу. Много лет назад она вот так же выскочила, и ее сбило машиной, протащило по гравийной дороге под днищем. За рулем были мальчишки, совсем дети еще, дорвавшиеся до отцовской бутылки и отцовского же руля. Они бегали вокруг Ольги Ивановны и голосили, а она лежала на спине и смотрела в низкое, такое странно синее небо. Она была уверена, что умирает, кровь хлестала отовсюду, толчками выходила изо рта, нога не двигалась.
Правую ампутировали в больнице, левая стала слабая, но Ольга Ивановна выжила. Прошла реабилитации, научилась по тридцать раз подтягиваться на руках на турнике и бегала по деревне забавной безногой зверушкой. Малыши подходили и, смущаясь, просили ее приподнять юбку. Ольга Ивановна гордо показывала белый обрубок культи, и дети не отворачивались, не охали и не ахали, трогали осторожно и шептали с выпученными глазами:
— Круто!
— А то,— улыбалась им Ольга Ивановна.
Потом, конечно, на беседу приходили родители, но это того стоило.
На суд к мальчишкам Ольга Ивановна приехала в кресле — культя заживала, руки были слабенькие, зато голос — богатырский. Не слушая никого, она выехала в центр зала, ткнула заскорузлым пальцем в ребят и приказала:
— Простите их! Дурные, да. Но жизнь ломать пацанятам я не дам.
Соседи шептались, что Ольге Ивановне приплатили. Другие называли ее полоумной. А она, забыв об уколах и перевязках, приезжала на каждое заседание. Пацаны при виде нее бледнели и серели, а она привозила им морс в пластиковой бутылке и покупное печенье. Ребятам кусок в горло не лез, но они каждый раз благодарили и просили прощения. Ольга Ивановна не держала на них зла — все в детстве глупые были, и она не исключение. А нога... Ну и что, нога? Сожгли, наверное, ногу в больничном крематории, и черт бы с ней.
Кажется, мальчишкам дали условный срок или отправили в колонию-поселение для несовершеннолетних, за город, на свежий воздух — Ольга Ивановна не помнила. Через пару лет она встретила одного из них на улице, и он быстро отвернулся, будто не узнал. Она не стала его беспокоить.
Утро, свежесть, пора умирать! Ольга Ивановна заползла в палисадник, где тянулись к небу мясистые сине-фиолетовые ирисы, и легла на траве. Глубоко вдохнула, выдохнула. Даже грудь приподнялась, раскрылись легкие, и боль чуть отступила.
Ольга Ивановна... никак не могла умереть.
Очнулась от того, что ее трясут за плечи. Испуганные, перебаламученные родственники перед лицом. И хрупкий голосок, дрожащий в воздухе:
— Живая, живая, живая?!
Ольга Ивановна довольно улыбалась им, тянула руки. Ей казалось, что сейчас она даже сможет встать и пойти. Как-то снова захотелось жить.
Уехали почти все. Кто был поострее на язык, тот закатывал скандалы, на шиканье разъярялся больше прежнего, кричал, что чокнутая бабка тут всех уже до ручки довела. Что ее скрутят, усадят на старые огородные носилки, на которых она раньше волокла за собой траву в компостную яму, и отвезут «на укольчик». Что все здесь люди взрослые, серьезные, у всех свои жизни и дела, а она играется — сегодня хочу умереть, а завтра не хочу. Самые добросердечные и слабенькие обнимали, плакали, будто уже вместо Ольги Ивановны видели бордовую крышку гроба.
Она снова ела творог ложками по утрам, снова выдергивала расплодившиеся одуванчики, а среди бледных клубничных цветов появились зеленые ягодки. Ольга Ивановна решила, что все же не будет умирать, пока не поест виктории.
Еще несколько деревенских стариков увезли на эвтаназию. Видимо, совсем невмоготу им было... Маска с кислым воздухом на лицо, плачущие родственники вокруг кровати, укол, и насухо вытертые глаза, как только любимый дедушка уснул. Вступления в права наследования, продажа дома, разбор вещей. Похороны, кутья, венки.
Ольге Ивановне было противно.
В большом доме остались лишь хрупкий голосок и Славик, который топал слоником, таскал Ольге Ивановне мелкие ромашки и до ужаса боялся соседских гусей, следя за этими кусачими облаками белых перьев из-за забора. Ели втроем в молчании, разговоров о смерти больше не вели.
Ольга Ивановна выползала на улицу, садилась под абрикос и брала в руки шланг, разбрызгивала по грядкам речную воду. Воздуха, которым старуха могла бы дышать, почти не осталось. Хрупкий голосок научился у медсестры ставить уколы и рассчитывать дозировку таблеток, но теперь к ним заглядывала и сиделка, давняя знакомая Ольги Ивановны — помогала вымыться в ванне, готовила на всех, купала Славика в баке у крыльца. И все же дом, опустевший и молчаливый, стал Ольге Ивановне чужим.
Она грела косточки каждый день.
Иногда хрупкий голосок сидела рядом, расчесывала пальцами русые волосы и тихонько вздыхала, когда капли воды попадали на ее разгоряченную кожу. Голосок выросла почти точной копией Ольги Ивановны, только вот бедра у нее были полнее и нос с горбинкой — чья-то незнакомая примесь. Голосок вытягивала из тенечка загорелые ноги, улыбалась солнцу.
Так было и в этот раз.
— Ты не злишься? — спросила ее Ольга Ивановна, нахлобучивая забытую кем-то кепку на глаза. Славик бегал перед ними, прыгал в струю ледяной воды и с визгом отскакивал обратно.
— Не злюсь, — сказала Голосок.
— И не торопишься?
— У меня же декрет. Мужу даже нравится, что я уехала, и Славику хорошо. Воздух, речка, ягоды скоро пойдут... Сколько хочешь, столько и жди. Мы не спешим. Хочешь в своей постели уйти, от старости — пожалуйста. Хочешь, машину у Павла Игнатьича возьмем и хоть завтра в больницу поедем. Я тут буду, сколько тебе будет нужно.
Ольга Ивановна скупо кивнула, стиснула ладонью шланг. На три вытянутых ноги из-под листвы пробивалось горячее солнце.
— Спасибо тебе, — охрипла вдруг Ольга Ивановна.
Хрупкий голосок пожала плечами:
— Да ладно тебе, чего я, не понимаю. Всем страшно. Но мы рядом, мы поможем, поддержим. Все чин-чином. Не спеши, спешить больше некуда...
И Ольга Ивановна расплакалась. Слез у нее почти не осталось, только сухостью вспыхнули глаза. Она отбросила шланг на тропинку, не заметив недовольного Славкиного вскрика, потянулась к правнучке — да, кажется к правнучке.
Настя. Настенькой ее звали. Вцепилась в руку, погладила раз, другой, третий.
— Если до виктории сама не уйду, то в больницу укатим. Я и ты. И в другой комнате, не в этой... Ладно?
— Ладно, — тут же сказала Настя. Наверное, она уже привыкла к прабабкиным обещаниям и не воспринимала их всерьез. Тогда Ольга Ивановна сильно сжала ее плечо, заглянула своими старыми, бесконечно старыми глазами в Настю.
Ничего внутри Ольги Ивановны уже не осталось, кроме скорого предчувствия смерти.
— Обещаю тебе, Настенька. Обещаю.
И обещание свое сдержала.
Разгорался май.
Ольга Ивановна появилась последней — все родственники сидели в комнате перед тихим ворчливым телевизором, который отвлекал правнуков от нервных смешков и вздохов. Спала Ольга Ивановна барыней, одна-единственная в необставленной большой комнате, и весь дом, заваленный раскладушками и матрасами, будто завистливо выдохнул от ее открытой двери. Сразу отовсюду полился воздух, свет.
Грохнуло о косяк, и все бросились в коридор.
Ольга Ивановна привычно выползла на руках, глянула на столпившихся внуков и правнуков снизу вверх, хмыкнула:
— Чего подорвались? Аль война?
И, никого больше не слушая, шустро поползла в ванну. Левой пяткой она отталкивалась от пола — теперь эта пятка была ее единственной, а значит, и самой любимой. Правую ногу отрезали по самое не балуй, но Ольга Ивановна уже так привыкла жить без нее, что и не представляла саму себя с двумя ногами. На рынке она торговалась за каждую плетеную туфлю, требуя продать ей половину пары. Продавцы плаксиво бурчали в ответ, что им тоже одинокая обувка не нужна, где еще такую бабку в округе найдешь, одноногую-то?.. Но скидку делали, и сияющая Ольга Ивановна в ответ дарила продавщицам ту самую, никому не нужную правую туфлю.
Тем утром Ольга Ивановна спряталась в ванной, которую внуки отгрохали на зависть всем соседям: в бело-розовом холодном кафеле, с чистенькими полипропиленовыми трубами и лоханью ванны, напоминающей свежий душистый цветок. Ольга Ивановна с трудом взобралась на раковину, ополоснула лицо. Сейчас, правда, ванные почти у всех в округе появились — это ведь и не деревня, а так, пригородный поселок, двадцать минут на машине от съежившегося в степи города, где до сих пор жили дочь и несколько внучек. Сколько их было, внуков и внучек, правнуков и правнучек, а еще этих мелких, суетливых пра-пра-пра... Ольга Ивановна давно потеряла им счет и старалась никого не называть по имени, звала лишь:
— Милая!
Или, чуть суровей, как и требовалось с настоящим мужчиной:
— Ну-ка, милый, подсоби бабке.
Слышно было, как все они: и внучки, и пра, и пра-пра — перешептываются за дверью. Ольга Ивановна медленно сползла на тканый половик, подаренный давней подруги, что раньше жила за три забора от ее дома, и лбом уперлась в холодный бок унитаза. Правнучки вчера навели уборку, вымели и выскребли весь дом, оправдываясь тем, чтобы старушка хоть последние деньки пожила в чистоте и уюте. Ольга Ивановна блаженно улыбалась в ответ. Хоть она и не могла уже запомнить имена и лица, но голова у нее была на месте, и она (и голова, и сама Ольга Ивановна) прекрасно понимала, что дом готовят на продажу.
Когда выползла из ванной, на руки ее, легенькую, невесомую, тут же подхватил внук. Она заругалась по привычке, мол, нечего ее, как колоду беспомощную таскать, она и на ладонях любого правнука обгонит. Ее по обыкновению не услышали — усадили на диван, оправили ночную сорочку. Мелькнула то ли правнучка, то ли праправнучка, коротко стриженная, почти лысая, с блестящим камушком в носу:
— Бабань, ну чего лохматая-то такая...
— Я и так красавица. Уйди, говорю! — отбивалась Ольга Ивановна.
— Надо бы расчесаться, — это внук, тот самый, что на руках ее нес. Толстый стал, жуть: щеки багровые, дряблые, в мелких красных прожилках, нос картошкой. Изменился, и не вспомнишь его. Пьет, что ли? Явно не от горя. И глаза такие прозрачные-прозрачные, будто сам умирать собрался.
Ольга Ивановна хватанула воздуха — держалась при них, а тут не смогла, — и закашлялась. Продышавшись, выдавила из груди:
— Не поеду сегодня никуда.
Они застонали, заныли — большая толпа с разноцветными глазами и волосами, намешанная чужая кровь в одинаковых рубахах и ситцевых платьях, как секта, ей-богу. Винили ее, стыдили, пытались ухватить за руки, а Ольга Ивановна изворачивалась и поджимала губы, которые морщинами давно проросли в темное лицо. От нахмуренных бровей кожа туго обтянула череп, зазвенела, растягиваясь, и Ольга Ивановна попробовала осторожно улыбнуться для них, гомонящих, недовольных.
— Три недели тут уже!
— Бабань, пора и честь знать...
— Ну и чего ты тянешь? Легче уже не будет.
И, тоненькое, обиженное:
— Ты ведь обещала!
На руки вполз самый мелкий из них, Славик, устроился и обнял Ольгу Ивановну за шею. Тонкий и гибкий, как ивовая ветвь, Славик казался самым улыбчивым, самым любящим, самым надежным. Ольга Ивановна крепко обхватила его и оправдалась:
— У меня платье не сшито.
— Давай дошью, — в три голоса предложили ей.
— Еще чего! В гроб-то мне ложится, швее заслуженной, ветерану труда, между прочим, и в чужих тряпках. Не дождетесь! Вот дошью, и сразу же поедем.
И снова закашлялась. В грудину будто мяч тяжелый втолкнули, перекрыли узенькую дырочку для воздуха, и дышать случалось лишь мелкими глотками, через паузы. Силы уходили из Ольги Ивановны, утекали и впитывались в трухлявые доски, просачивались в подпол, к банкам маринованных огурцов, сладких помидоров и арбузных корок в мутном рассоле.
— Огурчик хочу, соленый! — капризно потребовала Ольга Ивановна, только бы отвлечь их, отогнать от себя, но никто и не пошевелился. На них со Славиком смотрели с одним выражением лица — как на малых и неразумных, ничего не соображающих.
Жарким днем Ольга Ивановна уползла на лавку под козырек, по которому летом снова поползут побеги дикого винограда с темными острыми листьями. Посидела в теньке, глядя, как Славик носится среди заросших клубничных кустов, как падает и поднимается, даже не заметив исцарапанных коленок, как улыбается солнцу во весь беззубый рот. Выползла следом за ним на свет, легла на траву, скрестила на груди руки.
Мимо прошел кто-то внуков, хмыкнул:
— Живая?
— Поживее вас, — привычно отозвалась Ольга Ивановна.
— Попить принести?
— Ничего мне не надо, дай хоть на небо погляжу.
Внук ушел, а Ольга Ивановна осталась лежать на мягком. Ей жутко хотелось спать. Вместо этого дотянулась до заросших пустых грядок, принялась полоть мелкую кусачую траву, выщипывать дорожки, прореживать пышные клубничные кусты. Только благодаря тому, что все время двигалась, Ольга Ивановна и дожила до девяноста лет.
Всю свою жизнь она проработала швеей, как трудились и мать, и бабка. Сначала женщины шили юбки для всей округи в низенькой темной избе, потом перебрались в город и набрали заказов у старых знакомых, кроили костюмы для похорон, рубашечки для новорожденных, строгие деловые юбки. Брали немного, жили дружно, дед устроился на комбинат. Потом мать пришла в ателье, где было больше клиентов и больше возможностей купить конфет для мелких или рассады для стариков. У Ольги Ивановны было два старших брата: один потом погиб по молодости в пьяной драке, а другой ушел дряхлым пенсионером, склочным и завистливым. Она никак не могла забыть, как он орал и синел от крика, что все дожидаются одной лишь его смерти, только бы квартиру отобрать. Его скромная однушка в самом злачном районе города даже детям была едва нужна, разве что на продажу, не то что самой Ольге Ивановне.
Отца она не помнила — он умер в войну, в самом ее начале. Ушел на фронт, когда Оленька была крошечной. Что-то такое брезжило в голове — руки огромные и теплые, шершавая ткань под щекой, внимательные синие глаза. Может, Ольга Ивановна подсмотрела это в одном из фильмов про войну, а может, и правда запомнила. Мать через много лет привела в дом нового мужика, но Ольга Ивановна быстро сбежала от них — отчим выпивал, поколачивал и даже звал детей, брезгливо оттопырив нижнюю губу. В ее памяти отчим тоже остался черным силуэтом, ничего от него не сохранилось, как корова слизнула языком. Наверное, просто так сильно хотелось забыть.
В детстве Оленька часто ходила с мамой на работу, в тусклый и сырой полуподвал без окон, где по стенам висели шторы, кружавчики, рюши и тюль. Люди часто заглядывали в ателье, мяли в пальцах все это богатство до той поры, пока шторки не морщились и не серели от чужих касаний. Оленька играла с отрезами ткани, с нитками и ножницами, кромсала подушечки о лезвия и рыдала, а мать гнала ее с окровавленной рукой подальше от очередного платья или новеньких брюк. Матери было непросто: она часто плакала, когда думала, что дети не видят, но над рабочим столом всегда преображалась — чертила обмылками тонкие белые полосы на ткани, прикладывала длинную деревянную линейку, резала и строчила. Довольно хмыкала своим мыслям.
Громыхала в углу швейная машинка, а Оленька крутилась у всех под ногами. Мамина напарница вечно дарила ей что-нибудь: то тяжело пахнущую веточку черемухи, то яблоко, белый налив, то пуговицу блестящую. У напарницы не было детей, и Оленьку они с мамой воспитывали на пару.
Чуть повзрослев, Оленька и сама пришла в ателье, сначала в то же самое, а потом перебралась в место поближе к новому дому. До глубокой старости, пока глаза еще могли видеть иголку, а пальцы успевали за швейной машинкой, Ольга Ивановна пропадала за работой. Бежала теплым весенним утром, выпрыгивая из босоножек, только бы набросать новый силуэт и достать с полки рулон тяжелой ткани. Ее знали по всему городу. Костюмы на свадьбу к дочерям заказывали только у Ольги Ивановны, подшивать тюли тоже бегали к ней, она расшивала блузочки и ушивала юбки, делала всю работу на совесть. Ночами сидела под голой лампочкой без абажура, подтянув светильник к глазам, и не вставала со скрипучего стула, пока строчка не выходила идеально ровной, а платье не сидело на очередной невесте, как влитое.
Сама она дважды выходила замуж. Был еще и третий суженый, гражданский, двух последних похоронила сама Ольга Ивановна. Даже шила им галстуки в гроб: второй муж любил ярко-алый, а третьему было все равно, и она взяла зеленый отрез с синим отливом. Первый муж сбежал, только пятки сверкали, но от него Ольга Ивановна родила единственную дочку — хилую Танечку, которая болела больше, чем жила здоровой. То бронхиты, то кишечные колики, то диабет, то гайморит, то краснуха... После Танечки Ольга Ивановна дала себе зарок, что ни одного ребенка больше не приведет в этот мир, будет воспитывать племянников и внуков. Правда, к тридцати годам Танечка все же стала крепкой и живучей. Один из кавалеров увез ее далеко-далеко и почти три недели продержал у себя дома. Бил, мучил, может и насиловал даже, и Ольга Ивановна думала, что Таня совсем сломается, зачахнет, а Таня вернулась боевая и полная желания жить. Нарожала один за другим четверых детей, удачно вышла замуж, и они всей семьей укатили в столицу. Правда, вернулись через несколько лет, не прижились. Про кавалера того Танечка не вспоминала и запретила матери даже заикаться о нем, только взгляд у нее стал суровый, вечно что-то подозревающий.
И вот они, внуки, правнуки и пра-пра, ходят по дому Ольги Ивановны, выглядывают в окна. Ждут, когда она совсем захиреет. А Танечка, между прочим, выглядит старше самой Ольги Ивановны, того и гляди уйдет первее всех. Сидит целый день, вытаращившись перед телевизором, и только морщится от инсулиновых уколов. Сдала мелкая, совсем сдала...
— Бабушка сошла с ума, — донеслось из-за приоткрытой створки, теплый сквозняк выдул на улицу занавеску. C кухни нервно застучали ножами. — Не соображает ничего. Надо психиатра звать, пускай он решает...
— Никакой психиатр ее на эвтаназию не отправит. Ты же сама знаешь, все добровольно.
— Но с головой-то беда!
— И чего? — вскрикнули так хрупко и нежно, что Ольга Ивановна улыбнулась. Этот голос она всегда узнавала среди других. — Значит, у тебя тоже с головой проблемы, раз дождаться не можешь. И не жалко?
— Жалко! Мне — жалко! Я не хочу, чтобы она столько мучилась, оттягивала. Ползает, как ящерица без хвоста.
— Заканчивайте языками чесать. Ясная у нее голова, слышали, как ругается? Как молоденькая.
— А опухоль, у нее же в груди все выросло, давит...
— Не хочет же умирать, так? Ну так и дайте ей пожить немного.
Замолчали. Засвистел чайник на газовой плите, зарыдал Славик в глубине дома, только минуту назад рвавший щавель с грядки. К младшенькому кинулись тетешкать, уговаривать. От клубничных листьев пахло сладостью, еще не рожденными ягодами, покачивались на тонких стебельках белые цветы.
Ольга Ивановна набрала воздуха и крикнула из вредности:
— Как вас слышно хорошо, милые! — и, подумав, добавила: — Сами вы ящерицы, холодные и скользкие.
Кухня пристыженно замолчала, даже чайник угомонился.
Ольга Ивановна расхохоталась.
Со вчерашнего вечера холодильник ломился от салатов и остывшего горячего, но внучки все равно что-то резали, кромсали и чистили. Вчера они специально взад-вперед ходили мимо Ольги Ивановны с подносами и тарелками: лил дождь, и старуха сидела у окна, уткнувшись грудиной в подоконник. Болело страшно, но на все вопросы Ольга Ивановна лишь улыбалась и кивала. «Яблоко положить в крабовый салат, бабуль? Капусту потушим, ты же ее больше жареной любишь, да?».
Ей натушили целый тазик капусты, с морковкой, с лучком, только бы она не передумала.
— Завтра поедем, точно, — успокаивала Ольга Ивановна, устав ловить на себе пристальные взгляды. — Решила. Умру, и проблем вам не будет.
— Бабаня, ну какие проблемы...
— Милая ты наша, хоть сто лет живи, только бы тебе хорошо было.
— Только твое слово и ждем.
Они приехали почти три недели назад, собрались семьями, с детьми и внуками. Разложились, устроились. По вечерам жарили под козырьком душистые шашлыки, шумной толпой ходили купаться на ледяную речку. Взрослые внуки, с утра раздобыв где-то удочки и спиннинги, брали бутылку и бежали «удить карасей, успокаивать нервы». Рыбы приносили мало, их жены скандалили, а одна из внучек клятвенно обещала или закопать муженька в саду, или отправить его восвояси. Хорошо еще, что у пра-пра учеба почти закончилась, и всех их можно было привезти к бабушке в деревню.
Старая семейная традиция, единственная из всех, забытых — хоронить надо дружно, всей семьей, даже дальним родственникам. Некоторых, конечно, не отпустили с работы, кто-то прикрылся проблемами со здоровьем, а один из племянников, Федя, кажется, в это время сидел за грабеж. Младшие шепотом договорились ничего Ольге Ивановне не рассказывать, чтобы бабушка не расстраивалась, а она подслушала и только посмеялась. Никакого Феди она не помнила, но мысленно пожелала ему легкой отсидки. От сумы и от тюрьмы, как говорится...
Приехали родные, потому что Ольга Ивановна решилась на эвтаназию. Сказала, что пожила много и хорошо, что опухоль в груди хоть и доброкачественная, но выросла так, что спасения от нее нет. Годы, опять же... Бодрая и неунывающая Ольга Ивановна наконец решила, что ей пора. Почти всех подруг давно увезли в больницу, в маленькую комнату с широким, начисто вымытым окном, через которое круглый год лилось согревающее солнце. Каждую подругу Ольга Ивановна расцеловывала, каждую перекрещивала, хоть никогда и не показывалась на пороге церкви, каждой повторяла:
— С богом!
Пришло и ее время. Умирать Ольге Ивановне было нестрашно, интересно даже, что-то вроде далекой поездки на черноморское побережье, в санаторий с чистым воздухом и трехразовым питанием — главное, чтоб не болело. Будут ли там, за чертой, дожидаться ее дряхлые подруги? А мужья, как им двоим законным и третьему, гражданскому, в глаза смотреть? А узнает ли Оленька отца-солдата? Может, ее вообще на сковордку бросят, и пусть шкварчит там бедная, жила-то хорошо, и чревоугодничала, и завидовала, и аборт был... Словом, простор огромный. Да и внуки, правнуки давно готовились, лет двадцать так точно. Выплакали, выстрадали. Сейчас делают, конечно, грустные физиономии, трепетно гладят ее по крепкому плечу, но все они устали месяц куковать в переполненном доме и ждать, когда Ольга Ивановна решится на смерть.
А она каждый день находила новую отговорку. Садятся уже по машинам, предлагают Ольге Ивановне инвалидное кресло, которое она ненавидела и которым не пользовалась, а она выползет на крылечко, вдохнет во всю больную грудь, закашляется и просипит:
— Весна-то, весна, а! Не пойду. Дайте погреть косточки перед смертью.
Все возвращаются в дом.
Завтракает Ольга Ивановна, ест рулетики из баклажанов с помидорами и майонезом, тещин язык, щурится от удовольствия:
— Вкуснотища... Завтра еще хочу, приготовите, девочки, не сложно?
Девочки одинаково щерятся и кивают.
То соловей поет в голом абрикосе, то трава вылезет у забора, то настроение плохое, а разве можно с плохим настроением умирать? То сережки надо новые, хочет Ольга Ивановна с новыми сережками в гробу лежать, и ее везут в город, и таскают по ювелирным магазинам, и внук носит на загривке, а Ольга Ивановна морщит нос. Нашла потом, правда. И как специально листья начали распускаться на яблоньке, клейкие, пахучие.
Ворчание разрасталось, будто жило теперь по углам и даже ночами бормотало в уши несносной Ольге Ивановне. Она вспоминала подруг — те соглашались умереть, только когда становилось совсем худо или тоскливо. Им устраивали пышные проводы-застолья, как дембелям, и наутро незаметно увозили в больницу для спокойной смерти.
Но что-то Ольгу Ивановну останавливало. Она просыпалась, видела утренний туман и хмарь, наползающие в гулкую комнату, и думала: «Не сегодня». Трепетала невесомая паутинка под потолком, за плинтусами скреблись мыши, орал глупый соседский петух. И вот уже три недели таких «несегодня». Внукам в глаза смотреть стыдно, честное слово.
Но терпят, вроде. Столы накрывают, хохочут, пьют ее настойку смородиновую да рябиновую. И сразу так много голосов вокруг, так людей много, и яркие пятна футболок, и юбки, которые подметают пол, и шлепанцев у дверей россыпь, и Славик из давно опустевшей собачьей будки гавкает, и хорошо так... В первые дни все они, шумные и вечно попадающиеся на глаза, Ольгу Ивановну раздражали. Теперь она радовалась, грызла сыр-косичку и волоклась следом за ними на реку, окунуть грубые ладони в воду, в траву, залитую весенним половодьем, отскрести от кожи впившиеся камешки. Бегала на руках Ольга Ивановна и правда резво, много лет практики давали о себе знать.
Вечером ей поставили уколы — хорошо еще, что одна из правнучек отучилась на медсестру. Уложили бабку на кровать, столпились вокруг, молчаливые, хмурые. Ольга Ивановна хохотнула:
— Ну, и чего? Умирать не собираюсь.
— А завтра? — спросил тот самый хрупкий голосок, баюкая Славика на руках.
— Завтра и посмотрим... — сонно ответила она.
Платье для гроба Ольга Ивановна так и не дошила.
Она думала подождать до июня, когда можно будет упасть в реку и лежать на прогретых камнях или набрать полные руки виктории, как Ольга Ивановна с детства называла клубнику. Или же лучше уйти после очередной грозы, с грохотом и молниями на черном небе, когда все маленькие пра-пра забивались под кровать в ее комнате и испуганно катали машинки, а она заползала к ним, рисовала мелками на пыльных досках и расчесывала кукол.
Не сегодня. Не сегодня.
Не...
Пришел холодный июнь, и дом начал пустеть. Ольгу Ивановну все же заставили сесть за швейную машинку, и она дошила юбку — кривую, неказистую, чуть не заплакала даже от ее сиротливого вида. Внучки в четыре руки помогли переделать. Новые домочадцы съели соления и варенья, начисто несколько раз вымыли дом и, кажется, даже объявление о продаже подали, но Ольга Ивановна никак не могла решиться. Ее свозили в больницу, показали ту самую «умиральную яму» с огромным окном и куцыми занавесками, кровать с матрасом в пятнах («Мы свой привезем»», — успокаивали правнуки) и несколько табуреток («Дома много, возьмем» — подтверждали внуки), но комната казалась пустой и бездушной. Там пахло хлоркой и таблетками, а для Ольги Ивановны именно так пахла смерть.
Из комнаты этой она сбежала на руках. Одна из правнучек расплакалась у всех на виду, вытаращилась на прабабку огромными виноватыми глазами. И чего в этих глазах было больше, нетерпения или скорби, Ольга Ивановна так и не поняла.
Она проснулась очередным летним утром и поняла, что пора. Ехать «за укольчиком», как уговаривали все вокруг, не хотелось, и Ольга Ивановна решила умирать сама. В груди болело так, будто кто-то всю ночь простоял в свинцовых ботинках прямо у нее на ребрах, а под утро и потанцевал на всякий случай. Во рту высохло, язык прилип к небу. Ольга Ивановна едва разлепила тоненькие веки и поползла к выходу. Дом еще спал.
Оставалось только вспоминать.
Дети разъезжались. Ольга Ивановна в последнее время всех их называла своими детьми, или, обращаясь к каждому, «ребятенок мой», и они тускнели лицами. Она черно шутила, закатывалась смехом или вела малышню ловить лягушек в овраге, создавала видимость простых семейных посиделок. Правнуки разбегались во все стороны, Ольга Ивановна прыгала за ними на ладонях и чувствовала себя удивительно сильной и живой. Будто напоследок ей дали погулять, подышать вволю, вернули молодые силы. Ольга Ивановна складывала альбомы, фотографии, письма, каждому из детей поручала свое наследство, разглядывала похоронное платье и купленные сережки. Сережки были некрасивыми, но на безрыбье...
Машины отчаливали, внуки целовали ее в сухие щеки, отводили глаза. Рассказывали, что их и так вот-вот убьют на работе, что они взяли пару дней на похороны прабабки, а оно вон как получилось. Что малышей ждут в садике, что проекты горят, что люди умирают, но это все равно было чудесное время — с бабушкой в деревне, — и что они всегда ее будут помнить, и потом обязательно с венками приедут на могилу.
Они уезжали, а Ольга Ивановна снова тянула.
До этого утра.
В саду пеленой стоял туман. Солнечная макушка только-только показалась над деревьями и низкими крышами, подсветила листву розовым и желтым. Воздух был полон воды. Ольга Ивановна села на крылечке, прислонилась спиной к косяку. Подняла свои руки в темно-коричневых пятнышках, пошевелила пальцами. Морщинистая кожа висела чулком, повсюду прощупывались хрупкие косточки. Ольга Ивановна представила себя очаровательным белоснежным скелетом и улыбнулась.
От росы стало холодно, ночная рубашка вымокла насквозь. Ольга Ивановна доползла до калитки, с трудом распахнула ее, выкатилась на дорогу. Много лет назад она вот так же выскочила, и ее сбило машиной, протащило по гравийной дороге под днищем. За рулем были мальчишки, совсем дети еще, дорвавшиеся до отцовской бутылки и отцовского же руля. Они бегали вокруг Ольги Ивановны и голосили, а она лежала на спине и смотрела в низкое, такое странно синее небо. Она была уверена, что умирает, кровь хлестала отовсюду, толчками выходила изо рта, нога не двигалась.
Правую ампутировали в больнице, левая стала слабая, но Ольга Ивановна выжила. Прошла реабилитации, научилась по тридцать раз подтягиваться на руках на турнике и бегала по деревне забавной безногой зверушкой. Малыши подходили и, смущаясь, просили ее приподнять юбку. Ольга Ивановна гордо показывала белый обрубок культи, и дети не отворачивались, не охали и не ахали, трогали осторожно и шептали с выпученными глазами:
— Круто!
— А то,— улыбалась им Ольга Ивановна.
Потом, конечно, на беседу приходили родители, но это того стоило.
На суд к мальчишкам Ольга Ивановна приехала в кресле — культя заживала, руки были слабенькие, зато голос — богатырский. Не слушая никого, она выехала в центр зала, ткнула заскорузлым пальцем в ребят и приказала:
— Простите их! Дурные, да. Но жизнь ломать пацанятам я не дам.
Соседи шептались, что Ольге Ивановне приплатили. Другие называли ее полоумной. А она, забыв об уколах и перевязках, приезжала на каждое заседание. Пацаны при виде нее бледнели и серели, а она привозила им морс в пластиковой бутылке и покупное печенье. Ребятам кусок в горло не лез, но они каждый раз благодарили и просили прощения. Ольга Ивановна не держала на них зла — все в детстве глупые были, и она не исключение. А нога... Ну и что, нога? Сожгли, наверное, ногу в больничном крематории, и черт бы с ней.
Кажется, мальчишкам дали условный срок или отправили в колонию-поселение для несовершеннолетних, за город, на свежий воздух — Ольга Ивановна не помнила. Через пару лет она встретила одного из них на улице, и он быстро отвернулся, будто не узнал. Она не стала его беспокоить.
Утро, свежесть, пора умирать! Ольга Ивановна заползла в палисадник, где тянулись к небу мясистые сине-фиолетовые ирисы, и легла на траве. Глубоко вдохнула, выдохнула. Даже грудь приподнялась, раскрылись легкие, и боль чуть отступила.
Ольга Ивановна... никак не могла умереть.
Очнулась от того, что ее трясут за плечи. Испуганные, перебаламученные родственники перед лицом. И хрупкий голосок, дрожащий в воздухе:
— Живая, живая, живая?!
Ольга Ивановна довольно улыбалась им, тянула руки. Ей казалось, что сейчас она даже сможет встать и пойти. Как-то снова захотелось жить.
Уехали почти все. Кто был поострее на язык, тот закатывал скандалы, на шиканье разъярялся больше прежнего, кричал, что чокнутая бабка тут всех уже до ручки довела. Что ее скрутят, усадят на старые огородные носилки, на которых она раньше волокла за собой траву в компостную яму, и отвезут «на укольчик». Что все здесь люди взрослые, серьезные, у всех свои жизни и дела, а она играется — сегодня хочу умереть, а завтра не хочу. Самые добросердечные и слабенькие обнимали, плакали, будто уже вместо Ольги Ивановны видели бордовую крышку гроба.
Она снова ела творог ложками по утрам, снова выдергивала расплодившиеся одуванчики, а среди бледных клубничных цветов появились зеленые ягодки. Ольга Ивановна решила, что все же не будет умирать, пока не поест виктории.
Еще несколько деревенских стариков увезли на эвтаназию. Видимо, совсем невмоготу им было... Маска с кислым воздухом на лицо, плачущие родственники вокруг кровати, укол, и насухо вытертые глаза, как только любимый дедушка уснул. Вступления в права наследования, продажа дома, разбор вещей. Похороны, кутья, венки.
Ольге Ивановне было противно.
В большом доме остались лишь хрупкий голосок и Славик, который топал слоником, таскал Ольге Ивановне мелкие ромашки и до ужаса боялся соседских гусей, следя за этими кусачими облаками белых перьев из-за забора. Ели втроем в молчании, разговоров о смерти больше не вели.
Ольга Ивановна выползала на улицу, садилась под абрикос и брала в руки шланг, разбрызгивала по грядкам речную воду. Воздуха, которым старуха могла бы дышать, почти не осталось. Хрупкий голосок научился у медсестры ставить уколы и рассчитывать дозировку таблеток, но теперь к ним заглядывала и сиделка, давняя знакомая Ольги Ивановны — помогала вымыться в ванне, готовила на всех, купала Славика в баке у крыльца. И все же дом, опустевший и молчаливый, стал Ольге Ивановне чужим.
Она грела косточки каждый день.
Иногда хрупкий голосок сидела рядом, расчесывала пальцами русые волосы и тихонько вздыхала, когда капли воды попадали на ее разгоряченную кожу. Голосок выросла почти точной копией Ольги Ивановны, только вот бедра у нее были полнее и нос с горбинкой — чья-то незнакомая примесь. Голосок вытягивала из тенечка загорелые ноги, улыбалась солнцу.
Так было и в этот раз.
— Ты не злишься? — спросила ее Ольга Ивановна, нахлобучивая забытую кем-то кепку на глаза. Славик бегал перед ними, прыгал в струю ледяной воды и с визгом отскакивал обратно.
— Не злюсь, — сказала Голосок.
— И не торопишься?
— У меня же декрет. Мужу даже нравится, что я уехала, и Славику хорошо. Воздух, речка, ягоды скоро пойдут... Сколько хочешь, столько и жди. Мы не спешим. Хочешь в своей постели уйти, от старости — пожалуйста. Хочешь, машину у Павла Игнатьича возьмем и хоть завтра в больницу поедем. Я тут буду, сколько тебе будет нужно.
Ольга Ивановна скупо кивнула, стиснула ладонью шланг. На три вытянутых ноги из-под листвы пробивалось горячее солнце.
— Спасибо тебе, — охрипла вдруг Ольга Ивановна.
Хрупкий голосок пожала плечами:
— Да ладно тебе, чего я, не понимаю. Всем страшно. Но мы рядом, мы поможем, поддержим. Все чин-чином. Не спеши, спешить больше некуда...
И Ольга Ивановна расплакалась. Слез у нее почти не осталось, только сухостью вспыхнули глаза. Она отбросила шланг на тропинку, не заметив недовольного Славкиного вскрика, потянулась к правнучке — да, кажется к правнучке.
Настя. Настенькой ее звали. Вцепилась в руку, погладила раз, другой, третий.
— Если до виктории сама не уйду, то в больницу укатим. Я и ты. И в другой комнате, не в этой... Ладно?
— Ладно, — тут же сказала Настя. Наверное, она уже привыкла к прабабкиным обещаниям и не воспринимала их всерьез. Тогда Ольга Ивановна сильно сжала ее плечо, заглянула своими старыми, бесконечно старыми глазами в Настю.
Ничего внутри Ольги Ивановны уже не осталось, кроме скорого предчувствия смерти.
— Обещаю тебе, Настенька. Обещаю.
И обещание свое сдержала.



