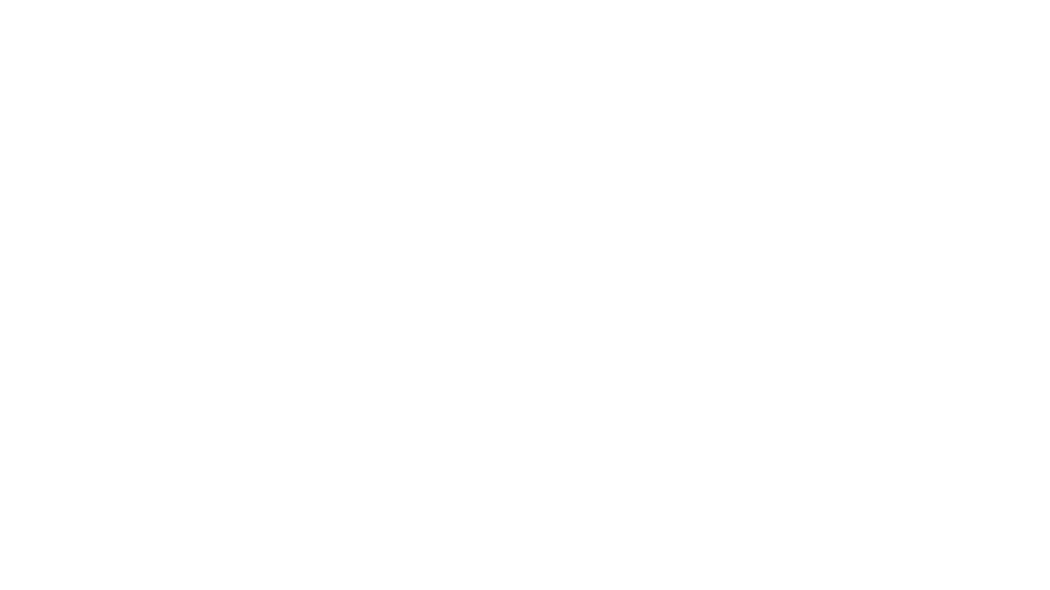
Ирина Иваськова — Подозрительные вещи и забытые предметы
Ирина Иваськова родилась в 1981 году в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», работала юристом около десяти лет. Писать небольшие повести и рассказы начала в 2007 году. В настоящее время занимается созданием статей для различных интернет-сайтов, а также кубанских газет и журналов. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Север» и др. Живет в Анапе.
— А смерти, моя деточка, мы можем противопоставить только рождение… — Вероника покрутила карандаш и вывела что-то в клетках кроссворда. — Северный ветер это ведь «норд», правильно?
Я ничего не ответила и отвернулась к стене, стараясь собственными мыслями заглушить её глуховатый, будто бы выцветший голос. Мальчик, мальчик, у меня непременно будет мальчик. И я назову его…
— Ни-ко-лай. Так же звали поэта Гумилёва? Не помню уж, чего он там писал. В школе вроде читала, а всё позабыла.
Мне трудно представить Веронику школьницей. Кажется, она сразу родилась вот такой — с крашеными хной волосами, в тяжёлых, оттягивающих тонкую мочку золотых серьгах. Даже сейчас она умудряется пудрить лицо — зачем, для кого? — а глядя в зеркало складывает губы бантом.
Мне не нравится Вероника. Но я очень люблю её за то, что она здесь, со мной, и я могу раздражаться от шелеста газет, запаха растворимого кофе и внезапных глубокомысленных фраз о смерти, рождении и прочих не имеющих сейчас никакого значения вещах.
Нет пока никакого рождения — оно будет, но нескоро. А уж смерти и подавно — никак не может быть.
Я отворачиваюсь от стены, гляжу на Веронику почти нежно и думаю о том, что никогда бы не назвала своего мальчика Николаем. Острое, большое имя, полное горького и неловкого смирения. Разве можно так называть детей? Им вообще не идут взрослые имена, и лучше было бы, если бы младенцев никак не звали, или подбирали бы для них какое-нибудь невесомое, не людское, а речное или лесное слово. Что-то о шелесте листьев над водой или солнечных брызгах вперемешку с легкой тенью. Я представляю, как зову своего мальчика шелестом или солнцем, и закрываю глаза, чувствуя перед самым погружением в сон, что Вероника укрывает меня одеялом.
Электричество отключилось вчера, рано утром. Ежедневный бытовой фон — гудения холодильника и электрокотла, щелчков батарей отопления — оборвался так резко, что тишина тут же стала давить на уши и будто бы распирать меня изнутри. Лишившись привычной, пусть негромкой, но постоянной звуковой оболочки, я стала слышать, как высоко, за плотным облачным слоем гудят невидимые самолёты, и где-то далеко-далеко, за лесом иногда раздаётся треск — резкий и короткий, а за ним грохот — долгий и перекатистый.
Вероника прислушивалась к гудению и треску, замирала, потешно прикладывая руку к уху, а потом бормотала нарочно отчётливо, чтобы я услышала, что-то про сухие ветки, ветер, идущую в нашу сторону грозу.
Завтракали печеньем и морсом — светло-жёлтой сладковатой водицей, разведённой из Вероникиных запасов облепихового варенья.
— В облепихе витаминов — тьма! — твердила Вероника, с усилием колотя ложкой в стакане. Оранжевая, плотная, ещё в прошлом году протёртая сквозь сито и уваренная с сахаром массаупрямилась и растворяться не хотела — глотая морс, я чувствовала сладкие крупинки на языке, а потом представляла, как те самые витамины текут по моей крови прямиком к самой середине тела, туда, где гнездится крохотный плод.
Ближе к обеду Вероника выволокла из кладовки во двор маленькую, на одну конфорку, походную газовую плитку, и круглый, похожий на пузатую кастрюлю газовый баллон.
— Боюсь я этих газовых дел — страсть! Но без жидкого тебе никак нельзя… — причитала она, роясь в кухонном шкафчике. — Да где эта штуковина… — и, вооружившись похожей на школьную указку зажигалкой, банкой тушёнки и горсткой крупно нарезанных овощей, отправилась на улицу варить суп.
Я закрывала глаза и пыталась представить, как тоже выхожу вслед за ней во двор — ведь и не рассмотрела его толком. Усесться бы на крыльце, вытянуть ноги и подставить всё тело солнцу. Поглядеть, что там у Вероники в саду. Понюхать и пощупать новенькие зелёные листья. Познакомиться с её псом и кошками. Если бы они были моими животными, то спали бы со мной рядом — собака на полу, а кошка — на постели.
Когда Вероника появилась возле меня с глубокой суповой тарелкой, я, смущаясь и глотая слёзы, попросила её принести мне пару зелёных листков с любого дерева, и, если можно, привести хоть на минуту собаку или кошку.
Отвязывать и вести в дом пса Вероника наотрез отказалась, а кошку — рыжую, косоухую — принесла, но погладить мне не дала и показала лишь издали. Кошка уставилась на меня круглыми жёлтыми глазами — больше совиными, чем кошачьими, и махнула ободранным хвостом.
— Поглядела? — спросила Вероника, — ну и хватит. А то мало ли какой дряни с неё насыплется. Хочешь, потом ещё белую покажу, если изловлю. Она вечно шляется где-то, не отыскать!
Она выкинула кошку за дверь и вымыла руки. А потом достала из карманов куртки и высыпала на одеяло рядом со мной ворох мелких, ослепительно-свежих листьев и пучок узких травинок.
— Мало ещё наросло, рано. Вот через месяц сад не узнаешь! Ещё и зацветёт всё! Да не реви ты, чего это вздумала. Понюхай лучше, как зеленью пахнет — сразу плакать расхочется. И ешь суп-то, пока горячий…
Вероника, хоть и строила из себя женщину ухватистую, деревенскую, на деле была городская, от серьёзных садовых и огородных дел далёкая. Этот дом — одноэтажный аккуратный коттедж в крохотном дачном посёлке всего на десять участков — купила она несколько лет назад, когда жив был её муж, и сын собирался жениться.
— Я, деточка, родилась-то в деревне — далёко отсюда, за Уралом. Мать с отцом всю жизнь носом в землю. А я отучилась, в райцентр уехала, а потом уж в Москву. Там и замуж, и работала — до самой пенсии. А потом сюда, поближе к теплу, всей семьёй решили рвануть, мы, значит, с мужем, ну и сын со своей. Квартиру в городе взяли, и домик вот этот, чтоб на воздухе да со своими овощами-фруктами… А Мишка-то мой возьми да умри. И сын развёлся, даже внуков родить мне не успел, и обратно в Москву подался. Осталась я одна совсем. Сюда как на дачу приезжала, уж и не ростила ничего, одни цветы да укропчику там, петрушки. Собаку завела, кошки прибились всякие. Но вообще как Мишки не стало, как-то посыпалось всё. Я тогда ещё подумала — беда в семью пришла, прилипла, и не отстанет теперь, будет расти и расти нам вместо овощей… Так и вышло.
Дурацкие слова про беду она повторяла почти каждый день, слушая радио, вздыхая и тыча указательным пальцем куда-то в окно. На имени мужа её голос дрожал, но она не плакала, а шла к зеркалу, пудрилась и кашляла.
— А как вам в Москве жилось? Нравилась она вам? — спрашивала я, пытаясь представить её молодой и влюблённой в жениха — почему-то мне казалось, что он был невысокий, плотный и улыбчивый — вроде Гагарина.
Вероника пожимала плечами и недоумённо хмурилась.
— Москва как Москва. Чего в ней такого. Большая. Народу-у-у! Ну, красивая, конечно. Столица!
Я разочарованно закрывала глаза и снова злилась — можно ли быть такой скучной! Сама я была в Москве только один раз — очень давно, в раннем детстве. Мне было пять, а маме тридцать, и я ничего не запомнила из той поездки, кроме широкой, мокрой после дождя улицы с чёрным блестящим асфальтом и мелкими лужицами, полными золотых, серебряных и красных огней. «Смотри, смотри!» — говорила мне мама и кивала головой вверх, а я не могла оторвать взгляда от мокрого разноцветного сияния, идущего, как мне казалось, откуда-то из-под земли.
— Съездишь ещё… — утешала меня Вероника, по-своему истолковав моё молчание. — Какие твои годы. Вот родишь, подкормишь годик, да и поедете — хочешь в Москву, а захочешь — на море. Даст бог уж утихнет всё, и будет всё по-прежнему, по-хорошему. Нельзя же шуметь вечно, нужно людям и отдых дать.
Ужинали бутербродами с колбасой и огурцами.
Засыпала я плохо. Батареи совсем остыли, в комнате стало сыро и холодно. От долгой неподвижности — я почти не вставала с этой кровати уже четыре дня — руки и ноги онемели и потеряли гибкость. Внизу живота тянуло — еле-еле, но ощутимо, будто кто-то невидимый натягивал тонкие, с волосок, струны и проверял их на прочность, а мне приходилось удерживать их всем телом, всеми мыслями. От напряжения я устала и провалилась в сон, больше похожий на обморок, но несущий всё же облегчение и забытье.
— Тсс… — чей-то шёпот пробился сквозь плотную толщу сна, и я медленно, раздвигая головой тёмную воду и водоросли, выплыла в явь. — Тихо, милая, тихо-тихо…
Вероника, еле видная в темноте, стояла перед моей кроватью на коленях и гладила меня по плечу.
— Молчи… Не шевелись. Ходят там.
За окном слышались два мужских голоса — сначала неясно, издали, потом всё ближе и чётче.
— Сюда? Мож сюда, смотри, ничё так хата? — спрашивал один, шмыгая носом.
— Можно и сюда… — лениво растягивая слова, отвечал другой, и от его голоса мне стало страшно до паники, до крика. Словно почувствовав это, Вероника мягко, но плотно закрыла мне ладонью рот, и её рука пахла кокосовым мылом и луком. Мальчик, мальчик, у меня должен быть мальчик… — твердила я про себя и мелко дрожала всем телом, — и я назову его…
— Лёх, глянь, — первый голос будто приподнялся на цыпочки, — там собака походу. Слышь? Вылезла. Мож камнем её? Или пристрелишь?
Сквозь звон цепи, грохот заборных вороти лай слышно было, как матерился первый. Напрыгавшись и налаявшись до хрипоты, Вероникин пёс принялся рычать — низко, долго и угрожающе.
— Уехали, а собаку бросили. Вот уроды, — протянул второй. — Не, возни много. Пошли.
Тихо переговариваясь, они двинулись вверх по улице — к большому двухэтажному коттеджу, последнему в ряду дачных домов.
Вероника осторожно отняла ладонь от моего лица и забралась на кровать.
— Подвинься-ка. Я с тобой побуду. Укройся, простудишься ещё. Дом-то совсем остыл, — шептала она, набрасывая на меня одеяло и обнимая за плечи. — Ну не трясись, не трясись. Спи.
— Послушайте, ну что вы хотели. Тридцать восемь лет. Три выкидыша. Вам бы прекратить эти попытки, вы совершенно измучили свой организм. — Врач говорила сухо и строго, и её голос, слабый запах сладких духов, болезненно-яркий свет над моей головой и память о тонкой, как лезвие, тянущей вниз боли — всё казалось мне одним невыносимым цветом, звуком и запахом.
— Я всё-таки буду пробовать ещё, — сказала я. — Вот как вы советовали мне ещё давно, помните? Расслаблюсь и забуду обо всём на свете, как будто я просто живу себе и никакого ребёнка мне не нужно. Вы только скажите, что мне делать, если вдруг получится? — спросила я и зажмурилась, чтобы не заплакать.
— Я вам это советовала пять лет назад. Тогда и вы были поздоровее, и обстановка, знаете ли, благоприятствовала деторождению… — проворчала врач. — Что делать, что делать… Лежать и не шевелиться. И прямо с того места, в котором вы забеременеете — ко мне в клинику, причём не автомобилем, не автобусом и не поездом. А телепортом. Ну в крайнем случае — на скорой.
Пашка ждал меня в коридоре, и мне, как всегда, стало стыдно за то, что он должен таскаться со мной по больницам и терпеть мои слёзы. Может быть, если бы он упрекал меня, или сказал бы, что не хочет больше ничего, или ругался бы, когда я реву, мне было бы легче и проще. Но он вообще не говорил ничего, и делал всё, о чём я его просила, покорно и равнодушно.
— Мне нужно отвлечься, понимаешь? Забыть, как будто всё хорошо и ничего не было, — улыбаясь, говорила я ему в машине и старалась не думать, как выгляжу со стороны — опухшая от слёз, лохматая, полусумасшедшая, твердящая одно и то же вот уже пятый год.
Я понимала, что Пашка очень устал от всего этого, но он ни разу не чувствовал такой острой, горячей боли, какую чувствовала я, и не представлял, как это — бояться своей собственной крови, и от этого мой стыд перед ним сменялся злостью, потому что даже если я накричу на него сейчас или выскочу из машины на ходу, он не изменит этого своего выражения лица — спокойного и пустого. Наверное, я уже не любила его. И он — наверняка — не любил меня. Но это не меняло ровным счётом ничего — ни для меня, ни для него, потому что мы продолжали ехать в этой чёртовой машине домой, где я умоюсь, причешусьи даже зачем-то накрашусь, пока он будет смотреть новости и качать головой, а через неделю поедем на дачу — сорок минут от города по трассе мимо чужих окон, среди чужих машин, такие чужие друг другу, а потомв дачный посёлок приедет жёлтый автобус с надписью «ДЕТИ», и человек с громкоговорителем пойдёт между домами, а я буду стоять в туалете с полоскойтеста в руках и не слышать ни криков, ни стука в дверь.
Очнувшись от полуобморока-полусна, я смотрела в светло-серый квадрат окна и не могла понять, отчего мне так хорошо. Потом сообразила — электричество вернулось, и в комнате стало тепло. Шумел холодильник, пощёлкивали батареи, бормотало за стенкой радио. Далёкий низкий гул невидимых самолётов отступил, таял и растворялся за лесом редкий грохот — и вправду похожий на гром.
Вероника, устроившись у зеркала, обмазывала голову остро пахнущей зелёной жижей.
— Проснулась? — спросила она, услышав, как я зашевелилась. — Лежи пока, лежи. Сейчас я затылок домажу, и будем завтракать. Виданное ли дело, два сантиметра седины отросло. Ты, кстати, знаешь, что хна — она и для беременных разрешается? Тебе рыженький пойдёт!
— Да как же… — заволновалась я, вспомнив ночных гостей, и даже засомневалась — были ли они? Может, это был сон?
— А эти… — Вероника поджала губы, — ушли. Я утром в окно видела — вылезли из Машкиного дома и вверх по дороге почесали. С мешками. Ну, если они у Машкиного мужа инструменты утащили, беда… Одна ж косилка была нормальная на всю улицу. Вот гады! Ты как, сильно испугалась? Пригодился нам пёс-то! Я ему всю колбасу отдала — всё равно скоро бы испортилась.
Я кивнула, стараясь не вспоминать свою ночную дрожь, два голоса и Вероникин шёпот — тихо, милая, тихо… Не было всего этого. Приснилось. Не было ничего плохого и не будет. Вот приедет Пашка, как мы и договорились, со скорой помощью, заберёт меня отсюда и отвезёт в клинику, я лягу на прохладное белое постельное бельё, врач даст мне таблетки или поставит капельницу, и я приму всё что угодно, стерплю всё, что угодно, лишь бы…
— А твой-то, деточка, — перебила мои мысли Вероника, — третий день уж не едет. Я что, я хоть месяц тут просижу. Квартира моя в городе есть-пить не просит, запасов тут прилично — консервы, картошка ещё осталась, капуста квашеная… Но ты-то как? Я ещё вчера хотела тебе сказать, что дело нечисто, но ты уж больно кислая была. И эти ещё… Вдруг вернутся или другие придут?
— Не говорите ерунды, — сердито ответила я. — Ну не бросит же он меня тут одну с ребёнком? И вас — знает же, что вы со мной остались. Ну, если хотите, езжайте сами в город, до электрички вон двадцать минут пешком. А я тут подожду.
Я злилась на Веронику, и представляла, как наору на Пашку, когда он наконец-то объявится — за то, что ехал так долго, за то, что мне было так страшно и даже за то, что сотовая связь в посёлке пропала начисто. А потом вспомнила его спокойное пустое лицо за ветровым стеклом, и как он терпеливо ждал, пока вырулит перед ним на дорогу жёлтый автобус с дачниками, их собаками и кошками, как пропустил машины тех, кто уезжал сам, и ни разу не посмотрел в мою сторону, а я стояла на крыльце, держась за Веронику — всего третий раз виданную нами соседку по даче, и всё ждала, чтобы он обернулся и хотя бы улыбнулся мне напоследок.
— Спасибо вам, что остались со мной, — сказала я. — Вы простите, что так получилось. Но, наверное, он и вправду не приедет.
Я заплакала, чувствуя, как бегут по щекам тёплые слёзы — привычными, будто бы проторёнными дорожками. Наверное, если люди плачут так много, как я, то на коже, в конце концов, остаются борозды, как на земле после сильного дождя.
— И опять реветь, — Вероника натянула на волосы пакет и обмотала голову полотенцем. — Ну как бы я тебя бросила? Гляжу — мужичонка-то юлит. А ты, сразу видно, хорошая. Не повезло тебе, это бывает. В первородках под сорок лет нелегко ходить. Ну, даст бог, всё уладится, даст бог.
А я всё плакала и плакала, и борозды на моих щеках становились марианскими впадинами и марсианскими каналами. Я чувствовала, что весь мир — целый огромный мир — предал меня и оставил одну. Не было мне ни спасения, ни помощи, все храбрые сильные мужчины смотрели новости, укоризненно качали головами или ехали в своих машинах с такими лицами, будто бы всё на свете им известно и понятно. Что я могла сказать им? Чем поразить? Двухнедельным эмбрионом, цепляющимся за призрачную возможность жизни тончайшими, невидимыми глазу нитями? Пожилой женщиной с зелёной жижей на голове? Или псом, готовым умереть за неё без всякого промедления и сомнений?
Вероника собрала перепачканные миски, ушла на кухню, выключила радио и включила чайник. Травяной, острый запах хны смешался с запахом кофе, лилась в раковину вода, звенела посуда. Утренние серые сумерки ушли, и комната медленно наполнялась светом.
Мальчик, мальчик, у меня обязательно будет мальчик. Я назову его плеском, шелестом или солнцем, или холодной речной водой, а когда он вырастет, то сам придумает себе взрослое имя, сядет в большой самолёт, полетит над лесом, над морем, над пустынями и горами, ничего не будет бояться и никого не обидит. А когда будет пролетать над нашим домом, то не станет прятаться в облаках — спустится к самой крыше, сделает круг и покачает белыми крыльями на прощание.
Я ничего не ответила и отвернулась к стене, стараясь собственными мыслями заглушить её глуховатый, будто бы выцветший голос. Мальчик, мальчик, у меня непременно будет мальчик. И я назову его…
— Ни-ко-лай. Так же звали поэта Гумилёва? Не помню уж, чего он там писал. В школе вроде читала, а всё позабыла.
Мне трудно представить Веронику школьницей. Кажется, она сразу родилась вот такой — с крашеными хной волосами, в тяжёлых, оттягивающих тонкую мочку золотых серьгах. Даже сейчас она умудряется пудрить лицо — зачем, для кого? — а глядя в зеркало складывает губы бантом.
Мне не нравится Вероника. Но я очень люблю её за то, что она здесь, со мной, и я могу раздражаться от шелеста газет, запаха растворимого кофе и внезапных глубокомысленных фраз о смерти, рождении и прочих не имеющих сейчас никакого значения вещах.
Нет пока никакого рождения — оно будет, но нескоро. А уж смерти и подавно — никак не может быть.
Я отворачиваюсь от стены, гляжу на Веронику почти нежно и думаю о том, что никогда бы не назвала своего мальчика Николаем. Острое, большое имя, полное горького и неловкого смирения. Разве можно так называть детей? Им вообще не идут взрослые имена, и лучше было бы, если бы младенцев никак не звали, или подбирали бы для них какое-нибудь невесомое, не людское, а речное или лесное слово. Что-то о шелесте листьев над водой или солнечных брызгах вперемешку с легкой тенью. Я представляю, как зову своего мальчика шелестом или солнцем, и закрываю глаза, чувствуя перед самым погружением в сон, что Вероника укрывает меня одеялом.
***
Электричество отключилось вчера, рано утром. Ежедневный бытовой фон — гудения холодильника и электрокотла, щелчков батарей отопления — оборвался так резко, что тишина тут же стала давить на уши и будто бы распирать меня изнутри. Лишившись привычной, пусть негромкой, но постоянной звуковой оболочки, я стала слышать, как высоко, за плотным облачным слоем гудят невидимые самолёты, и где-то далеко-далеко, за лесом иногда раздаётся треск — резкий и короткий, а за ним грохот — долгий и перекатистый.
Вероника прислушивалась к гудению и треску, замирала, потешно прикладывая руку к уху, а потом бормотала нарочно отчётливо, чтобы я услышала, что-то про сухие ветки, ветер, идущую в нашу сторону грозу.
Завтракали печеньем и морсом — светло-жёлтой сладковатой водицей, разведённой из Вероникиных запасов облепихового варенья.
— В облепихе витаминов — тьма! — твердила Вероника, с усилием колотя ложкой в стакане. Оранжевая, плотная, ещё в прошлом году протёртая сквозь сито и уваренная с сахаром массаупрямилась и растворяться не хотела — глотая морс, я чувствовала сладкие крупинки на языке, а потом представляла, как те самые витамины текут по моей крови прямиком к самой середине тела, туда, где гнездится крохотный плод.
Ближе к обеду Вероника выволокла из кладовки во двор маленькую, на одну конфорку, походную газовую плитку, и круглый, похожий на пузатую кастрюлю газовый баллон.
— Боюсь я этих газовых дел — страсть! Но без жидкого тебе никак нельзя… — причитала она, роясь в кухонном шкафчике. — Да где эта штуковина… — и, вооружившись похожей на школьную указку зажигалкой, банкой тушёнки и горсткой крупно нарезанных овощей, отправилась на улицу варить суп.
Я закрывала глаза и пыталась представить, как тоже выхожу вслед за ней во двор — ведь и не рассмотрела его толком. Усесться бы на крыльце, вытянуть ноги и подставить всё тело солнцу. Поглядеть, что там у Вероники в саду. Понюхать и пощупать новенькие зелёные листья. Познакомиться с её псом и кошками. Если бы они были моими животными, то спали бы со мной рядом — собака на полу, а кошка — на постели.
Когда Вероника появилась возле меня с глубокой суповой тарелкой, я, смущаясь и глотая слёзы, попросила её принести мне пару зелёных листков с любого дерева, и, если можно, привести хоть на минуту собаку или кошку.
Отвязывать и вести в дом пса Вероника наотрез отказалась, а кошку — рыжую, косоухую — принесла, но погладить мне не дала и показала лишь издали. Кошка уставилась на меня круглыми жёлтыми глазами — больше совиными, чем кошачьими, и махнула ободранным хвостом.
— Поглядела? — спросила Вероника, — ну и хватит. А то мало ли какой дряни с неё насыплется. Хочешь, потом ещё белую покажу, если изловлю. Она вечно шляется где-то, не отыскать!
Она выкинула кошку за дверь и вымыла руки. А потом достала из карманов куртки и высыпала на одеяло рядом со мной ворох мелких, ослепительно-свежих листьев и пучок узких травинок.
— Мало ещё наросло, рано. Вот через месяц сад не узнаешь! Ещё и зацветёт всё! Да не реви ты, чего это вздумала. Понюхай лучше, как зеленью пахнет — сразу плакать расхочется. И ешь суп-то, пока горячий…
Вероника, хоть и строила из себя женщину ухватистую, деревенскую, на деле была городская, от серьёзных садовых и огородных дел далёкая. Этот дом — одноэтажный аккуратный коттедж в крохотном дачном посёлке всего на десять участков — купила она несколько лет назад, когда жив был её муж, и сын собирался жениться.
— Я, деточка, родилась-то в деревне — далёко отсюда, за Уралом. Мать с отцом всю жизнь носом в землю. А я отучилась, в райцентр уехала, а потом уж в Москву. Там и замуж, и работала — до самой пенсии. А потом сюда, поближе к теплу, всей семьёй решили рвануть, мы, значит, с мужем, ну и сын со своей. Квартиру в городе взяли, и домик вот этот, чтоб на воздухе да со своими овощами-фруктами… А Мишка-то мой возьми да умри. И сын развёлся, даже внуков родить мне не успел, и обратно в Москву подался. Осталась я одна совсем. Сюда как на дачу приезжала, уж и не ростила ничего, одни цветы да укропчику там, петрушки. Собаку завела, кошки прибились всякие. Но вообще как Мишки не стало, как-то посыпалось всё. Я тогда ещё подумала — беда в семью пришла, прилипла, и не отстанет теперь, будет расти и расти нам вместо овощей… Так и вышло.
Дурацкие слова про беду она повторяла почти каждый день, слушая радио, вздыхая и тыча указательным пальцем куда-то в окно. На имени мужа её голос дрожал, но она не плакала, а шла к зеркалу, пудрилась и кашляла.
— А как вам в Москве жилось? Нравилась она вам? — спрашивала я, пытаясь представить её молодой и влюблённой в жениха — почему-то мне казалось, что он был невысокий, плотный и улыбчивый — вроде Гагарина.
Вероника пожимала плечами и недоумённо хмурилась.
— Москва как Москва. Чего в ней такого. Большая. Народу-у-у! Ну, красивая, конечно. Столица!
Я разочарованно закрывала глаза и снова злилась — можно ли быть такой скучной! Сама я была в Москве только один раз — очень давно, в раннем детстве. Мне было пять, а маме тридцать, и я ничего не запомнила из той поездки, кроме широкой, мокрой после дождя улицы с чёрным блестящим асфальтом и мелкими лужицами, полными золотых, серебряных и красных огней. «Смотри, смотри!» — говорила мне мама и кивала головой вверх, а я не могла оторвать взгляда от мокрого разноцветного сияния, идущего, как мне казалось, откуда-то из-под земли.
— Съездишь ещё… — утешала меня Вероника, по-своему истолковав моё молчание. — Какие твои годы. Вот родишь, подкормишь годик, да и поедете — хочешь в Москву, а захочешь — на море. Даст бог уж утихнет всё, и будет всё по-прежнему, по-хорошему. Нельзя же шуметь вечно, нужно людям и отдых дать.
Ужинали бутербродами с колбасой и огурцами.
***
Засыпала я плохо. Батареи совсем остыли, в комнате стало сыро и холодно. От долгой неподвижности — я почти не вставала с этой кровати уже четыре дня — руки и ноги онемели и потеряли гибкость. Внизу живота тянуло — еле-еле, но ощутимо, будто кто-то невидимый натягивал тонкие, с волосок, струны и проверял их на прочность, а мне приходилось удерживать их всем телом, всеми мыслями. От напряжения я устала и провалилась в сон, больше похожий на обморок, но несущий всё же облегчение и забытье.
— Тсс… — чей-то шёпот пробился сквозь плотную толщу сна, и я медленно, раздвигая головой тёмную воду и водоросли, выплыла в явь. — Тихо, милая, тихо-тихо…
Вероника, еле видная в темноте, стояла перед моей кроватью на коленях и гладила меня по плечу.
— Молчи… Не шевелись. Ходят там.
За окном слышались два мужских голоса — сначала неясно, издали, потом всё ближе и чётче.
— Сюда? Мож сюда, смотри, ничё так хата? — спрашивал один, шмыгая носом.
— Можно и сюда… — лениво растягивая слова, отвечал другой, и от его голоса мне стало страшно до паники, до крика. Словно почувствовав это, Вероника мягко, но плотно закрыла мне ладонью рот, и её рука пахла кокосовым мылом и луком. Мальчик, мальчик, у меня должен быть мальчик… — твердила я про себя и мелко дрожала всем телом, — и я назову его…
— Лёх, глянь, — первый голос будто приподнялся на цыпочки, — там собака походу. Слышь? Вылезла. Мож камнем её? Или пристрелишь?
Сквозь звон цепи, грохот заборных вороти лай слышно было, как матерился первый. Напрыгавшись и налаявшись до хрипоты, Вероникин пёс принялся рычать — низко, долго и угрожающе.
— Уехали, а собаку бросили. Вот уроды, — протянул второй. — Не, возни много. Пошли.
Тихо переговариваясь, они двинулись вверх по улице — к большому двухэтажному коттеджу, последнему в ряду дачных домов.
Вероника осторожно отняла ладонь от моего лица и забралась на кровать.
— Подвинься-ка. Я с тобой побуду. Укройся, простудишься ещё. Дом-то совсем остыл, — шептала она, набрасывая на меня одеяло и обнимая за плечи. — Ну не трясись, не трясись. Спи.
***
— Послушайте, ну что вы хотели. Тридцать восемь лет. Три выкидыша. Вам бы прекратить эти попытки, вы совершенно измучили свой организм. — Врач говорила сухо и строго, и её голос, слабый запах сладких духов, болезненно-яркий свет над моей головой и память о тонкой, как лезвие, тянущей вниз боли — всё казалось мне одним невыносимым цветом, звуком и запахом.
— Я всё-таки буду пробовать ещё, — сказала я. — Вот как вы советовали мне ещё давно, помните? Расслаблюсь и забуду обо всём на свете, как будто я просто живу себе и никакого ребёнка мне не нужно. Вы только скажите, что мне делать, если вдруг получится? — спросила я и зажмурилась, чтобы не заплакать.
— Я вам это советовала пять лет назад. Тогда и вы были поздоровее, и обстановка, знаете ли, благоприятствовала деторождению… — проворчала врач. — Что делать, что делать… Лежать и не шевелиться. И прямо с того места, в котором вы забеременеете — ко мне в клинику, причём не автомобилем, не автобусом и не поездом. А телепортом. Ну в крайнем случае — на скорой.
Пашка ждал меня в коридоре, и мне, как всегда, стало стыдно за то, что он должен таскаться со мной по больницам и терпеть мои слёзы. Может быть, если бы он упрекал меня, или сказал бы, что не хочет больше ничего, или ругался бы, когда я реву, мне было бы легче и проще. Но он вообще не говорил ничего, и делал всё, о чём я его просила, покорно и равнодушно.
— Мне нужно отвлечься, понимаешь? Забыть, как будто всё хорошо и ничего не было, — улыбаясь, говорила я ему в машине и старалась не думать, как выгляжу со стороны — опухшая от слёз, лохматая, полусумасшедшая, твердящая одно и то же вот уже пятый год.
Я понимала, что Пашка очень устал от всего этого, но он ни разу не чувствовал такой острой, горячей боли, какую чувствовала я, и не представлял, как это — бояться своей собственной крови, и от этого мой стыд перед ним сменялся злостью, потому что даже если я накричу на него сейчас или выскочу из машины на ходу, он не изменит этого своего выражения лица — спокойного и пустого. Наверное, я уже не любила его. И он — наверняка — не любил меня. Но это не меняло ровным счётом ничего — ни для меня, ни для него, потому что мы продолжали ехать в этой чёртовой машине домой, где я умоюсь, причешусьи даже зачем-то накрашусь, пока он будет смотреть новости и качать головой, а через неделю поедем на дачу — сорок минут от города по трассе мимо чужих окон, среди чужих машин, такие чужие друг другу, а потомв дачный посёлок приедет жёлтый автобус с надписью «ДЕТИ», и человек с громкоговорителем пойдёт между домами, а я буду стоять в туалете с полоскойтеста в руках и не слышать ни криков, ни стука в дверь.
***
Очнувшись от полуобморока-полусна, я смотрела в светло-серый квадрат окна и не могла понять, отчего мне так хорошо. Потом сообразила — электричество вернулось, и в комнате стало тепло. Шумел холодильник, пощёлкивали батареи, бормотало за стенкой радио. Далёкий низкий гул невидимых самолётов отступил, таял и растворялся за лесом редкий грохот — и вправду похожий на гром.
Вероника, устроившись у зеркала, обмазывала голову остро пахнущей зелёной жижей.
— Проснулась? — спросила она, услышав, как я зашевелилась. — Лежи пока, лежи. Сейчас я затылок домажу, и будем завтракать. Виданное ли дело, два сантиметра седины отросло. Ты, кстати, знаешь, что хна — она и для беременных разрешается? Тебе рыженький пойдёт!
— Да как же… — заволновалась я, вспомнив ночных гостей, и даже засомневалась — были ли они? Может, это был сон?
— А эти… — Вероника поджала губы, — ушли. Я утром в окно видела — вылезли из Машкиного дома и вверх по дороге почесали. С мешками. Ну, если они у Машкиного мужа инструменты утащили, беда… Одна ж косилка была нормальная на всю улицу. Вот гады! Ты как, сильно испугалась? Пригодился нам пёс-то! Я ему всю колбасу отдала — всё равно скоро бы испортилась.
Я кивнула, стараясь не вспоминать свою ночную дрожь, два голоса и Вероникин шёпот — тихо, милая, тихо… Не было всего этого. Приснилось. Не было ничего плохого и не будет. Вот приедет Пашка, как мы и договорились, со скорой помощью, заберёт меня отсюда и отвезёт в клинику, я лягу на прохладное белое постельное бельё, врач даст мне таблетки или поставит капельницу, и я приму всё что угодно, стерплю всё, что угодно, лишь бы…
— А твой-то, деточка, — перебила мои мысли Вероника, — третий день уж не едет. Я что, я хоть месяц тут просижу. Квартира моя в городе есть-пить не просит, запасов тут прилично — консервы, картошка ещё осталась, капуста квашеная… Но ты-то как? Я ещё вчера хотела тебе сказать, что дело нечисто, но ты уж больно кислая была. И эти ещё… Вдруг вернутся или другие придут?
— Не говорите ерунды, — сердито ответила я. — Ну не бросит же он меня тут одну с ребёнком? И вас — знает же, что вы со мной остались. Ну, если хотите, езжайте сами в город, до электрички вон двадцать минут пешком. А я тут подожду.
Я злилась на Веронику, и представляла, как наору на Пашку, когда он наконец-то объявится — за то, что ехал так долго, за то, что мне было так страшно и даже за то, что сотовая связь в посёлке пропала начисто. А потом вспомнила его спокойное пустое лицо за ветровым стеклом, и как он терпеливо ждал, пока вырулит перед ним на дорогу жёлтый автобус с дачниками, их собаками и кошками, как пропустил машины тех, кто уезжал сам, и ни разу не посмотрел в мою сторону, а я стояла на крыльце, держась за Веронику — всего третий раз виданную нами соседку по даче, и всё ждала, чтобы он обернулся и хотя бы улыбнулся мне напоследок.
— Спасибо вам, что остались со мной, — сказала я. — Вы простите, что так получилось. Но, наверное, он и вправду не приедет.
Я заплакала, чувствуя, как бегут по щекам тёплые слёзы — привычными, будто бы проторёнными дорожками. Наверное, если люди плачут так много, как я, то на коже, в конце концов, остаются борозды, как на земле после сильного дождя.
— И опять реветь, — Вероника натянула на волосы пакет и обмотала голову полотенцем. — Ну как бы я тебя бросила? Гляжу — мужичонка-то юлит. А ты, сразу видно, хорошая. Не повезло тебе, это бывает. В первородках под сорок лет нелегко ходить. Ну, даст бог, всё уладится, даст бог.
А я всё плакала и плакала, и борозды на моих щеках становились марианскими впадинами и марсианскими каналами. Я чувствовала, что весь мир — целый огромный мир — предал меня и оставил одну. Не было мне ни спасения, ни помощи, все храбрые сильные мужчины смотрели новости, укоризненно качали головами или ехали в своих машинах с такими лицами, будто бы всё на свете им известно и понятно. Что я могла сказать им? Чем поразить? Двухнедельным эмбрионом, цепляющимся за призрачную возможность жизни тончайшими, невидимыми глазу нитями? Пожилой женщиной с зелёной жижей на голове? Или псом, готовым умереть за неё без всякого промедления и сомнений?
Вероника собрала перепачканные миски, ушла на кухню, выключила радио и включила чайник. Травяной, острый запах хны смешался с запахом кофе, лилась в раковину вода, звенела посуда. Утренние серые сумерки ушли, и комната медленно наполнялась светом.
***
Мальчик, мальчик, у меня обязательно будет мальчик. Я назову его плеском, шелестом или солнцем, или холодной речной водой, а когда он вырастет, то сам придумает себе взрослое имя, сядет в большой самолёт, полетит над лесом, над морем, над пустынями и горами, ничего не будет бояться и никого не обидит. А когда будет пролетать над нашим домом, то не станет прятаться в облаках — спустится к самой крыше, сделает круг и покачает белыми крыльями на прощание.



