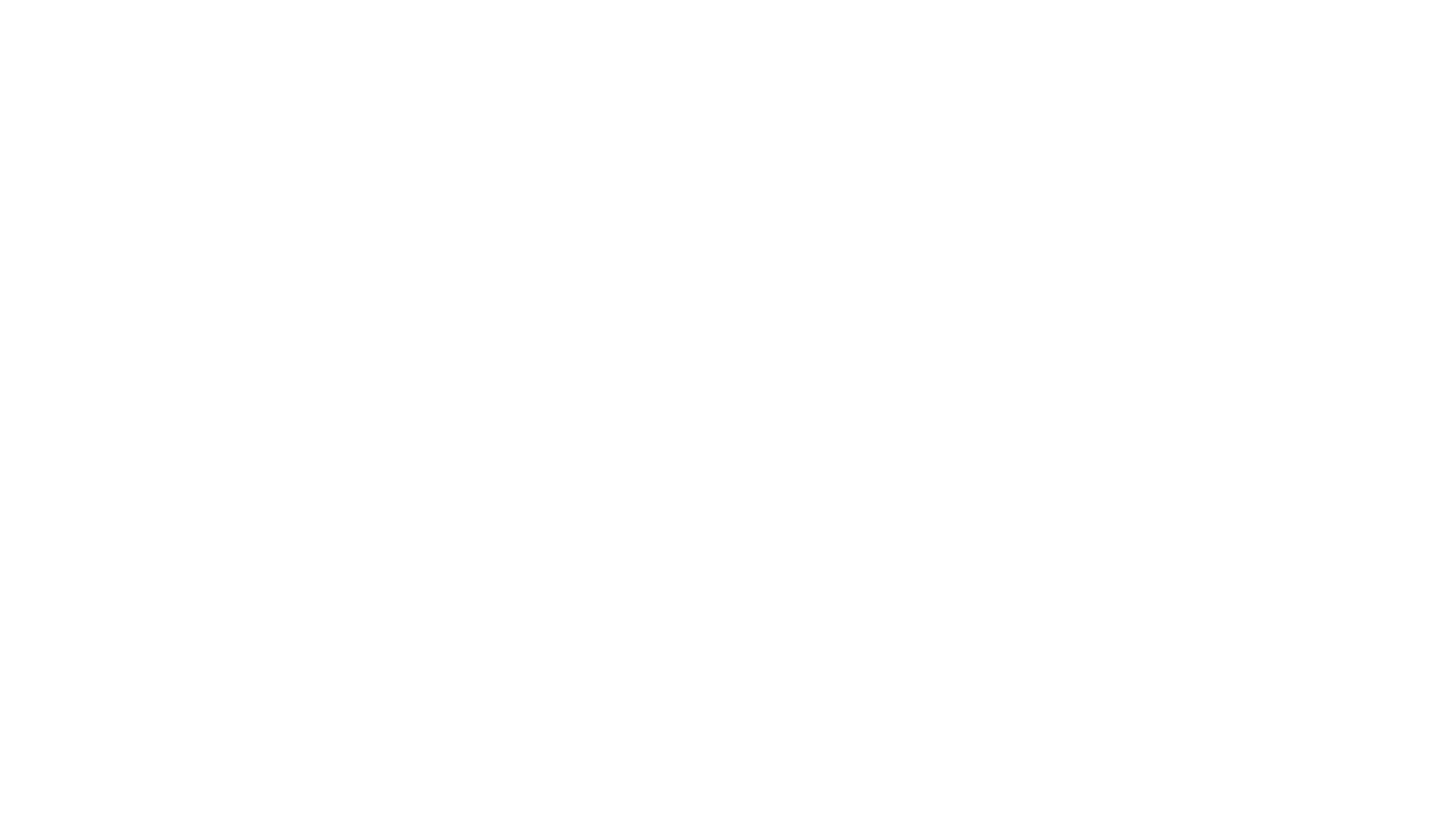
Ирина Кадочникова – Оборотни и феномены
(Тяжкий путь избранных: сборник фантастических рассказов// Елена Сафронова. –
Волгоград: Перископ-Волга, 2023. – 184 с.)
Ирина Кадочникова – критик, филолог. Родилась в 1987 г. в городе Камбарке (Удмуртия). Окончила филологический факультет Удмуртского государственного университета. Кандидат филологических наук. Статьи и рецензии публиковались в журналах Prosodia, «Знамя», «Вопросы литературы», «Кольцо А», «Пироскаф», «Четырехлистник», «Урал», «Формаслов» и др. Живёт в Ижевске.
Новая книга Елены Сафроновой – цикл из 10 рассказов, написанных в разное время (с 1997 года по 2022). Их объединяет общая идея, концепт – «избранный». Кто такой избранный? И почему избранный? И кем избранный? В названии можно даже усмотреть намёк на иронический подход к теме: вдруг избранные окажутся вовсе и не избранными, а так – самозванцами какими-нибудь. И такое предположение отчасти оправдывается. Герои Елены Сафроновой всё-таки очень непохожие: одни и правда обладают сверхспособностями, а другие одержимы земными страстями – волей к власти, например. Но страдают, в общем-то, все.
Герой рассказа «Борщевик» – «псих» Егор Кривошеин: у человека бредовая идея о нашествии на Землю «разведчиков инопланетной враждебной цивилизации». И разведчики эти не кто-нибудь, а обычные (вроде бы) борщевики. Растения, конечно, неприятные и даже опасные, но подозревать их в захвате Земли, да ещё и говорить об этом всем и каждому – прямой путь в психдиспансер. Там и оказывается ярый борец с борщевиками, которому, конечно, никто не верит. Автор работает с расхожими представлениями о нормальном и ненормальном и показывает своего героя со стороны – глазами жены, психиатра, полицейских. Тон повествования как будто не даёт повода для жалости. Это не чеховская «Палата №6»: Сафронова намеренно не погружает читателя в глубины сознания своего странного героя, делая акцент на внешних проявлениях безумия: «Рубил растения с таким упоением и с воплями такого содержания, что прохожие вызывали полицию».
Язык Елены Сафроновой – живой и ироничный. В нём органично соседствуют профессиональный жаргон («европейские психи»), канцеляризмы («подорожание продуктовой корзины», «возмутитель общественного порядка», «зафиксируйте гибель Земли»), разговорная, просторечная, сниженная лексика («ни ухом ни рылом в таких делах», «завел волынку на восьмимартовском корпоративе», «хрен да по деревне», «жена мотала сопли на кулак»). И язык повествования, и сам тип героя напоминают о прозе В. Шукшина: Егор Кривошеин в своей искренности, наивности и нелепости похож на шукшинских чудиков.
Смена точки зрения происходит в финале рассказа – читателя ждёт самая неожиданная развязка: бред главного героя оказался совсем не бредом – Земля погибла от нашествия борщевиков. И здесь уже невозможно не проникнуться эмпатией и сочувствием к центральному персонажу. Мир в глазах читателя переворачивается: правда оказывается заблуждением, а заблуждение – правдой. Ясно одно: носитель такой истины, которую человечество и вообразить себе не способно, до этого человечества достучаться вряд ли сможет. Или надо искать способы. Но методы Егора Кривошеина явно не работают – больничная койка тебе и галоперидол при таких методах.
Второй рассказ тоже про человека нездорового. Нездоровье у него неожиданное – «глист», компьютерный вирус. Хотя внешне всё выглядит как тоже своего рода помешательство. Это и сближает героев рассказов «Борщевик» и «Вирь»: оба не в себе, но по разным причинам.
Горе-писатель Денис Горелов усилиями своего друга – гения программирования – превращается в успешного писателя. Рассказ написан в 2011 году, но весьма современно звучит сегодня. Елена Сафронова не даёт шансов искусственному интеллекту – сбой неизбежен. На встречах с читателями Денис Горелов то и дело произносит какие-то странности, причем не своим голосом, например: «Заходи! Только для взрослых! Мы работаем – вы отдыхаете». Сначала эти странности просто вырезают из эфира, но потом их становится так много, что становится ясно: программа дала сбой, компьютер-Горелов «глючит».
Фамилия героя – Горелов – вызывает ассоциацию с известным выражением «артист погорелого театра»: талант либо есть, либо его нет, и если его нет, то никакие чудеса не помогут. А пойдёшь на обман – разоблачение неизбежно.
Но гений в рассказе всё-таки имеется – Эдик Лейсле, друг главного героя, вот уж и правда избранный. Однако избранному этому вполне себе достаточно быть тихим сисадмином, почти затворником, который ещё и себя «смачно» называет «висельником». Этот персонаж отличается от других героев рассказа уже хотя бы тем, что говорит на не совсем русском языке. И дело даже не столько в профессиональном жаргоне («глючить», «вирь», «глист», «гроб», «гамер»), сколько «в дивной смеси» английского и русского: «Йес, ю мэй ток», «Айм хиар! Сит даун на гроб!», «Хьюманити перетопчется». Иногда сквозь такую речь приходится прямо продираться («Брейн-атака… Хау ту инстал нет фор ю?»), но очевидно, что этот приём позволил автору выделить избранного, дать ему знак избранности – особый язык.
Своеобразным антиподом писателя Дениса Горелова можно считать художника Артема Малевайко из рассказа «Рыба и арбуз». Вообще мотив пути художника – сквозной в книге. Перед Артемом Малевайко открывается короткий путь к славе – нужно только освоить чудесный способ, пришедший из будущего вместе с «крышесносным» посланием: оказывается, через несколько столетий «ручные методы работы над живописью упразднятся», а картины можно будет создавать силой воображения. Невидимые авторы послания предлагают Артему стать «провозвестником искусства будущего» – освоить новый метод и распространить его среди коллег.
В рассказе поднимается целый ряд важных проблем: что такое настоящее искусство? заменит ли искусственный интеллект художника? что произойдёт с миром, если творческая деятельность станет общедоступной и любой человек сможет создать шедевр? Ясно одно: автор не очень верит в такое искусство, за которым не стоят труд, напряжение, интуиция, муки, радость и которое не меняет самого художника. Артем Малевайко, может, ещё и не создал ничего выдающегося, но тот факт, что он сразу же оказывается от лёгкого пути, и можно считать проверкой на подлинность.
Гении у Елены Сафроновой часто становятся изгоями, а вот злодеи всё-таки наказываются.
Тема наказания – возмездия – звучит в рассказе «Последняя рубашка», в котором остро чувствуется булгаковский подтекст: интонация Петра Симоновича (Пётр Ключарь) схожа с интонацией Воланда и его свиты: «Как приятно работать с такими людьми, как вы, дорогой наш Игорь Николаевич! Безукоризненная биография! Вы у нас… ага… активный благотворитель…» Здесь уже не ирония, а сатира – разоблачаются «благие» деяния «председателя комитета по делам отцов и детей Государственной Думы». Ключевое слово рассказа – «бестелье», авторский синоним к слову «душа», но ведь именно души у героя при жизни и недоставало. Поэтому, может быть, и не «душа», а «бестелье»: в земном мире герою были знакомы только телесные ощущения. Автор обманывает читательские ожидания – уже думаешь, что, оказавшись на том свете, Игорь Николаевич будет обречен на вечные адские муки, но не тут-то было. Концовка в очередной раз весьма неожиданная: «избранному» предлагается пройти путь обычного среднего человека – в «неперспективной деревне и моногороде с умершим заводом». Вот такое наказание за «избранность».
Тему чиновничьего мира продолжает рассказ «Мера терпения». Мистический и реальный пласты тесно переплетаются: жутковатая местность, странный проводник – «сумасшедший краевед» Вацлав Цеханович, мифопоэтический подтекст, дух язычества и христианства, лёгкие отголоски хоррора. Что произошло с чиновником Поваляевым, задумавшим на месте необыкновенного храма строить реабилитационный центр для государственных служащих, мы не знаем, но догадываемся: все, кто хочет снести храм, таинственным образом исчезают – храм их словно забирает, а прочность его с течением времени только крепнет. Страшная тайна раскрывается Елене Сергеевне: она-то и есть избранная (ну и Вацлав Цеханович, конечно). Но избранным можно считать и чиновника Поваляева – в буквальном смысле: за свои ценности он «избран» и «забран» чудесным и страшным храмом.
Подлинно избранных – в высоком (и страшном) смысле этого слова – немного. А вот быть избранными хотят многие: но в мистическом мире Елены Сафроновой человеческие пороки не остаются безнаказанными. И получается так: тот, кто сам себя записал в избранные, обязательно будет наказан, а тот, кто на самом деле избран – какими-то неведомыми силами, вынужден расплачиваться за дар.
Героиня рассказа «Оборотень» – этакая «серая мышь», «библиотечная крыса», обладает сверхъестественными способностями: её проклятия всегда попадают точно в цель. Только вот становится понятно, что, борясь со злом методом проклятия, человек не только не уменьшает количество зла в мире, но и увеличивает количество этого зла в самом себе. В рассказе «Ада, или Флуктуация» всё наоборот, а жизненный итог похожий: героиня несёт в мир только свет и сама от этого света светится – в буквальном смысле, постепенно превращаясь в световой столб. Все воспринимают Аду как «блаженную», способную «дарить блаженство», только Ада никакой радости не чувствует. Другим – блаженство – пусть не райское, но всё-таки, а себе – муки, тоже, конечно, не адские, но муки – одиночество, отчаяние. Как следствие – ненависть к собственной жизни. Что ждёт героиню, мы не знаем, но можем предположить: свет гаснет, «на прихожую опускается тьма».
Мистика – по законам магического реализма – прочно пронизывает реальность, нарушая законы физического мира. Многие герои почти или полностью бестелесны. Вот Игорь Николаевич из рассказа «Последняя рубашка», хоть и превращается в «бестелье», но всё равно как будто не выходит из тела (такой парадокс) – выходить, собственно, нечему: души-то нет. А светоносная Ада – словно бестелесная, да и герои рассказа «Интимный сумрак» в буквальном смысле не имеют тел, потому что давно умерли. Вадик же («Феномен») хоть и вполне телесен, но легко проходит сквозь стены. Тем не менее, жизнь его состоит из сплошных чёрных полос: ну нет избранному счастья, и сверхспособности ему никак не помогают: «лузер» и «лузер». То, что делает человека необыкновенным, не замечается. А замечаются только неудачи: существо словно из другого мира «ничего по-человечески сделать» не может.
Есть большой гуманистический смысл в этих рассказах: почему бы не приглядеться к окружающим нам людям более пристально? Общество мерит человека общей меркой: карьера, семья, «слава и деньги». Ничего этого нет – получай клеймо неудачника. Недоумеваешь, когда читаешь рассказ «Феномен»: как часто мы мерим людей это общей меркой и как страшно для них, если они этой мерке не соответствуют. А вообще – мало избранных, потому что большинство, напротив, под эту мерку подходит.
В рассказах из сборника «Тяжкий путь избранных» важен нравственный посыл: добро и зло, свет и тьма – на этих дихотомиях стоит художественный мир Елены Сафоновой. Дихотомии, так сказать, совсем базовые. Однако сюжетные ходы, особенно финалы, как правило, удивительны. Удивительны и сами языковые ходы, все эти совмещения стилистически разнородной лексики, которые делают повествование динамичным и ироничным. Да и обращение к теме дара весьма выигрышно: человечество всегда интересовала и тревожила его природа. Раскрывая эту тему в духе магического реализма, Елена Сафронова создала совершенно свой мир, в котором происходят сверхъестественные события и действуют сверхчеловеческие существа – оборотни и феномены.
Герой рассказа «Борщевик» – «псих» Егор Кривошеин: у человека бредовая идея о нашествии на Землю «разведчиков инопланетной враждебной цивилизации». И разведчики эти не кто-нибудь, а обычные (вроде бы) борщевики. Растения, конечно, неприятные и даже опасные, но подозревать их в захвате Земли, да ещё и говорить об этом всем и каждому – прямой путь в психдиспансер. Там и оказывается ярый борец с борщевиками, которому, конечно, никто не верит. Автор работает с расхожими представлениями о нормальном и ненормальном и показывает своего героя со стороны – глазами жены, психиатра, полицейских. Тон повествования как будто не даёт повода для жалости. Это не чеховская «Палата №6»: Сафронова намеренно не погружает читателя в глубины сознания своего странного героя, делая акцент на внешних проявлениях безумия: «Рубил растения с таким упоением и с воплями такого содержания, что прохожие вызывали полицию».
Язык Елены Сафроновой – живой и ироничный. В нём органично соседствуют профессиональный жаргон («европейские психи»), канцеляризмы («подорожание продуктовой корзины», «возмутитель общественного порядка», «зафиксируйте гибель Земли»), разговорная, просторечная, сниженная лексика («ни ухом ни рылом в таких делах», «завел волынку на восьмимартовском корпоративе», «хрен да по деревне», «жена мотала сопли на кулак»). И язык повествования, и сам тип героя напоминают о прозе В. Шукшина: Егор Кривошеин в своей искренности, наивности и нелепости похож на шукшинских чудиков.
Смена точки зрения происходит в финале рассказа – читателя ждёт самая неожиданная развязка: бред главного героя оказался совсем не бредом – Земля погибла от нашествия борщевиков. И здесь уже невозможно не проникнуться эмпатией и сочувствием к центральному персонажу. Мир в глазах читателя переворачивается: правда оказывается заблуждением, а заблуждение – правдой. Ясно одно: носитель такой истины, которую человечество и вообразить себе не способно, до этого человечества достучаться вряд ли сможет. Или надо искать способы. Но методы Егора Кривошеина явно не работают – больничная койка тебе и галоперидол при таких методах.
Второй рассказ тоже про человека нездорового. Нездоровье у него неожиданное – «глист», компьютерный вирус. Хотя внешне всё выглядит как тоже своего рода помешательство. Это и сближает героев рассказов «Борщевик» и «Вирь»: оба не в себе, но по разным причинам.
Горе-писатель Денис Горелов усилиями своего друга – гения программирования – превращается в успешного писателя. Рассказ написан в 2011 году, но весьма современно звучит сегодня. Елена Сафронова не даёт шансов искусственному интеллекту – сбой неизбежен. На встречах с читателями Денис Горелов то и дело произносит какие-то странности, причем не своим голосом, например: «Заходи! Только для взрослых! Мы работаем – вы отдыхаете». Сначала эти странности просто вырезают из эфира, но потом их становится так много, что становится ясно: программа дала сбой, компьютер-Горелов «глючит».
Фамилия героя – Горелов – вызывает ассоциацию с известным выражением «артист погорелого театра»: талант либо есть, либо его нет, и если его нет, то никакие чудеса не помогут. А пойдёшь на обман – разоблачение неизбежно.
Но гений в рассказе всё-таки имеется – Эдик Лейсле, друг главного героя, вот уж и правда избранный. Однако избранному этому вполне себе достаточно быть тихим сисадмином, почти затворником, который ещё и себя «смачно» называет «висельником». Этот персонаж отличается от других героев рассказа уже хотя бы тем, что говорит на не совсем русском языке. И дело даже не столько в профессиональном жаргоне («глючить», «вирь», «глист», «гроб», «гамер»), сколько «в дивной смеси» английского и русского: «Йес, ю мэй ток», «Айм хиар! Сит даун на гроб!», «Хьюманити перетопчется». Иногда сквозь такую речь приходится прямо продираться («Брейн-атака… Хау ту инстал нет фор ю?»), но очевидно, что этот приём позволил автору выделить избранного, дать ему знак избранности – особый язык.
Своеобразным антиподом писателя Дениса Горелова можно считать художника Артема Малевайко из рассказа «Рыба и арбуз». Вообще мотив пути художника – сквозной в книге. Перед Артемом Малевайко открывается короткий путь к славе – нужно только освоить чудесный способ, пришедший из будущего вместе с «крышесносным» посланием: оказывается, через несколько столетий «ручные методы работы над живописью упразднятся», а картины можно будет создавать силой воображения. Невидимые авторы послания предлагают Артему стать «провозвестником искусства будущего» – освоить новый метод и распространить его среди коллег.
В рассказе поднимается целый ряд важных проблем: что такое настоящее искусство? заменит ли искусственный интеллект художника? что произойдёт с миром, если творческая деятельность станет общедоступной и любой человек сможет создать шедевр? Ясно одно: автор не очень верит в такое искусство, за которым не стоят труд, напряжение, интуиция, муки, радость и которое не меняет самого художника. Артем Малевайко, может, ещё и не создал ничего выдающегося, но тот факт, что он сразу же оказывается от лёгкого пути, и можно считать проверкой на подлинность.
Гении у Елены Сафроновой часто становятся изгоями, а вот злодеи всё-таки наказываются.
Тема наказания – возмездия – звучит в рассказе «Последняя рубашка», в котором остро чувствуется булгаковский подтекст: интонация Петра Симоновича (Пётр Ключарь) схожа с интонацией Воланда и его свиты: «Как приятно работать с такими людьми, как вы, дорогой наш Игорь Николаевич! Безукоризненная биография! Вы у нас… ага… активный благотворитель…» Здесь уже не ирония, а сатира – разоблачаются «благие» деяния «председателя комитета по делам отцов и детей Государственной Думы». Ключевое слово рассказа – «бестелье», авторский синоним к слову «душа», но ведь именно души у героя при жизни и недоставало. Поэтому, может быть, и не «душа», а «бестелье»: в земном мире герою были знакомы только телесные ощущения. Автор обманывает читательские ожидания – уже думаешь, что, оказавшись на том свете, Игорь Николаевич будет обречен на вечные адские муки, но не тут-то было. Концовка в очередной раз весьма неожиданная: «избранному» предлагается пройти путь обычного среднего человека – в «неперспективной деревне и моногороде с умершим заводом». Вот такое наказание за «избранность».
Тему чиновничьего мира продолжает рассказ «Мера терпения». Мистический и реальный пласты тесно переплетаются: жутковатая местность, странный проводник – «сумасшедший краевед» Вацлав Цеханович, мифопоэтический подтекст, дух язычества и христианства, лёгкие отголоски хоррора. Что произошло с чиновником Поваляевым, задумавшим на месте необыкновенного храма строить реабилитационный центр для государственных служащих, мы не знаем, но догадываемся: все, кто хочет снести храм, таинственным образом исчезают – храм их словно забирает, а прочность его с течением времени только крепнет. Страшная тайна раскрывается Елене Сергеевне: она-то и есть избранная (ну и Вацлав Цеханович, конечно). Но избранным можно считать и чиновника Поваляева – в буквальном смысле: за свои ценности он «избран» и «забран» чудесным и страшным храмом.
Подлинно избранных – в высоком (и страшном) смысле этого слова – немного. А вот быть избранными хотят многие: но в мистическом мире Елены Сафроновой человеческие пороки не остаются безнаказанными. И получается так: тот, кто сам себя записал в избранные, обязательно будет наказан, а тот, кто на самом деле избран – какими-то неведомыми силами, вынужден расплачиваться за дар.
Героиня рассказа «Оборотень» – этакая «серая мышь», «библиотечная крыса», обладает сверхъестественными способностями: её проклятия всегда попадают точно в цель. Только вот становится понятно, что, борясь со злом методом проклятия, человек не только не уменьшает количество зла в мире, но и увеличивает количество этого зла в самом себе. В рассказе «Ада, или Флуктуация» всё наоборот, а жизненный итог похожий: героиня несёт в мир только свет и сама от этого света светится – в буквальном смысле, постепенно превращаясь в световой столб. Все воспринимают Аду как «блаженную», способную «дарить блаженство», только Ада никакой радости не чувствует. Другим – блаженство – пусть не райское, но всё-таки, а себе – муки, тоже, конечно, не адские, но муки – одиночество, отчаяние. Как следствие – ненависть к собственной жизни. Что ждёт героиню, мы не знаем, но можем предположить: свет гаснет, «на прихожую опускается тьма».
Мистика – по законам магического реализма – прочно пронизывает реальность, нарушая законы физического мира. Многие герои почти или полностью бестелесны. Вот Игорь Николаевич из рассказа «Последняя рубашка», хоть и превращается в «бестелье», но всё равно как будто не выходит из тела (такой парадокс) – выходить, собственно, нечему: души-то нет. А светоносная Ада – словно бестелесная, да и герои рассказа «Интимный сумрак» в буквальном смысле не имеют тел, потому что давно умерли. Вадик же («Феномен») хоть и вполне телесен, но легко проходит сквозь стены. Тем не менее, жизнь его состоит из сплошных чёрных полос: ну нет избранному счастья, и сверхспособности ему никак не помогают: «лузер» и «лузер». То, что делает человека необыкновенным, не замечается. А замечаются только неудачи: существо словно из другого мира «ничего по-человечески сделать» не может.
Есть большой гуманистический смысл в этих рассказах: почему бы не приглядеться к окружающим нам людям более пристально? Общество мерит человека общей меркой: карьера, семья, «слава и деньги». Ничего этого нет – получай клеймо неудачника. Недоумеваешь, когда читаешь рассказ «Феномен»: как часто мы мерим людей это общей меркой и как страшно для них, если они этой мерке не соответствуют. А вообще – мало избранных, потому что большинство, напротив, под эту мерку подходит.
В рассказах из сборника «Тяжкий путь избранных» важен нравственный посыл: добро и зло, свет и тьма – на этих дихотомиях стоит художественный мир Елены Сафоновой. Дихотомии, так сказать, совсем базовые. Однако сюжетные ходы, особенно финалы, как правило, удивительны. Удивительны и сами языковые ходы, все эти совмещения стилистически разнородной лексики, которые делают повествование динамичным и ироничным. Да и обращение к теме дара весьма выигрышно: человечество всегда интересовала и тревожила его природа. Раскрывая эту тему в духе магического реализма, Елена Сафронова создала совершенно свой мир, в котором происходят сверхъестественные события и действуют сверхчеловеческие существа – оборотни и феномены.



