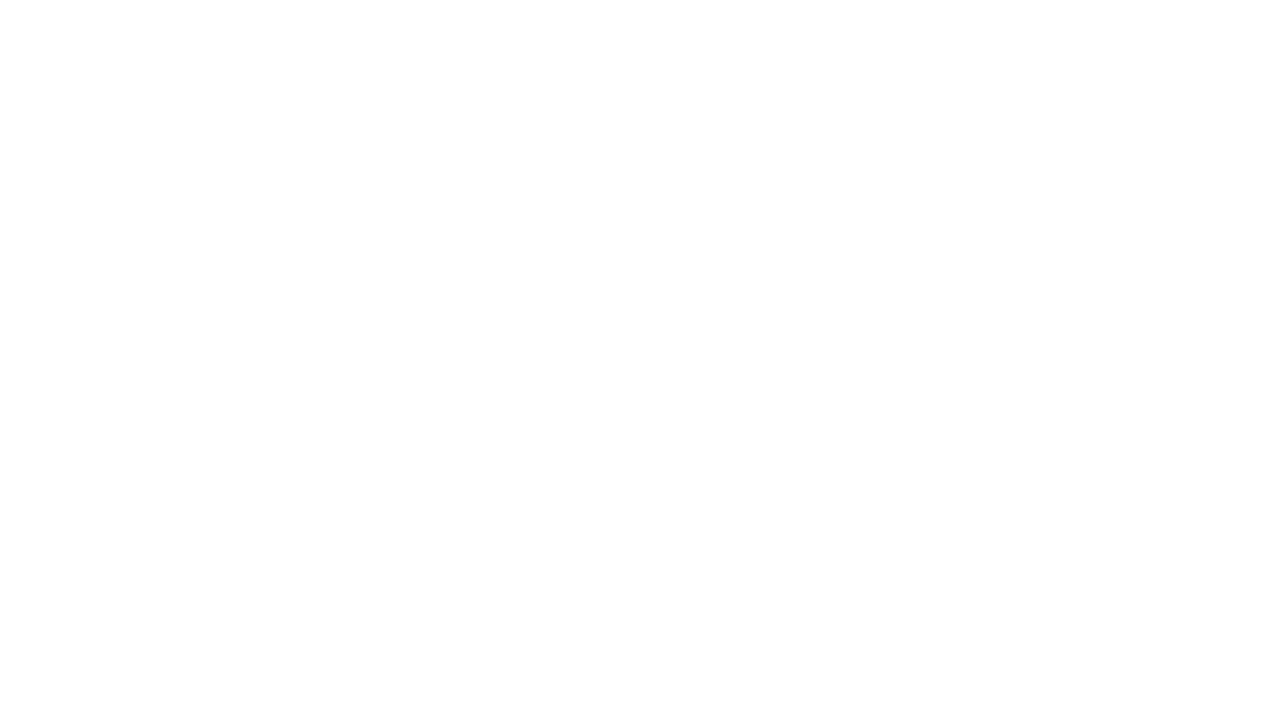
Елена Кашева – Восьмое марта
Елена Кашева – прозаик, культуролог. Родилась в 1975 году в г.Арзамас-16 Горьковской области. Лауреат Международного литературного конкурса «Русский Гофман – 2017», лауреат Международного конкурса им. А.И.Куприна (2017 год). Член экспертного совета Международного литературного конкурса «Русский Гофман» с 2018 года. Автор трех книг. По дебютной повести «Рассмешить Бога» в 2006 году был снят телевизионный художественный фильм. Член Союза писателей России. Живет и работает в Сарове.
Инженер-конструктор на пенсии Идея Александровна терпеть не может праздники. Религиозные – потому, что она атеистка и тридцать четыре года состояла в коммунистической партии. Официальные – потому, что новая власть переименовала старые праздники и лишила их сакрального смысла. Уцелели только Новый год и Восьмое марта. Но и они не по душе Идее Александровне – выпячивают ее незаслуженное одиночество.
Идее Александровне восемьдесят четыре. В трехкомнатной квартире, когда-то выделенной предприятием, пусто. Муж умер пятнадцать лет назад. Заснул и не проснулся. А с дочерью Идея Александровна не общается. Нинель, ребенок поздний, спланированный, пошла было по стопам матери – секретарь школьной комсомольской ячейки, секретарь институтской комсомольской ячейки, в тридцать два – член Коммунистической партии СССР, второй секретарь горкома комсомола. Но в тридцать пять предала свои идеалы.
Во всем виноваты проклятая перестройка и муж Игорь. Перестройка разрушила великую страну. Вернее, ее разрушили хапуги и скрытые буржуи. Игорь оказался из буржуев, хотя рядился по юности в комсомольцы. Но как только предатели-политики провозгласили, что главное в жизни – деньги, Игорь явил свое истинное лицо. Начал с кооператива по пошиву обуви. Обувь разваливалась на третьи сутки прямо на ногах счастливых покупателей, наплевавших на общую беду – тотальный дефицит. Это был им наказанием и вразумлением. Но эти облапошенные не вразумлялись – бежали покупать следующую пару. Дураки!
А Игорь кирпичик за кирпичиком строил свою империю. Теперь у него сеть обувных магазинов. Трехкомнатная в центре Нижнего Новгорода. Двухкомнатная в километре от областного кремля. Дача в дорогущем Жёлнино. Три машины. Летом в Грецию или Италию. Зимой в Таиланд. Вместе с Нинелью. Теперь – вместе с Нинелью.
Дочь за свое богатство заплатила цену непомерную. Игорь гулял от жены. Так гулял, что до Сарова сплетни долетали. Ничего удивительного: Нижний Новгород – та же провинция, хотя бы и масштабированная, а все одно, друг про друга люди много знают. Сейчас-то, конечно, Игорь угомонился, от жены не на шаг. Когда старость стучится в дом, важно, чтобы рядом был кто-то, кто помнит тебя юным. Это Идея Александровна по себе знает.
Ее ни юной, ни молодой уж никто не помнит. Все умерли. А она живет. Шаркает себе по трехкомнатной квартире, запущенной, с пыльным хрусталем в румынской стенке. Раньше все сияло и блестело, даже кастрюли. Но возраст, здоровье… А главное – эта противная, предательская мыслишка: зачем?! Вот это все – зачем? Зачем хрусталь? Зачем румынская стенка? Зачем ее шарканье по пустой квартире?
Если бы Идея Александровна умела плакать, то плакала бы с утра до вечера. Но – не умеет. Разучилась. Слезы – от слабости.
Еще три года назад Идея Александровна состояла в совете ветеранов микрорайона. Боролась с председателем, который входил во всякие сделки с местной властью. Ничем не брезговал. Поддержать кандидатуру в депутаты городской думы? Хорошо, поможем, поддержим, но и вы нам помогите… Праздничек там организуйте. Подарки к Новому году. Поездку в Санаксарский монастырь. Идея Александровна вставала на общем собрании и обличала продажного председателя: у кого вы берете? Они же нас до нищеты довели! Они нас и за людей не считают, а вы кормитесь с этой грязной руки! Председатель хватался за сердце, активисты вставали на дыбы: а за кого голосовать, Идея, светлая наша, Александровна? Прямо пальцем ткни в достойную кандидатуру!
Надоело. Поняла бесполезность своих выступлений. От пригласительных на концерты для ветеранов атомной отрасли отказывалась: вы – не моя власть. Моя – там, до тысяча девятьсот девяностого. А все, кто после, - предатели. А с предателями разговор короткий…
Одна. Несгибаемая. Нищая. Обозленная. Непокоренная. И – несчастная.
Восьмое марта. Тягучее и пасмурное. Тягучее – от тишины. Пасмурное – от низкого неба, нависшего над пятиэтажкой. По карнизу на кухне капель. В деревянной хлебнице в полиэтиленовом пакете половинка белого. Стакан чая без сахара. И злая мыслишка: доживешь ли до следующего Восьмого марта, непоколебимая Идея?
Телефонный звонок раздается так внезапно и так оглушительно, что Идея Александровна замирает на кухне, с непрожеванным куском белого хлеба во рту. Сама себе не верит. Нинель?
Но это не Нинель. Это Зинка из дома напротив. Зинке семьдесят восемь. Двое детей. Четверо внуков. Правнук. Звонит похвастаться своей жизнью:
– Идея, ты там не заскучала?
– Что надо? – сурово спрашивает Идея Александровна.
– Ох, и притомилась я нынче… То один, то другой, все ходют-ходют… – ворчит довольная Зинка. – Сноха салат притащила, целую миску. А как я его съем? Мне много ли надо, старухе? Говорю: «Забери с собой…» А она ни в какую… Цветов вот приволокли. А знаешь, почем нынче розы? Говорю: «Купили бы себе что…» А они: «У нас все есть, мамаша…» Я им наливки домашней. А они: «Мы за рулем, мамаша…» Говорю: «Руль один, а вас вона сколько. Хоть кто, да пригубит…» Никто не пригубил. Трезвенники, значит. Докатилась…
– Зинка, у меня от тебя голова разболелась, – высокомерно говорит Идея Александровна.
– И че? – наивно вопрошает Зинка. – У кого голова-то не болит после сорока? После сорока голова, после пятидесяти суставы, и дальше-то все хужее и хужее…
– Спасибо, что позвонила, – чеканит Идея Александровна, давая понять соседке, что разговор завершен.
– И тебе спасибо, что выслушала, – надтреснуто хихикает Зинка.
Идея Александровна возвращается на кухню, садится за стол, чтобы допить чай. Но одиночество подступило вплотную. От него тошнит. Старуха решительно отодвигает и стакан чая, и недоеденный кусок хлеба. Возвращается в гостиную, ложится на диван и не шевелится. Умереть бы поскорее, что ли… Сил нет от тоски.
Комната наливается серой синевой. Темнеет. Скоро можно будет лечь спать. Идея Александровна принудит себя умыться, почистить зубы, разобрать постель и переодеться в ночную рубашку. Можно и так, неумытой, непереодетой. Можно, но опасно – так легко опуститься. Надо жить, несмотря ни на что. Жить. Зачем?
Идея Александровна поднимается и снова шаркает на кухню. Кусок белого хлеба подсох. Старуха жует его и не чувствует вкуса.
Звонок в дверь. Настырный и резкий. Идея Александровна замирает с непрожеванным куском белого хлеба во рту. Кто еще? Посыльный от совета ветеранов? Ну, держись, посыльный!
На пороге стоит Зинка, закутанная в шаль так, что только острый от старости нос рассмотреть можно. В руке матерчатая сумка:
– С праздничком тебя, Идея.
– Что надо? – высокомерно спрашивает Идея Александровна.
Зинка надтреснуто хихикает и протискивается в квартиру, осторожно сдвигая хозяйку в глубь прихожей:
– Характер у тебя, соседка! Самой от себя не тошно?
– Не звала я тебя, Зинка.
– А я не гордая. Я могу и без приглашенья всякого. Смотри, что принесла: салатик, наливочка. Рюмки-то найдутся, Идея? Или ты их раскокала по слепоте?
– Рюмки есть, да не про твою честь!
– Грозная. Кому грозишь-то, Идея? Сама себе? Сидишь день-деньской в своей квартирке и пальцем себе грозишь? – Зинка заливается. А что ж ей не заливаться-то трамвайным звонком? Она ж счастливая. Семейная. Снизошла до одинокой Идеи. Дура!
Зинка кряхтя снимает войлочные ботики, сама находит тапочки и плетется на кухню:
– Вот что бы тебе на первый этаж-то не съехать? Захотела на улицу – а она рядом. Или вот если кто зайти захочет…
– На первом этаже двери в подъезд хлопают, – раздражается Идея Александровна. – То молодежь под окнами галдит, то дети в коляске плачут, а то курить мужики возьмутся – дышать нечем.
– Тебе не угодишь, – хихикает Зинка. Хихикает и хозяйничает. Рюмки достала синего гусь-хрустального стекла. И тарелки. И ложки. Выставила из сумки салатник, коньячную бутылку с завинчивающейся крышкой. Наливка зинкиного приготовления. – Хватит ворчать, Идея. Давай за праздничек хлопнем.
– Вот еще! – кривится Идея Александровна. - Хлопну, и давление повысится…
– С одной не повысится, – уверенно говорит Зинка. – Давай, не то обижусь.
– А и выпью. Только мне плевать, что ты обидишься. Много мнишь о себе, Зинка.
Зинка выпивает наливку одним глотком. Крякает и утирает рот ладонью:
– Не, соседка. Это ты о себе много мнишь. Вот и сидишь одна, никому не нужная.
– Мне и так хорошо.
– Врешь? Ну да, врешь. Одному никому не хорошо. Одному хорошо на кладбище лежать. Лежать и радоваться, что остальные живые. Но ты-то не на кладбище, Идея!
– Сегодня ли туда, или через месяц – разница есть?
– А то! За месяц-то много успеть можно.
– Чего успеть-то, Зинка? Все дела сделаны.
– Ну, вот, с дочкой по душам поговорить – не дело?
– Не суй сюда свой острый нос. Прищемлю, - злится Идея Александровна.
– Что плохого-то, соседка? Трубку подняла, номер набрала и голос родной услышала. Праздник!
– А это видала?! – Идея Александровна сует Зинке под нос узловатую дулю. – Не Нинельку услышу – буржуя недобитого. Не дождется он моего звонка! Не дождется!
Зинка разливает, прищуриваясь, наливочку. Причмокивает истончившимися лиловатыми губами:
– Натуральная! Не то, что дрянь магазинная… А ты, Идея, прости Господи, все же дура, хотя и партийная была. Вот позвонила бы дочке, дочка обрадовалась, а буржуй ейный затоскливел бы. А ты бы еще позвонила, да еще… Глядишь, Нинель к тебе потянулась бы. Насолила бы буржую. Но то – кабы ты умная была, а не только образованная.
– Салат твой сноха плохо готовит, – отбрила Идея Александровна. – Тут надо овощи меленькими кубиками резать, а она ломтями, как старуха слепая. Скажи ей, сношеньке своей.
– А и скажу, – с готовностью согласилась Зинка. – Я-то дочь твою не хаю. Ну, на посошок, да пошла я. Дед один дома, заскучал, поди…
И уже в прихожей, заталкивая отечные искривленные тяжелой ходьбой ступни в боты:
– А салат-то, Идея, я резала. Как могла.
Идея Александровна вскинула с изумлением остатки бровей вверх.
– Снохи-то ко мне и носа не кажут сколь годов… Сами не идут, сынов не пущают. Я для них позорище, баба деревенская, малограмотная. А они – как ты: высокообразованные, надменные. Кто я им? Кто мы с дедом им?
– А еще меня жизни учишь, – изумилась Идея Александровна.
– Тут дело другое. Не я от них – они от меня.
– И как ты?
– Мое дело знамо какое: терпи, старуха. Нет твоей вины. Сынов себе не самых лучших, выходит, вырастила, зато мужей хороших. А каждый, Идея, перед Богом-то за свое ответит. Они за свое, а я-то за свое. Про слезы мои знаем только я да подушка. Вот ты теперича…
– А заливаешь-то всем про большую дружную семью!
– Дык и ты заливай, кто мешает-то? – захихикала Зинка, укутывая лицо самовязанным платом. – С праздничком тебя, соседка. Вечеряй – не тоскливей…
Идея Александровна вернулась на кухню. Посмотрела в окно, в наливающуюся влагой тьму, надеясь разглядеть Зинку, плетущуюся домой, но единственный фонарь горел в стороне от дороги, в круг его света попадали только капот иномарки Женьки с первого этажа да весенняя хлябь, стекленеющая к ночи.
Убрала остатки салата в холодильник. Поставила чайник.
И пошла к телефону.
Назло ли буржую или не назло – это ли главное?
Идее Александровне восемьдесят четыре. В трехкомнатной квартире, когда-то выделенной предприятием, пусто. Муж умер пятнадцать лет назад. Заснул и не проснулся. А с дочерью Идея Александровна не общается. Нинель, ребенок поздний, спланированный, пошла было по стопам матери – секретарь школьной комсомольской ячейки, секретарь институтской комсомольской ячейки, в тридцать два – член Коммунистической партии СССР, второй секретарь горкома комсомола. Но в тридцать пять предала свои идеалы.
Во всем виноваты проклятая перестройка и муж Игорь. Перестройка разрушила великую страну. Вернее, ее разрушили хапуги и скрытые буржуи. Игорь оказался из буржуев, хотя рядился по юности в комсомольцы. Но как только предатели-политики провозгласили, что главное в жизни – деньги, Игорь явил свое истинное лицо. Начал с кооператива по пошиву обуви. Обувь разваливалась на третьи сутки прямо на ногах счастливых покупателей, наплевавших на общую беду – тотальный дефицит. Это был им наказанием и вразумлением. Но эти облапошенные не вразумлялись – бежали покупать следующую пару. Дураки!
А Игорь кирпичик за кирпичиком строил свою империю. Теперь у него сеть обувных магазинов. Трехкомнатная в центре Нижнего Новгорода. Двухкомнатная в километре от областного кремля. Дача в дорогущем Жёлнино. Три машины. Летом в Грецию или Италию. Зимой в Таиланд. Вместе с Нинелью. Теперь – вместе с Нинелью.
Дочь за свое богатство заплатила цену непомерную. Игорь гулял от жены. Так гулял, что до Сарова сплетни долетали. Ничего удивительного: Нижний Новгород – та же провинция, хотя бы и масштабированная, а все одно, друг про друга люди много знают. Сейчас-то, конечно, Игорь угомонился, от жены не на шаг. Когда старость стучится в дом, важно, чтобы рядом был кто-то, кто помнит тебя юным. Это Идея Александровна по себе знает.
Ее ни юной, ни молодой уж никто не помнит. Все умерли. А она живет. Шаркает себе по трехкомнатной квартире, запущенной, с пыльным хрусталем в румынской стенке. Раньше все сияло и блестело, даже кастрюли. Но возраст, здоровье… А главное – эта противная, предательская мыслишка: зачем?! Вот это все – зачем? Зачем хрусталь? Зачем румынская стенка? Зачем ее шарканье по пустой квартире?
Если бы Идея Александровна умела плакать, то плакала бы с утра до вечера. Но – не умеет. Разучилась. Слезы – от слабости.
Еще три года назад Идея Александровна состояла в совете ветеранов микрорайона. Боролась с председателем, который входил во всякие сделки с местной властью. Ничем не брезговал. Поддержать кандидатуру в депутаты городской думы? Хорошо, поможем, поддержим, но и вы нам помогите… Праздничек там организуйте. Подарки к Новому году. Поездку в Санаксарский монастырь. Идея Александровна вставала на общем собрании и обличала продажного председателя: у кого вы берете? Они же нас до нищеты довели! Они нас и за людей не считают, а вы кормитесь с этой грязной руки! Председатель хватался за сердце, активисты вставали на дыбы: а за кого голосовать, Идея, светлая наша, Александровна? Прямо пальцем ткни в достойную кандидатуру!
Надоело. Поняла бесполезность своих выступлений. От пригласительных на концерты для ветеранов атомной отрасли отказывалась: вы – не моя власть. Моя – там, до тысяча девятьсот девяностого. А все, кто после, - предатели. А с предателями разговор короткий…
Одна. Несгибаемая. Нищая. Обозленная. Непокоренная. И – несчастная.
Восьмое марта. Тягучее и пасмурное. Тягучее – от тишины. Пасмурное – от низкого неба, нависшего над пятиэтажкой. По карнизу на кухне капель. В деревянной хлебнице в полиэтиленовом пакете половинка белого. Стакан чая без сахара. И злая мыслишка: доживешь ли до следующего Восьмого марта, непоколебимая Идея?
Телефонный звонок раздается так внезапно и так оглушительно, что Идея Александровна замирает на кухне, с непрожеванным куском белого хлеба во рту. Сама себе не верит. Нинель?
Но это не Нинель. Это Зинка из дома напротив. Зинке семьдесят восемь. Двое детей. Четверо внуков. Правнук. Звонит похвастаться своей жизнью:
– Идея, ты там не заскучала?
– Что надо? – сурово спрашивает Идея Александровна.
– Ох, и притомилась я нынче… То один, то другой, все ходют-ходют… – ворчит довольная Зинка. – Сноха салат притащила, целую миску. А как я его съем? Мне много ли надо, старухе? Говорю: «Забери с собой…» А она ни в какую… Цветов вот приволокли. А знаешь, почем нынче розы? Говорю: «Купили бы себе что…» А они: «У нас все есть, мамаша…» Я им наливки домашней. А они: «Мы за рулем, мамаша…» Говорю: «Руль один, а вас вона сколько. Хоть кто, да пригубит…» Никто не пригубил. Трезвенники, значит. Докатилась…
– Зинка, у меня от тебя голова разболелась, – высокомерно говорит Идея Александровна.
– И че? – наивно вопрошает Зинка. – У кого голова-то не болит после сорока? После сорока голова, после пятидесяти суставы, и дальше-то все хужее и хужее…
– Спасибо, что позвонила, – чеканит Идея Александровна, давая понять соседке, что разговор завершен.
– И тебе спасибо, что выслушала, – надтреснуто хихикает Зинка.
Идея Александровна возвращается на кухню, садится за стол, чтобы допить чай. Но одиночество подступило вплотную. От него тошнит. Старуха решительно отодвигает и стакан чая, и недоеденный кусок хлеба. Возвращается в гостиную, ложится на диван и не шевелится. Умереть бы поскорее, что ли… Сил нет от тоски.
Комната наливается серой синевой. Темнеет. Скоро можно будет лечь спать. Идея Александровна принудит себя умыться, почистить зубы, разобрать постель и переодеться в ночную рубашку. Можно и так, неумытой, непереодетой. Можно, но опасно – так легко опуститься. Надо жить, несмотря ни на что. Жить. Зачем?
Идея Александровна поднимается и снова шаркает на кухню. Кусок белого хлеба подсох. Старуха жует его и не чувствует вкуса.
Звонок в дверь. Настырный и резкий. Идея Александровна замирает с непрожеванным куском белого хлеба во рту. Кто еще? Посыльный от совета ветеранов? Ну, держись, посыльный!
На пороге стоит Зинка, закутанная в шаль так, что только острый от старости нос рассмотреть можно. В руке матерчатая сумка:
– С праздничком тебя, Идея.
– Что надо? – высокомерно спрашивает Идея Александровна.
Зинка надтреснуто хихикает и протискивается в квартиру, осторожно сдвигая хозяйку в глубь прихожей:
– Характер у тебя, соседка! Самой от себя не тошно?
– Не звала я тебя, Зинка.
– А я не гордая. Я могу и без приглашенья всякого. Смотри, что принесла: салатик, наливочка. Рюмки-то найдутся, Идея? Или ты их раскокала по слепоте?
– Рюмки есть, да не про твою честь!
– Грозная. Кому грозишь-то, Идея? Сама себе? Сидишь день-деньской в своей квартирке и пальцем себе грозишь? – Зинка заливается. А что ж ей не заливаться-то трамвайным звонком? Она ж счастливая. Семейная. Снизошла до одинокой Идеи. Дура!
Зинка кряхтя снимает войлочные ботики, сама находит тапочки и плетется на кухню:
– Вот что бы тебе на первый этаж-то не съехать? Захотела на улицу – а она рядом. Или вот если кто зайти захочет…
– На первом этаже двери в подъезд хлопают, – раздражается Идея Александровна. – То молодежь под окнами галдит, то дети в коляске плачут, а то курить мужики возьмутся – дышать нечем.
– Тебе не угодишь, – хихикает Зинка. Хихикает и хозяйничает. Рюмки достала синего гусь-хрустального стекла. И тарелки. И ложки. Выставила из сумки салатник, коньячную бутылку с завинчивающейся крышкой. Наливка зинкиного приготовления. – Хватит ворчать, Идея. Давай за праздничек хлопнем.
– Вот еще! – кривится Идея Александровна. - Хлопну, и давление повысится…
– С одной не повысится, – уверенно говорит Зинка. – Давай, не то обижусь.
– А и выпью. Только мне плевать, что ты обидишься. Много мнишь о себе, Зинка.
Зинка выпивает наливку одним глотком. Крякает и утирает рот ладонью:
– Не, соседка. Это ты о себе много мнишь. Вот и сидишь одна, никому не нужная.
– Мне и так хорошо.
– Врешь? Ну да, врешь. Одному никому не хорошо. Одному хорошо на кладбище лежать. Лежать и радоваться, что остальные живые. Но ты-то не на кладбище, Идея!
– Сегодня ли туда, или через месяц – разница есть?
– А то! За месяц-то много успеть можно.
– Чего успеть-то, Зинка? Все дела сделаны.
– Ну, вот, с дочкой по душам поговорить – не дело?
– Не суй сюда свой острый нос. Прищемлю, - злится Идея Александровна.
– Что плохого-то, соседка? Трубку подняла, номер набрала и голос родной услышала. Праздник!
– А это видала?! – Идея Александровна сует Зинке под нос узловатую дулю. – Не Нинельку услышу – буржуя недобитого. Не дождется он моего звонка! Не дождется!
Зинка разливает, прищуриваясь, наливочку. Причмокивает истончившимися лиловатыми губами:
– Натуральная! Не то, что дрянь магазинная… А ты, Идея, прости Господи, все же дура, хотя и партийная была. Вот позвонила бы дочке, дочка обрадовалась, а буржуй ейный затоскливел бы. А ты бы еще позвонила, да еще… Глядишь, Нинель к тебе потянулась бы. Насолила бы буржую. Но то – кабы ты умная была, а не только образованная.
– Салат твой сноха плохо готовит, – отбрила Идея Александровна. – Тут надо овощи меленькими кубиками резать, а она ломтями, как старуха слепая. Скажи ей, сношеньке своей.
– А и скажу, – с готовностью согласилась Зинка. – Я-то дочь твою не хаю. Ну, на посошок, да пошла я. Дед один дома, заскучал, поди…
И уже в прихожей, заталкивая отечные искривленные тяжелой ходьбой ступни в боты:
– А салат-то, Идея, я резала. Как могла.
Идея Александровна вскинула с изумлением остатки бровей вверх.
– Снохи-то ко мне и носа не кажут сколь годов… Сами не идут, сынов не пущают. Я для них позорище, баба деревенская, малограмотная. А они – как ты: высокообразованные, надменные. Кто я им? Кто мы с дедом им?
– А еще меня жизни учишь, – изумилась Идея Александровна.
– Тут дело другое. Не я от них – они от меня.
– И как ты?
– Мое дело знамо какое: терпи, старуха. Нет твоей вины. Сынов себе не самых лучших, выходит, вырастила, зато мужей хороших. А каждый, Идея, перед Богом-то за свое ответит. Они за свое, а я-то за свое. Про слезы мои знаем только я да подушка. Вот ты теперича…
– А заливаешь-то всем про большую дружную семью!
– Дык и ты заливай, кто мешает-то? – захихикала Зинка, укутывая лицо самовязанным платом. – С праздничком тебя, соседка. Вечеряй – не тоскливей…
Идея Александровна вернулась на кухню. Посмотрела в окно, в наливающуюся влагой тьму, надеясь разглядеть Зинку, плетущуюся домой, но единственный фонарь горел в стороне от дороги, в круг его света попадали только капот иномарки Женьки с первого этажа да весенняя хлябь, стекленеющая к ночи.
Убрала остатки салата в холодильник. Поставила чайник.
И пошла к телефону.
Назло ли буржую или не назло – это ли главное?



