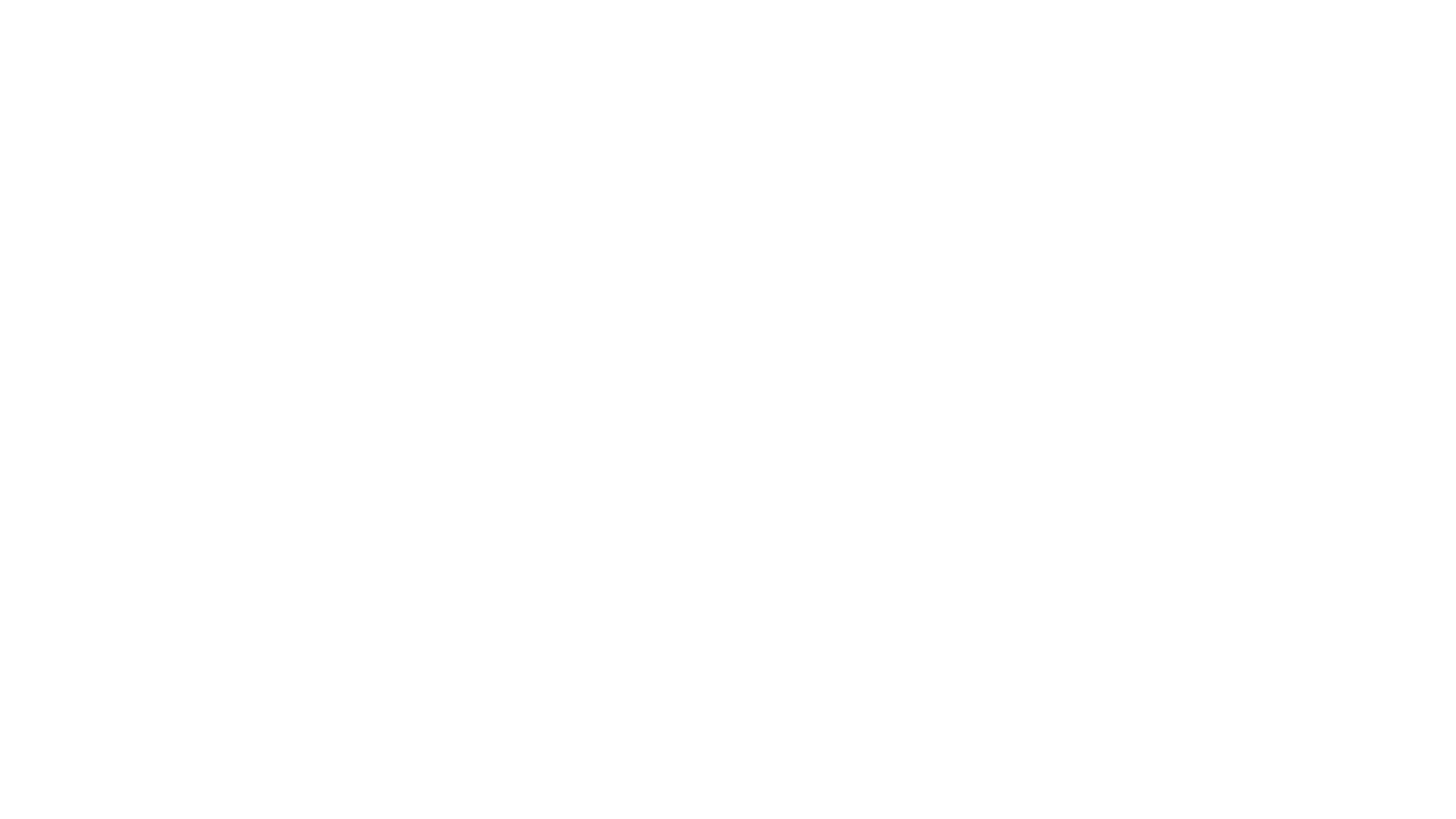
Наталья Ключарёва — Свои
Наталья Ключарёва – прозаик. Родилась в 1981 году в Перми. Закончила филологический факультет Ярославского университета. Журналист, писатель, редактор, переводчик (с английского и французского). Пишет для детей и взрослых прозу, стихи, пьесы, нон-фикшн. Автор более 20 книг. Тексты переведены на 14 иностранных языков.
Петя приехал автостопом на поэтический фестиваль. Первый раз в жизни. До этого он 16 лет прожил в своём заводском городе, как гадкий утёнок на скотном дворе, а теперь надеялся, наконец, встретить прекрасных белых лебедей, свою стаю.
Водитель «Камаза» высадил его на обочине неизвестно чего и укатил — вместе с блатняком и полуголой девицей на лобовом стекле. Петя спрыгнул в жидкую грязь и сразу испугался. Даже прокуренная кабина, где он только что изо всех сил страдал, показалась ему на контрасте почти родным домом.
Петя безнадёжно посмотрел в карту, ничего не понял, пошёл вперёд, потом назад. И, наконец, встал. Примерно там же, где его высадили. Да, вот и скомканная упаковка из-под презервативов, просвистевшая у Пети над ухом, когда он открыл дверь.
Скоро уже совсем стемнеет, и не будет никакого фестиваля, никаких своих. Вообще ничего не будет. Только обочина, блатняк и весь этот скучный, страшный, взрослый мир.
Петя хотел уже впасть в отчаяние, но тут до него дошло, что дремучий лес вдоль трассы — это, возможно, и есть тот самый парк, в глубине которого стоит бывшая усадьба, в которой сейчас дом отдыха, в котором проходит фестиваль, на котором его ждут свои. Игла внутри яйца, яйцо внутри утки…
Петя радостно покатился с насыпи. Мартинсы с трещиной у основания большого пальца предательски заскользили, Петя замахал руками, как мельница, и умудрился удержаться на ногах.
В парк вела не очень уверенная тропинка, но Петя смело ринулся вперёд, предчувствуя, как будет читать стихи. Вот он стоит, суровый и горестный, а все вокруг плачут, обнимают его, хлопают по плечу и говорят: «ты наш брат». Или «ты гений». Петя никак не мог решить, какой вариант приятнее. Лучше оба.
На первых порах место, где он очутился, ещё походило на парк, хоть и заброшенный лет сто назад, но чем дальше, тем больше заросли дичали, превращаясь в чащу. Да ещё ужасные горластые вороны, эти чёрные клоуны, прыгали на верхних ветках и драли глотки.
Петя уже израсходовал заряд энергии, которую давали мечты о своих, и готовился привычно, как морж, нырнуть в прорубь отчаянья. Кажется, он окончательно заблудился. В сумрачном лесу. И сейчас вместо своих встретит рысь, тигра и пуму. Или кого там? Волчицу, льва и пантеру? Маньяка, гопника и мента?
Кусты слева жутко затрещали, и на тропинку перед остолбеневшим Петей вывалились тёмные фигуры.
– Где здесь магазин? – хрипло гаркнул кто-то.
«Какой голос нечеловеческий, будто у говорящей вороны», – подумал Петя.
И всё-таки хорошо, что они сразу заговорили. Ещё секунда, и его бы, наверное, хватил удар. А магазин – дело житейское, успокоительное.
– Н-не знаю, – промямлил Петя и, осмелев, спросил: – А где здесь фестиваль?
Искатели магазина неопределённо махнули рукой в сторону, как показалось Пете, самой непролазной чащи и растворились в густеющих сумерках. Только один – высокий тип в малиновом пиджаке на голое тело – немного задержался и назидательно произнёс:
– Юноша, фестиваль вторичен. Первичен – магазин.
Длинные пряди тянулись через бледное лицо типа наискосок – от левого виска к правой скуле. Будто кто-то рассердился и резкими чёрными линиями зачеркнул неудачный рисунок.
– Это как? – не понял Петя.
– А так, что без магазина фестиваль не состоится.
– Почему?
– Юноша, – снисходительно хмыкнул малиновый и ринулся догонять остальных.
Петя хотел крикнуть «Подождите!» и увязаться за незнакомцами. Но постеснялся. Бабушка всю жизнь внушала ему, что «нельзя быть таким навязчивым». Вот он и не был. На чёрном дереве хрипло, как внезапно пробудившийся алкаш, заорала ворона. Петю прошиб холодный пот.
– Невермор, – забормотал он, привычно подбадривая себя мировой литературой. – Ты добычи не дождёшься…
Ворона зашлась хохотом. Кусты протянули к Пете длинные костлявые руки, и один из них даже схватил за рукав. Совершенно осмысленным, живым жестом. Что-то затрещало, всхлипнуло, задышало над ухом. Поэт моментально взмок под своим тощим пальтишком с драной подмышкой.
Он бросился напролом сквозь ветки, запутался, как муха в паутине, еле вырвался обратно на тропинку, пробежал немного в ту сторону, куда ушли искатели магазина, но поскользнулся и растянулся в полный рост. Вороны – их собралась уже целая орава – гоготали, как толпа гопников у круглосуточного магазина «Лотос».
– Я самый несчастный человек в мире… – заныл Петя, но тут же осёкся.
В этом диком парке его щенячий скулёж звучал оглушительно громко. Тсс! Услышат! Кто?
Они – сам себе ответил Петя и опять вспотел. Осторожно поднявшись, он тихо, насколько позволяли весившие три кило ботинки с железными носами, убрался с дорожки и судорожно вцепился в первый попавшийся ствол, будто катился кувырком с горы, а тот удачно подвернулся на пути и замедлил падение.
В лесу было уже почти темно. Петя посмотрел на свои руки, белевшие на чёрной коре, и увидел, как сильно дрожат пальцы. Просто прыгают, будто сквозь них пропускают ток. Да что же это такое!
Тьма хрустела невидимыми ветвями. Вздыхала совсем по-человечьи. Шевелилась и вздрагивала. Всё вокруг жило и дышало. Даже земля под ногами. И земля, и воздух, и облака, и голый космос над ними. Всё было наполнено неведомыми силами… и тянулось к нему, как недавно ветки куста – совершенно осмысленно. И недобро.
– Кто здесь? – пропищал поэт, хотя вовсе не хотел этого знать.
– Ну, я здесь, – произнёс ленивый голос совсем рядом.
Петя дёрнулся и до крови прикусил язык. Пальцы вцепились в дерево с такой силой, будто хотели разорвать его пополам и спрятать там внутри всё это длинное несуразное тело. Такое тёплое, такое живое, жалкое…
Чиркнула зажигалка. Вспыхнул во тьме лацкан малинового пиджака. Блеснул серебристой лысиной узнаваемый в любых обстоятельствах дедушка Ленин на значке. Петя таких уже не носил. Но помнил, конечно. Много раз видел на старшеклассниках.
– Это пионерский? – спросил он и чуть не рассмеялся от облегчения. Или чуть не расплакался. Он не понял.
– Свой пионерский значок я потерял в горных монастырях Тибета, – нараспев произнёс малиновый пиджак. Получилось загадочно. И наставительно. – Что у вас с лицом, юноша? Привидение привиделось?
Петя передёрнул плечами, как танцующая цыганка.
– Здесь водятся, – понимающе кивнул пиджак и выудил из кармана бутылку.
– Нашли магазин? – сглотнул Петя.
– Как говорил классик: у меня с собой было.
Одним отточенным движением, точно мастер кунг-фу, пиджак вдавил пробку внутрь бутылки, отхлебнул, запрокинув голову, как горнист, и снисходительно протянул Пете.
– Скажите, а вы… поэт? – робко поинтересовался тот.
– Не задерживай посуду, юноша, – раздражённо отозвался хозяин портвейна. – Ненавижу людей, которые вместо того, чтобы немедленно выпить, начинают мотать на кулак все эти розовые сопли с блёстками: поэзия, лямур, судьбы Родины…
Петя торопливо глотнул сладкую жижу и задохнулся. Пиджак от души съездил ему по спине. Рука у него была тяжёлая.
«Вот она, инициация…боевое крещение… – смутно подумал Петя, в горле бродило приятное тепло, в желудке – возмущённый спазм. – Лишь бы не сблевать. А то всё насмарку»
– Рассказывай, юноша, — приказал пиджак, швырнув уже опустошённую бутылку в темноту. — Оленьку встретил? Оленька тут чаще всех является.
– Чего?
– В белой рубашке. С распущенными волосами. И бегом.
– Ээээ…
– Бегает, говорю, Оленька. Всё бежит и бежит, никак не может остановиться. За ней по этому парку дольше всех гонялись.
– Кто?
– Ну, кто. Кони в пальто. Комиссары в пыльных шлемах.
– Зачем гонялись?
– С луны свалился, юноша? Не слышал про эту усадьбу? О ней же все бабки на всех лавочках талдычат, сколько я себя помню. Страшные истории детства… Всю семью тут порешили. И детей, и женщин. Хозяев усадьбы. Привидения кишмя кишат. Как тараканы. Дом отдыха пустует. Дурная слава. Никто не едет. Под фестиваль бесплатно сдают. Репутацию типа подправить. Наивные... А Оленька, видно, больше всех жить хотела. До утра от них по парку бегала. Чего ты хочешь - 16 лет. С тех пор так и бегает. Прячется за деревьями… Эй, юноша! Отставить нервы! Портвейна больше нет!
В эту секунду за малиновым пиджаком театрально заколыхались кусты. Петя перестал дышать. На тропинку, матерясь, вывалились тёмные фигуры. Двое длинноволосых и один бритоголовый.
– Вот ты где, Базаров, – без особой радости произнёс кто-то.
– Явились! – театрально воскликнул пиджак. – А у меня всё кончилось! Юноша Оленьку встретил. Пришлось пожертвовать.
– А у нас – своё. И в преизрядном количестве. Пройдёмте в нумера, – один из длинноволосых призывно булькнул дипломатом.
Базаров в малиновом пиджаке и остальные тёмные личности пошли на звук, как крысы за дудочкой. Петя поплёлся следом. Не оставаться же одному. В этом лесу с привидениями.
Минут через десять ему уже было тепло, весело и совсем не страшно.
Петя первый раз в жизни видел живых поэтов. И потом ещё долго был уверен, что именно так и выглядит настоящая литературная жизнь. Казённый лакированный стол, заставленный бутылками. Дым, синхронно выдыхаемый десятком ртов. Бессвязные монологи, когда каждый кричит о своём и никто никого не слышит. И тетради со стихами, падающие на пол, где по ним пройдётся ещё не одна пара стоптанных ботинок.
Понемногу Петя начал различать отдельных персонажей. Вот двое длинноволосых из парка. Оба из Иванова. Оба Димы. Оба поэты. Только один — футурист, а второй – гей.
Их бритоголовый товарищ при ближайшем рассмотрении оказался поэтессой Леночкой из Вологды. Периодически Лена взгромождалась на тумбочку и начинала вопить. Почему-то всегда одно и то же:
– Ворона! Идёт! По проспекту! Ворона! Идёт! По проспекту! Ворона! Идёт…
В круглых глазах Леночки плескался неподдельный ужас. Она казалась Кассандрой, которую никто не слушает.
«Вот оно, настоящее искусство» – умилённо думал Петя, но всё-таки малодушно ждал, что за вороной последует что-нибудь более похожее на стихи.
– Ну, милочка. Не принимай так близко к сердцу. Это всего лишь ворона. Пусть себе идёт… лесом, – мурлыкал Дима-гей, девчоночьим жестом заправляя за ухо светлую прядь.
Люди входили и выходили. Дима-футурист, хозяин дипломата, знал всех и вся. Каждого нового человека он объявлял. Торжественно, как конферансье:
– Гениальный поэт из Нерехты. Гениальный драматург из Волгореченска. Гениальный критик из Вятки.
В тесный номер набилось уже столько гениев, что стало нечем дышать. У Пети с непривычки рябило в глазах. И стены качались, как деревья. Прилечь бы. Но некуда. Да и невозможно. Нельзя потерять лицо… Перед лицом наконец-то обретённых своих. Или это не свои? Может, его свои в соседней комнате? А это какие-то чужие свои?
Громкие голоса наплывали волнами. Взрывы смеха – как тычки локтем в бок – Петя, вздрогнув, возвращался в комнату. Пытался вслушаться. Слова сливались, глаза снова слипались. Дёрганный, хаотичный гул напоминал музыку Шнитке. Но иногда в нём возникали ритмические прогалины. Тогда Петя из последних сил таращил глаза. Смотрите, смотрите, я свой, я тоже люблю стихи!
– «Придёт ямбический ездец, ездический ямбец…» – декламировал какой-то гений с непропорционально огромной, как у пришельца, головой.
Стихи всё не кончались. Лились и лились, словно кипяток из лопнувшей батареи. Качали, укачивали… Лоб неуклонно клонился вниз, как перезревший колос. И в конце концов с облегчением упёрся в стол. Среди бутылок и чужих стихов.
– Кто это, кстати? – успел услышать Петя
– Гениальный юноша. Из парка. Он видел Оленьку
– Отличная рекомендация! Пусть напечатает вместо предисловия к сборнику
– А лучше – вместо сборника!
Петя проснулся от криков и грохота. В тесной комнате творился какой-то ямбический ездец. Вокруг метались расплывчатые фигуры, которые то ли дрались, то ли танцевали, то ли ловили друг друга над пропастью во ржи. Единственной неподвижной точкой была лысая кассандра Лена, свернувшаяся калачиком на своей тумбочке.
– Что… тут такое? – непослушным голосом спросил Петя.
– Мамочка, – простонала Лена. – Мамочка, прости...
– Ничего особенного, – бархатным баритоном пропел Дима-гей, подсаживаясь вплотную к Пете. – Наш орёл, как всегда, захотел полетать. Только забыл окно открыть.
Человек в малиновом пиджаке стоял у подоконника. На каждой руке у него висело по несколько гениев. По голому торсу стекала кровь. В пустую раму задувала ледяная ночь.
– А ты мне сразу понравился, – шершавая мужская ладонь накрыла Петину коленку. –Такой ма-аленький...
Петя взвился со стула, как ракета, и ломанулся к дверям, наступая то ли на тетради стихов, то ли на самих поэтов, перешедших в нижний ярус.
– Мамочка, ты была права… – завывала Лена. – А я тебя не слушала…
Коридор был тёмен и пуст, только вдали тосковала тусклая лампа – такой очень неубедительный свет в конце тоннеля. За каждой дверью гудели гении, как пчёлы в ульях. Пете вдруг ужасно захотелось домой. Сидеть на кухне, подперев дверь табуреткой, и строчить стихи – с таким напором, что на клеёнке остаются следы букв и шрамы яростных зачёркиваний, а бабушка потом всё утро перепиливает его ржавой пилой за порчу имущества.
Петя двинулся к лестнице, почувствовав, что наелся литературной жизнью. Даже объелся, до несварения желудка... Застопить очередной «Камаз» с шансоном и голой грудью на стекле. И через пару часов, если повезёт, рухнуть на родной продавленный матрас за шкафом, обклеенным постерами с Нирваной.
Но тут Петя вспомнил тёмный парк. Где бегает Оленька. Шестнадцатилетняя, как он сам.
И даже протрезвел – с такой жуткой отчётливостью представилась ему белая девичья тень, мелькающая среди чёрных деревьев.
Нет, придётся всё-таки ночевать в этом пансионате, плывущем по непроглядному океану тьмы, как пьяный корабль. Петя тяжело вздохнул и вернулся обратно в коридор, надеясь отыскать хоть одну комнату, не занятую поэтическим гудением...
И тут сердце бедного поэта забилось в самом горле, будто он проглотил живого воробья. По коридору бежала Оленька. Белая длинная рубашка, летящие следом белые волосы… К счастью, она была в другом конце коридора и неслась не к нему, а от него – иначе Петя вряд ли бы пережил эту секунду.
В следующую секунду наваждение рассеялось. Оленька остановилась и стала дубасить в чью-то дверь с силой, не свойственной призракам, если только это не статуя командора. При этом она орала голосом портового грузчика:
– Открывайте! Грёбаные ублюдки! Я тексты у вас забыла!
Петя с облегчением рассмеялся. Ну и ну, чуть не поседел. А это всего лишь какая-то брутальная поэтесса. Он подошёл ближе и даже помог мнимому призраку ломиться в запертую дверь. Судя по громокипящему храпу, которому позавидовал бы самый откормленный колхозный боров, в комнате кто-то был, но достучаться до него не удавалось даже железными носами Мартинсов.
Наконец, девушка, спиной по двери, съехала на пол. Петя плюхнулся рядом.
– Уничтожить всех уродов, – выдохнула она. – Как думаешь, ублюдок и выблядок – однокоренные слова?
От попытки сосредоточиться на этой сложной лингвистической проблеме у Пети перед глазами всё поплыло, и он поспешил вернуться к более простым вещам.
– Я – Пётр, – важно сообщил он.
– Оливия, – с вызовом бросила девушка и зыркнула на него так, будто он был в чем-то виноват. В мировой несправедливости как минимум.
– Ого, – поперхнулся Петя. – Очень… поэтично.
Оливия фыркнула и закатила глаза. Промазал, понял Петя, сморозил что-то не то. И пытаясь спасти пошатнувшуюся репутацию, со смехом сказал:
– Прикинь, а я тебя за Оленьку принял.
Он ждал, что Оливия тоже засмеётся. Ну, или хотя бы снизойдёт до улыбки. Но из её большого рта вдруг полилось такое, что Петя опять вспомнил грузчиков. Только не портовых — это как-то слишком романтично — а из вино-водочного магазина. Сам Петя материться ещё не умел. Слова-то нужные знал (далеко не все, как стало очевидно после извержения Оливии), а вот произнести вслух никак не мог, будто горло тут же запиралось на ключ.
Зато у светловолосой девушки в ночной рубашке с этим никаких проблем не было. Сквозь многоступенчатые конструкции смысл просматривался с трудом, как старинный особняк сквозь строительные леса, но, когда Петя немного понял, о чём она говорит, ему стало ещё больше не по себе.
Это была история про какого-то поэта, который влюбился в Оленьку. То есть, в призрака. И в честь неё каждую осень, в аккурат на поэтическом фестивале, пытается покончить с собой, бросаясь из окон. Петя вспомнил кровавые ручьи, стекавшие по голому торсу поэта Базарова. Картинка была красивой, несмотря на жуть: красное на белом в обрамлении малинового. Прям Малевич.
– Ненавижу эту потустороннюю сучку… – Оливия треснула кулаком по полу. – Своими руками бы убила. Жаль, до меня постарались ребята.
– Подожди, – Петя потряс головой, чтобы кусочки паззла легли на свои места. – Ты что ли ревнуешь? Ты что ли его любишь? Этого декадента?
– Некрофила, ты хотел сказать. Конечно, нет. Я его ненавижу.
– Понятно, – неуверенно протянул Петя.
– Да ни черта тебе не понятно, – устало огрызнулась Оливия.
Петя опять почувствовал себя виноватым. И очень маленьким.
– Что же ты со стихами будешь делать? – участливо поинтересовался он, пытаясь загладить свою непонятную вину.
– Пфф! – Оливия снова закатила глаза.
Блин, опять мимо.
– Хотя, наверное, до завтра-то откроют…
– До завтра я новых напишу. Штук двадцать. Особенно, если кофе раздобыть. Ну, чего таращишься? Ты, наверное, считаешь, что поэзия – это святое, дар божий, вдохновение и прочее бла-бла-бла…
Петя поспешно замотал головой, хотя именно так и думал.
– Сейчас в моде такое говно, которое любой дурак может состряпать за пять минут. Немного секса, желательно нетрадиционного, главное без туманностей, называя вещи своими именами. Член так член, хули жаться, мы не в Институте благородных девиц. Потом добавляешь полстакана злобы дня, из новостей, чтоб всем понятно, но не прямым текстом. А сверху щепотку модных терминов, чтоб читатель почувствовал себя умным и избранным. Эйджизм, сексизм, полиаморность… знаешь, что это такое? Да обычное блядство. В общем, учись, пока я жива, телёнок. А то не будут ни печатать, ни на фестивали звать. Так и сгниешь в своей Пындровке. Или откуда ты такой припёрся, из Буя?
Оливия хрипло засмеялась, а потом вдруг завыла:
– Скууууууука, скука смертная… хоть бы кто пристрелил, как суку Оленьку…
Петя не знал, что сказать, и сказал, кажется, самое неподходящее:
– А тебе самой-то нравятся? Ну, те стихи, которые ты за пять минут пишешь? Про члены, новости и полиаморность?
Вместо ответа Оливия встала и вдруг, без объявления войны, одним быстрым движением стянула с себя ночнушку. Петя на секунду аж ослеп.
– Скука, – повторила она уже без надрыва. – Я знаю одно средство от скуки. Пойдём.
И Оливия лениво поплыла по коридору, волоча за собой по полу белую рубашку. Петя судорожно облизнул липкие от портвейна губы и вспомнил Настю.
Настя училась в параллельном, в запредельном «Бэ», как писал он в одном из стихов, посвященных ей. У Насти был такой голос, что Петю каждую перемену неудержимо тянуло подойти к ней и спросить какую-нибудь фигню. Настя отвечала, какую-нибудь ещё большую фигню, а он стоял, неприлично лыбясь, и слушал её голос – совсем взрослый, женский, обволакивающий. Потом он стал провожать её до дома и даже отважился, еле ворочая непослушным, как после заморозки, языком, прочесть несколько стихотворений…
И вот теперь, стараясь не смотреть и всё-таки немилосердно таращась на удаляющуюся в тусклую даль коридора Оливию, Петя впал в этический коллапс. Имеет ли он право? Не будет ли это изменой Насте?
«Нет, никогда, – с жаром выдохнул он и тут же, – Да, сейчас же!»
– Ну, ты идёшь или кого другого позвать? – не оборачиваясь спросила Оливия.
– Вообще-то, я… это… женат, – неожиданно для самого себя брякнул Петя.
Оливия расхохоталась на весь пансионат, как самая настоящая ведьма.
«Скажу, что заколдовала… этим… зельем поворотным…», – пронеслось в голове у Пети.
Девушка зевнула и потянулась. Петя чуть ли не бил себя по глазам, чтобы не смотреть. И всё равно смотрел.
– Пару раз поцеловались в подъезде – и уже женаты. А она ведь даже и не факт, что даст.
– Откуда ты…
– Да у тебя всё на лице написано, телёнок. Ладно, не уговаривать же тебя.
Она скользнула в один из номеров. Петя сам не заметил, как оказался на пороге, будто на монтаже кто-то вырезал за ненадобностью длинный путь по коридору.
«Нет-нет-нет! – строго сказал он себе, но рука сама толкнула дверь, как бы говоря. – Да! Да! Да!»
В номере было хоть глаз выколи, шторы задёрнуты, а снаружи ни одного фонаря. Петя уже с облегчением собрался дать задний ход, когда неведомая сила схватила его за ремень и втянула в глубь этой тьмы. Шаг, другой – он потерял равновесие и повалился на кровать.
Так ему сначала показалось. Но нет, под ним было живое, тёплое, мягкое. Он заметался, пытаясь скатиться куда-нибудь вбок, чтоб не раздавить, но его властно дёрнули вниз – так что он со всего размаху впечатался в то мягкое, что дышало под ним. И задохнулся.
Неведомая сила рванула ремень, звякнула пряжкой, вжикнула молнией. Петя не успел не то что помешать, даже сообразить, что происходит, как вдруг с ужасом почувствовал холодный сквознячок, гуляющий по его оголившимся ягодицам. Впрочем, на них тут же легла горячая ладонь, и ужас смешался с чем-то ещё, очень сильным, обжигающим, похожим на судорогу внизу живота.
Ладонь быстро переместилась вперёд, сжала, поёрзала туда-сюда, от чего судорога стала совсем уж нестерпимой, и Петя тихонько заскулил. Тем временем его опять куда-то потянули, и вокруг оказалась уже не ладонь, а что-то скользкое, горячее, пульсирующее. Оно качнулось навстречу, потом ещё и ещё, всё убыстряясь.
Судорога захлестнула мозг, и в мире не осталось ничего, кроме этой злой, бешеной, нарастающей скачки… Петя закричал, как от боли. Ему и в самом деле было больно, так невыносимо скрутило всё внутри. И вдруг судорога распустилась. Просто развязалась там в животе, точно по волшебству. Сведённые от напряжения мышцы моментально размякли, как сухарь в чае. Он ткнулся куда-то потяжелевшей головой, которую уже невозможно было держать на весу. И тут же отрубился, будто его засосало в чёрную дыру.
Когда Петя пришёл в себя, было уже утро. Сквозь слипшиеся веки пробивался тусклый свет. Он долго не мог заставить себя открыть глаза. Казалось, для этого нужны вилы, как Вию.
Наконец, поэт со стоном разлепил один глаз. И увидел рядом с собой на подушке лицо. Судя по тёмной щетине – мужское. Петя дёрнулся и треснулся затылком о железный бок кровати. Лицо медленно, тоже с явным трудом, приоткрыло глаз. Мутно-голубой, с розовым белком. Петя хотел убежать, но тело не повиновалось, а вот соседу по подушке удалось подняться и даже закурить, привалившись к стене. Это был мелкий пацан в растянутой тельняшке. Чем-то неуловимо похожий на гнома. Только без бороды.
– Я ночью пришёл, ощупал лица, вроде свои, – весело заговорил он. – Видать, ошибся комнатой. Или ты ошибся.
От этого бодрого голоса Петю замутило. Он осторожно повернул голову и огляделся. На трёх остальных кроватях лежали одетые мужские тела. Некоторые, кряхтя, шевелились, другие выглядели бездыханными. Оливии среди них не было.
«Может, померещилось?» – с надеждой и некоторым разочарованием подумал Петя.
– Портки-то натяни, чувак. Всё же тут не нудистский пляж, – дружелюбно посоветовал гном, выпуская дым в потолок.
Петя судорожно натянул джинсы – и аж вспотел от стыда.
– Твоё? – гном вытянул из-под Пети ночную рубашку Оливии.
Тот отчаянно замотал головой.
– Да не напрягайся ты так. Все свои. Выпить хочешь?
Петя нерешительно кивнул.
– И я хочу. А нету.
Гном зевнул, показывая чёрные дыры в зубах.
– Ты поэт? – зачем-то спросил Петя.
– Не-а, – гном с хрустом потянулся. – Крановщик. Тут же фестиваль крановщиков.
Через час Петя впервые читал стихи на публике. Никогда в жизни он ещё не чувствовал себя так погано — и физически, и метафизически. У него двоилось в глазах, голова плавала где-то отдельно от тела, как бестолковая рыба-шар из семейства иглобрюхих. Он пропускал строчки, ошибался в ударениях, неправильно интонировал, сам не понимая, что читает. Стихи рассыпались, как лопнувшие бусы. И то, что раньше казалось таким живым, превращалось в словесную труху, звуковую пыль, будто Петя был вывернутым наизнанку царём Мидасом.
К счастью, его никто не слушал. Хотя ещё вчера такого счастья Петя не пожелал бы и врагу. На последних рядах похмелялись, прикрывшись дипломатом. На первых — нервно шелестели бумагой, готовясь выступать. Только Оливия сидела, вытянув в проход длинные ноги (к счастью, в джинсах), и демонстративно хлопала, стоило ему на секунду замолчать.
Лучше бы тоже бухала за дипломатом, честное слово. Да ещё и стихи все, как назло, о любви... Но было ли любовью то, что происходило с ним раньше? Или, может, любовь – это то, что случилось сегодня ночью? Петя не знал.
Он вдруг очнулся и понял, что уже не читает. Стоит перед микрофоном и молчит, слепо глядя в дрожащий листок. До конца стихотворения оставалось ещё две строфы, но он больше не мог выдавить из себя ни звука. И уйти вот так – бесславно, на полуслове – тоже не мог. Шум в зале нарастал. Боже, какое позорище.
«Грядёт по гульбищу из ристалища на позорище» – некстати всплыл в голове обрывок какого-то школьного бреда. А кто там грядёт? Чудище? Уродище? Поэтище!
Внезапно рядом оказалась Оливия. Петя подумал, что она сейчас по-хозяйски схватит его за руку и стащит со сцены. Но она просто встала рядом и принялась молча пялиться в зал. С таким видом, будто только что прочитала какое-нибудь своё стихотворение про член, написанное за три минуты, – и теперь ждет реакции. Она стояла так близко, что иногда их руки соприкасались – и Петю бросало в жар, затмевавший даже претерпеваемое им позорище.
Кое-где в зале уже вспыхивали негодующие крики. Вдруг Дима-футурист вскочил, грохнув крышкой дипломата, и истово зааплодировал.
– Это гениально! – кричал он. – Концептуально! Минус текст! Молчание как жест! Чёрный квадрат поэзии! Кенотаф Артюру Рембо!
– Чушь собачья! Не морочьте людям головы своей мертворождённой постмодернистской ересью! – донеслось из другого угла.
– Мужчина, у вас в усах капуста! – завопил в ответ Дима с восторгом, достойным валькирии.
– Освободите сцену! Дайте выступить наследникам великой русской поэзии!
Петя не успел даже сглотнуть слюну, которой почему-то набежал полон рот, как в зале вспыхнула драка. Позорище превратилось в побоище. Поэты азартно хлестали друг друга тетрадями и папками. Просвистел над рядами испачканный в побелке дипломат. Больше всех усердствовал вчерашний неудавшийся самоубийца в малиновом пиджаке на голое тело. К сегодняшнему выступлению он принарядился: намотал на шею жёлтый шарф, выглядевший так, будто его хорошенько пожевал динозавр. Теперь за эту замызганную тряпицу его тянул некто в перекошенных очках, то и дело пронзительно выкрикивая:
– Не позволю осквернять святыню! Не позволю!
Оливия спрыгнула со сцены и пошла к выходу той же походкой маленькой сомнамбулы, что и вчера ночью. Спасибо, что не голышом. С неё бы сталось. Петя опять пустил слюнку, как в детстве перед витриной с запретными пирожными. И не отдавая себе отчёта в том, что делает, потащился следом за Оливией.
Она сидела на подоконнике в коридоре и повторяла, вжимая лоб в стекло:
– Скука-скука-скука-скука…
Петя нерешительно замер в двух шагах, судорожно перебирая в голове, что можно сказать в такой ситуации. На ум не приходило ничего адекватного. Неадекватного, впрочем, тоже.
Вдруг его с силой отшвырнуло в стену – будто цунами пронеслось. Петя успел только изумлённо моргнуть – а рядом с Оливией уже оказался малиновый пиджак. Один рукав у него был наполовину оторван.
Они одновременно заорали друг на друга. Она влепила ему пощёчину, он заломил ей руку. Петя моргнул ещё раз. А они уже сцепились, повалились на пол, покатились, продолжая вопить. Потом вдруг резко замолчали. В первую секунду Петя с ужасом подумал, что они пожирают друг друга. Но потом понял, что к чему, и облился жарким потом. Руки Оливии уже рвали ремень Базарова.
– Пойдём, не надо на это смотреть, – сказал Дима-футурист, беря его под руку.
– Маленький ещё, – ласково добавил Дима-гей и повис на другой руке.
И они вышли в парк.
Было бы хорошо, если бы история на этом и закончилась. Поэты, поблуждав немного, нашли свой путь в магазин. А потом долго и многословно прощались на обочине, поливая друг друга неудержимыми потоками стихов. Петя, счастливо улыбаясь и пошатываясь, махал рукой проносившимся мимо грязным фурам. Затем и оба Димы подключились к процессу. Они даже собрались ехать провожать его в заводской райцентр, где он жил… Но в остановившейся машине было только одно свободное место, и они долго бежали за ним по трассе, салютуя дипломатом и что-то неслышно крича… Свои, наконец-то свои… с которыми он больше никогда не встретился.
Можно было бы ещё добавить, что спустя несколько лет Дима-футурист стал иноком Дамаскиным, а Дима-гей уехал в Швейцарию (или Швецию?), где удачно вышел замуж (или женился?). Бритая Лена, так страдавшая по вороне, родила пятерых детей от разных, всегда любимых мужчин, и растит их одна в беспросветной нищете и раздолбанной хрущёвке, которую искренне украшает жуткими зверями, сделанными из пластиковых бутылок...
Но, к сожалению, эта история, уже почти забытая, однажды вдруг вынырнула из небытия и обрела ещё один непредвиденный финал. Заметно полысевший Петя, который уже много лет не писал ничего, кроме текстов про кровельное железо и итальянскую сантехнику, пил невкусное пиво в дешёвой забегаловке.
На железной подставке надрывался телевизор, замотанный, как в боа, в пыльную золотую гирлянду, от которой всё вокруг становилось ещё гаже и безнадёжнее. На экране мелькали кадры местных новостей. Петя рассеянно и печально смотрел на картинки из областного центра, куда когда-то ездил на поэтический фестиваль. Первый и последний в своей жизни, которая повернулась куда-то не туда. Ну да сколько можно об этом… И вдруг на экране возникло расплывшееся, но вполне узнаваемое лицо поэта Базарова. Уже без малинового пиджака, в обычной чёрной куртке.
Петя лениво прислушался. «Член областного отделения союза писателей, автор нескольких книг». Петя уже почти переключился на свою привычную пластинку: «Все состоялись, а я…» Но тут ухо уловило нечто странное. «С особой жестокостью… сам сдался полиции…» Петя даже забыл, что собирался пострадать.
«Базаров был женат, имел двоих детей, – рассказывала блондинка с ярко красными губами. – Но недавно встретил свою юношескую любовь. И страсть вспыхнула с новой силой. Когда же он узнал, что партнёрша ему изменяет…»
«Почему все дикторши на областном телевидении изъясняются и выглядят, как доярки?» – поморщился Петя и пропустил следующую фразу, а потом и все остальные.
Он умел хорошо защищаться от того, что могло задеть. Но несколько слов, как калёные стрелы, влетели-таки в высокий терем сквозь закрытое окно. «Забил до смерти», «состояние аффекта» и «десять лет строгого режима». Петя потряс головой, но слова было уже не вытряхнуть.
Хуже того. Перед глазами тут же возникла Оливия, которую он почти никогда не вспоминал. Вот она идёт, волоча по полу ночную рубашку. Вот молчит, стоя вместе с ним перед полным залом. Петя вдруг явственно вспомнил жаркое ощущение от прикосновения её плеча. И опять облился потом, как тогда, в 16 лет. Давно он не чувствовал себя таким живым. И таким несчастным.
«Да, может, это и не она, его юношеская любовь. Сколько у такого человека могло быть юношеских любовей. Тысяча и одна, не меньше».
Но как он ни тряс головой, как ни уговаривал себя, как ни глотал кислое пиво – всё равно видел только одно: белое девичье тело, уплывающее в тусклую коридорную даль.
«Конечно, нет. Я его ненавижу»... «Полиаморность… да обычное блядство»… «учись, пока я жива, телёнок»… «сгниёшь в своей Пындровке»...
«А ведь и сгнил, – думал он, разглядывая свою кислую мину в третьей кружке, – но ты-то… с тобой-то… тебя уже вообще… закопали…»
Его мутило. К горлу вместе с пивом подкатывал ком непереваренного ужаса. В телеке дёргались под музыку блестящие кукольные тела. Тело Оливии светилось в конце тоннеля…
Домой он вернулся измученным, зарёванным, продрогшим. Почти ожившим.
И даже был уверен, что сейчас напишет стихи. Но не написал, конечно. Просто упал на продавленный диван – и тут же отрубился.
Ему ничего не приснилось.
Водитель «Камаза» высадил его на обочине неизвестно чего и укатил — вместе с блатняком и полуголой девицей на лобовом стекле. Петя спрыгнул в жидкую грязь и сразу испугался. Даже прокуренная кабина, где он только что изо всех сил страдал, показалась ему на контрасте почти родным домом.
Петя безнадёжно посмотрел в карту, ничего не понял, пошёл вперёд, потом назад. И, наконец, встал. Примерно там же, где его высадили. Да, вот и скомканная упаковка из-под презервативов, просвистевшая у Пети над ухом, когда он открыл дверь.
Скоро уже совсем стемнеет, и не будет никакого фестиваля, никаких своих. Вообще ничего не будет. Только обочина, блатняк и весь этот скучный, страшный, взрослый мир.
Петя хотел уже впасть в отчаяние, но тут до него дошло, что дремучий лес вдоль трассы — это, возможно, и есть тот самый парк, в глубине которого стоит бывшая усадьба, в которой сейчас дом отдыха, в котором проходит фестиваль, на котором его ждут свои. Игла внутри яйца, яйцо внутри утки…
Петя радостно покатился с насыпи. Мартинсы с трещиной у основания большого пальца предательски заскользили, Петя замахал руками, как мельница, и умудрился удержаться на ногах.
В парк вела не очень уверенная тропинка, но Петя смело ринулся вперёд, предчувствуя, как будет читать стихи. Вот он стоит, суровый и горестный, а все вокруг плачут, обнимают его, хлопают по плечу и говорят: «ты наш брат». Или «ты гений». Петя никак не мог решить, какой вариант приятнее. Лучше оба.
На первых порах место, где он очутился, ещё походило на парк, хоть и заброшенный лет сто назад, но чем дальше, тем больше заросли дичали, превращаясь в чащу. Да ещё ужасные горластые вороны, эти чёрные клоуны, прыгали на верхних ветках и драли глотки.
Петя уже израсходовал заряд энергии, которую давали мечты о своих, и готовился привычно, как морж, нырнуть в прорубь отчаянья. Кажется, он окончательно заблудился. В сумрачном лесу. И сейчас вместо своих встретит рысь, тигра и пуму. Или кого там? Волчицу, льва и пантеру? Маньяка, гопника и мента?
Кусты слева жутко затрещали, и на тропинку перед остолбеневшим Петей вывалились тёмные фигуры.
– Где здесь магазин? – хрипло гаркнул кто-то.
«Какой голос нечеловеческий, будто у говорящей вороны», – подумал Петя.
И всё-таки хорошо, что они сразу заговорили. Ещё секунда, и его бы, наверное, хватил удар. А магазин – дело житейское, успокоительное.
– Н-не знаю, – промямлил Петя и, осмелев, спросил: – А где здесь фестиваль?
Искатели магазина неопределённо махнули рукой в сторону, как показалось Пете, самой непролазной чащи и растворились в густеющих сумерках. Только один – высокий тип в малиновом пиджаке на голое тело – немного задержался и назидательно произнёс:
– Юноша, фестиваль вторичен. Первичен – магазин.
Длинные пряди тянулись через бледное лицо типа наискосок – от левого виска к правой скуле. Будто кто-то рассердился и резкими чёрными линиями зачеркнул неудачный рисунок.
– Это как? – не понял Петя.
– А так, что без магазина фестиваль не состоится.
– Почему?
– Юноша, – снисходительно хмыкнул малиновый и ринулся догонять остальных.
Петя хотел крикнуть «Подождите!» и увязаться за незнакомцами. Но постеснялся. Бабушка всю жизнь внушала ему, что «нельзя быть таким навязчивым». Вот он и не был. На чёрном дереве хрипло, как внезапно пробудившийся алкаш, заорала ворона. Петю прошиб холодный пот.
– Невермор, – забормотал он, привычно подбадривая себя мировой литературой. – Ты добычи не дождёшься…
Ворона зашлась хохотом. Кусты протянули к Пете длинные костлявые руки, и один из них даже схватил за рукав. Совершенно осмысленным, живым жестом. Что-то затрещало, всхлипнуло, задышало над ухом. Поэт моментально взмок под своим тощим пальтишком с драной подмышкой.
Он бросился напролом сквозь ветки, запутался, как муха в паутине, еле вырвался обратно на тропинку, пробежал немного в ту сторону, куда ушли искатели магазина, но поскользнулся и растянулся в полный рост. Вороны – их собралась уже целая орава – гоготали, как толпа гопников у круглосуточного магазина «Лотос».
– Я самый несчастный человек в мире… – заныл Петя, но тут же осёкся.
В этом диком парке его щенячий скулёж звучал оглушительно громко. Тсс! Услышат! Кто?
Они – сам себе ответил Петя и опять вспотел. Осторожно поднявшись, он тихо, насколько позволяли весившие три кило ботинки с железными носами, убрался с дорожки и судорожно вцепился в первый попавшийся ствол, будто катился кувырком с горы, а тот удачно подвернулся на пути и замедлил падение.
В лесу было уже почти темно. Петя посмотрел на свои руки, белевшие на чёрной коре, и увидел, как сильно дрожат пальцы. Просто прыгают, будто сквозь них пропускают ток. Да что же это такое!
Тьма хрустела невидимыми ветвями. Вздыхала совсем по-человечьи. Шевелилась и вздрагивала. Всё вокруг жило и дышало. Даже земля под ногами. И земля, и воздух, и облака, и голый космос над ними. Всё было наполнено неведомыми силами… и тянулось к нему, как недавно ветки куста – совершенно осмысленно. И недобро.
– Кто здесь? – пропищал поэт, хотя вовсе не хотел этого знать.
– Ну, я здесь, – произнёс ленивый голос совсем рядом.
Петя дёрнулся и до крови прикусил язык. Пальцы вцепились в дерево с такой силой, будто хотели разорвать его пополам и спрятать там внутри всё это длинное несуразное тело. Такое тёплое, такое живое, жалкое…
Чиркнула зажигалка. Вспыхнул во тьме лацкан малинового пиджака. Блеснул серебристой лысиной узнаваемый в любых обстоятельствах дедушка Ленин на значке. Петя таких уже не носил. Но помнил, конечно. Много раз видел на старшеклассниках.
– Это пионерский? – спросил он и чуть не рассмеялся от облегчения. Или чуть не расплакался. Он не понял.
– Свой пионерский значок я потерял в горных монастырях Тибета, – нараспев произнёс малиновый пиджак. Получилось загадочно. И наставительно. – Что у вас с лицом, юноша? Привидение привиделось?
Петя передёрнул плечами, как танцующая цыганка.
– Здесь водятся, – понимающе кивнул пиджак и выудил из кармана бутылку.
– Нашли магазин? – сглотнул Петя.
– Как говорил классик: у меня с собой было.
Одним отточенным движением, точно мастер кунг-фу, пиджак вдавил пробку внутрь бутылки, отхлебнул, запрокинув голову, как горнист, и снисходительно протянул Пете.
– Скажите, а вы… поэт? – робко поинтересовался тот.
– Не задерживай посуду, юноша, – раздражённо отозвался хозяин портвейна. – Ненавижу людей, которые вместо того, чтобы немедленно выпить, начинают мотать на кулак все эти розовые сопли с блёстками: поэзия, лямур, судьбы Родины…
Петя торопливо глотнул сладкую жижу и задохнулся. Пиджак от души съездил ему по спине. Рука у него была тяжёлая.
«Вот она, инициация…боевое крещение… – смутно подумал Петя, в горле бродило приятное тепло, в желудке – возмущённый спазм. – Лишь бы не сблевать. А то всё насмарку»
– Рассказывай, юноша, — приказал пиджак, швырнув уже опустошённую бутылку в темноту. — Оленьку встретил? Оленька тут чаще всех является.
– Чего?
– В белой рубашке. С распущенными волосами. И бегом.
– Ээээ…
– Бегает, говорю, Оленька. Всё бежит и бежит, никак не может остановиться. За ней по этому парку дольше всех гонялись.
– Кто?
– Ну, кто. Кони в пальто. Комиссары в пыльных шлемах.
– Зачем гонялись?
– С луны свалился, юноша? Не слышал про эту усадьбу? О ней же все бабки на всех лавочках талдычат, сколько я себя помню. Страшные истории детства… Всю семью тут порешили. И детей, и женщин. Хозяев усадьбы. Привидения кишмя кишат. Как тараканы. Дом отдыха пустует. Дурная слава. Никто не едет. Под фестиваль бесплатно сдают. Репутацию типа подправить. Наивные... А Оленька, видно, больше всех жить хотела. До утра от них по парку бегала. Чего ты хочешь - 16 лет. С тех пор так и бегает. Прячется за деревьями… Эй, юноша! Отставить нервы! Портвейна больше нет!
В эту секунду за малиновым пиджаком театрально заколыхались кусты. Петя перестал дышать. На тропинку, матерясь, вывалились тёмные фигуры. Двое длинноволосых и один бритоголовый.
– Вот ты где, Базаров, – без особой радости произнёс кто-то.
– Явились! – театрально воскликнул пиджак. – А у меня всё кончилось! Юноша Оленьку встретил. Пришлось пожертвовать.
– А у нас – своё. И в преизрядном количестве. Пройдёмте в нумера, – один из длинноволосых призывно булькнул дипломатом.
Базаров в малиновом пиджаке и остальные тёмные личности пошли на звук, как крысы за дудочкой. Петя поплёлся следом. Не оставаться же одному. В этом лесу с привидениями.
Минут через десять ему уже было тепло, весело и совсем не страшно.
Петя первый раз в жизни видел живых поэтов. И потом ещё долго был уверен, что именно так и выглядит настоящая литературная жизнь. Казённый лакированный стол, заставленный бутылками. Дым, синхронно выдыхаемый десятком ртов. Бессвязные монологи, когда каждый кричит о своём и никто никого не слышит. И тетради со стихами, падающие на пол, где по ним пройдётся ещё не одна пара стоптанных ботинок.
Понемногу Петя начал различать отдельных персонажей. Вот двое длинноволосых из парка. Оба из Иванова. Оба Димы. Оба поэты. Только один — футурист, а второй – гей.
Их бритоголовый товарищ при ближайшем рассмотрении оказался поэтессой Леночкой из Вологды. Периодически Лена взгромождалась на тумбочку и начинала вопить. Почему-то всегда одно и то же:
– Ворона! Идёт! По проспекту! Ворона! Идёт! По проспекту! Ворона! Идёт…
В круглых глазах Леночки плескался неподдельный ужас. Она казалась Кассандрой, которую никто не слушает.
«Вот оно, настоящее искусство» – умилённо думал Петя, но всё-таки малодушно ждал, что за вороной последует что-нибудь более похожее на стихи.
– Ну, милочка. Не принимай так близко к сердцу. Это всего лишь ворона. Пусть себе идёт… лесом, – мурлыкал Дима-гей, девчоночьим жестом заправляя за ухо светлую прядь.
Люди входили и выходили. Дима-футурист, хозяин дипломата, знал всех и вся. Каждого нового человека он объявлял. Торжественно, как конферансье:
– Гениальный поэт из Нерехты. Гениальный драматург из Волгореченска. Гениальный критик из Вятки.
В тесный номер набилось уже столько гениев, что стало нечем дышать. У Пети с непривычки рябило в глазах. И стены качались, как деревья. Прилечь бы. Но некуда. Да и невозможно. Нельзя потерять лицо… Перед лицом наконец-то обретённых своих. Или это не свои? Может, его свои в соседней комнате? А это какие-то чужие свои?
Громкие голоса наплывали волнами. Взрывы смеха – как тычки локтем в бок – Петя, вздрогнув, возвращался в комнату. Пытался вслушаться. Слова сливались, глаза снова слипались. Дёрганный, хаотичный гул напоминал музыку Шнитке. Но иногда в нём возникали ритмические прогалины. Тогда Петя из последних сил таращил глаза. Смотрите, смотрите, я свой, я тоже люблю стихи!
– «Придёт ямбический ездец, ездический ямбец…» – декламировал какой-то гений с непропорционально огромной, как у пришельца, головой.
Стихи всё не кончались. Лились и лились, словно кипяток из лопнувшей батареи. Качали, укачивали… Лоб неуклонно клонился вниз, как перезревший колос. И в конце концов с облегчением упёрся в стол. Среди бутылок и чужих стихов.
– Кто это, кстати? – успел услышать Петя
– Гениальный юноша. Из парка. Он видел Оленьку
– Отличная рекомендация! Пусть напечатает вместо предисловия к сборнику
– А лучше – вместо сборника!
Петя проснулся от криков и грохота. В тесной комнате творился какой-то ямбический ездец. Вокруг метались расплывчатые фигуры, которые то ли дрались, то ли танцевали, то ли ловили друг друга над пропастью во ржи. Единственной неподвижной точкой была лысая кассандра Лена, свернувшаяся калачиком на своей тумбочке.
– Что… тут такое? – непослушным голосом спросил Петя.
– Мамочка, – простонала Лена. – Мамочка, прости...
– Ничего особенного, – бархатным баритоном пропел Дима-гей, подсаживаясь вплотную к Пете. – Наш орёл, как всегда, захотел полетать. Только забыл окно открыть.
Человек в малиновом пиджаке стоял у подоконника. На каждой руке у него висело по несколько гениев. По голому торсу стекала кровь. В пустую раму задувала ледяная ночь.
– А ты мне сразу понравился, – шершавая мужская ладонь накрыла Петину коленку. –Такой ма-аленький...
Петя взвился со стула, как ракета, и ломанулся к дверям, наступая то ли на тетради стихов, то ли на самих поэтов, перешедших в нижний ярус.
– Мамочка, ты была права… – завывала Лена. – А я тебя не слушала…
Коридор был тёмен и пуст, только вдали тосковала тусклая лампа – такой очень неубедительный свет в конце тоннеля. За каждой дверью гудели гении, как пчёлы в ульях. Пете вдруг ужасно захотелось домой. Сидеть на кухне, подперев дверь табуреткой, и строчить стихи – с таким напором, что на клеёнке остаются следы букв и шрамы яростных зачёркиваний, а бабушка потом всё утро перепиливает его ржавой пилой за порчу имущества.
Петя двинулся к лестнице, почувствовав, что наелся литературной жизнью. Даже объелся, до несварения желудка... Застопить очередной «Камаз» с шансоном и голой грудью на стекле. И через пару часов, если повезёт, рухнуть на родной продавленный матрас за шкафом, обклеенным постерами с Нирваной.
Но тут Петя вспомнил тёмный парк. Где бегает Оленька. Шестнадцатилетняя, как он сам.
И даже протрезвел – с такой жуткой отчётливостью представилась ему белая девичья тень, мелькающая среди чёрных деревьев.
Нет, придётся всё-таки ночевать в этом пансионате, плывущем по непроглядному океану тьмы, как пьяный корабль. Петя тяжело вздохнул и вернулся обратно в коридор, надеясь отыскать хоть одну комнату, не занятую поэтическим гудением...
И тут сердце бедного поэта забилось в самом горле, будто он проглотил живого воробья. По коридору бежала Оленька. Белая длинная рубашка, летящие следом белые волосы… К счастью, она была в другом конце коридора и неслась не к нему, а от него – иначе Петя вряд ли бы пережил эту секунду.
В следующую секунду наваждение рассеялось. Оленька остановилась и стала дубасить в чью-то дверь с силой, не свойственной призракам, если только это не статуя командора. При этом она орала голосом портового грузчика:
– Открывайте! Грёбаные ублюдки! Я тексты у вас забыла!
Петя с облегчением рассмеялся. Ну и ну, чуть не поседел. А это всего лишь какая-то брутальная поэтесса. Он подошёл ближе и даже помог мнимому призраку ломиться в запертую дверь. Судя по громокипящему храпу, которому позавидовал бы самый откормленный колхозный боров, в комнате кто-то был, но достучаться до него не удавалось даже железными носами Мартинсов.
Наконец, девушка, спиной по двери, съехала на пол. Петя плюхнулся рядом.
– Уничтожить всех уродов, – выдохнула она. – Как думаешь, ублюдок и выблядок – однокоренные слова?
От попытки сосредоточиться на этой сложной лингвистической проблеме у Пети перед глазами всё поплыло, и он поспешил вернуться к более простым вещам.
– Я – Пётр, – важно сообщил он.
– Оливия, – с вызовом бросила девушка и зыркнула на него так, будто он был в чем-то виноват. В мировой несправедливости как минимум.
– Ого, – поперхнулся Петя. – Очень… поэтично.
Оливия фыркнула и закатила глаза. Промазал, понял Петя, сморозил что-то не то. И пытаясь спасти пошатнувшуюся репутацию, со смехом сказал:
– Прикинь, а я тебя за Оленьку принял.
Он ждал, что Оливия тоже засмеётся. Ну, или хотя бы снизойдёт до улыбки. Но из её большого рта вдруг полилось такое, что Петя опять вспомнил грузчиков. Только не портовых — это как-то слишком романтично — а из вино-водочного магазина. Сам Петя материться ещё не умел. Слова-то нужные знал (далеко не все, как стало очевидно после извержения Оливии), а вот произнести вслух никак не мог, будто горло тут же запиралось на ключ.
Зато у светловолосой девушки в ночной рубашке с этим никаких проблем не было. Сквозь многоступенчатые конструкции смысл просматривался с трудом, как старинный особняк сквозь строительные леса, но, когда Петя немного понял, о чём она говорит, ему стало ещё больше не по себе.
Это была история про какого-то поэта, который влюбился в Оленьку. То есть, в призрака. И в честь неё каждую осень, в аккурат на поэтическом фестивале, пытается покончить с собой, бросаясь из окон. Петя вспомнил кровавые ручьи, стекавшие по голому торсу поэта Базарова. Картинка была красивой, несмотря на жуть: красное на белом в обрамлении малинового. Прям Малевич.
– Ненавижу эту потустороннюю сучку… – Оливия треснула кулаком по полу. – Своими руками бы убила. Жаль, до меня постарались ребята.
– Подожди, – Петя потряс головой, чтобы кусочки паззла легли на свои места. – Ты что ли ревнуешь? Ты что ли его любишь? Этого декадента?
– Некрофила, ты хотел сказать. Конечно, нет. Я его ненавижу.
– Понятно, – неуверенно протянул Петя.
– Да ни черта тебе не понятно, – устало огрызнулась Оливия.
Петя опять почувствовал себя виноватым. И очень маленьким.
– Что же ты со стихами будешь делать? – участливо поинтересовался он, пытаясь загладить свою непонятную вину.
– Пфф! – Оливия снова закатила глаза.
Блин, опять мимо.
– Хотя, наверное, до завтра-то откроют…
– До завтра я новых напишу. Штук двадцать. Особенно, если кофе раздобыть. Ну, чего таращишься? Ты, наверное, считаешь, что поэзия – это святое, дар божий, вдохновение и прочее бла-бла-бла…
Петя поспешно замотал головой, хотя именно так и думал.
– Сейчас в моде такое говно, которое любой дурак может состряпать за пять минут. Немного секса, желательно нетрадиционного, главное без туманностей, называя вещи своими именами. Член так член, хули жаться, мы не в Институте благородных девиц. Потом добавляешь полстакана злобы дня, из новостей, чтоб всем понятно, но не прямым текстом. А сверху щепотку модных терминов, чтоб читатель почувствовал себя умным и избранным. Эйджизм, сексизм, полиаморность… знаешь, что это такое? Да обычное блядство. В общем, учись, пока я жива, телёнок. А то не будут ни печатать, ни на фестивали звать. Так и сгниешь в своей Пындровке. Или откуда ты такой припёрся, из Буя?
Оливия хрипло засмеялась, а потом вдруг завыла:
– Скууууууука, скука смертная… хоть бы кто пристрелил, как суку Оленьку…
Петя не знал, что сказать, и сказал, кажется, самое неподходящее:
– А тебе самой-то нравятся? Ну, те стихи, которые ты за пять минут пишешь? Про члены, новости и полиаморность?
Вместо ответа Оливия встала и вдруг, без объявления войны, одним быстрым движением стянула с себя ночнушку. Петя на секунду аж ослеп.
– Скука, – повторила она уже без надрыва. – Я знаю одно средство от скуки. Пойдём.
И Оливия лениво поплыла по коридору, волоча за собой по полу белую рубашку. Петя судорожно облизнул липкие от портвейна губы и вспомнил Настю.
Настя училась в параллельном, в запредельном «Бэ», как писал он в одном из стихов, посвященных ей. У Насти был такой голос, что Петю каждую перемену неудержимо тянуло подойти к ней и спросить какую-нибудь фигню. Настя отвечала, какую-нибудь ещё большую фигню, а он стоял, неприлично лыбясь, и слушал её голос – совсем взрослый, женский, обволакивающий. Потом он стал провожать её до дома и даже отважился, еле ворочая непослушным, как после заморозки, языком, прочесть несколько стихотворений…
И вот теперь, стараясь не смотреть и всё-таки немилосердно таращась на удаляющуюся в тусклую даль коридора Оливию, Петя впал в этический коллапс. Имеет ли он право? Не будет ли это изменой Насте?
«Нет, никогда, – с жаром выдохнул он и тут же, – Да, сейчас же!»
– Ну, ты идёшь или кого другого позвать? – не оборачиваясь спросила Оливия.
– Вообще-то, я… это… женат, – неожиданно для самого себя брякнул Петя.
Оливия расхохоталась на весь пансионат, как самая настоящая ведьма.
«Скажу, что заколдовала… этим… зельем поворотным…», – пронеслось в голове у Пети.
Девушка зевнула и потянулась. Петя чуть ли не бил себя по глазам, чтобы не смотреть. И всё равно смотрел.
– Пару раз поцеловались в подъезде – и уже женаты. А она ведь даже и не факт, что даст.
– Откуда ты…
– Да у тебя всё на лице написано, телёнок. Ладно, не уговаривать же тебя.
Она скользнула в один из номеров. Петя сам не заметил, как оказался на пороге, будто на монтаже кто-то вырезал за ненадобностью длинный путь по коридору.
«Нет-нет-нет! – строго сказал он себе, но рука сама толкнула дверь, как бы говоря. – Да! Да! Да!»
В номере было хоть глаз выколи, шторы задёрнуты, а снаружи ни одного фонаря. Петя уже с облегчением собрался дать задний ход, когда неведомая сила схватила его за ремень и втянула в глубь этой тьмы. Шаг, другой – он потерял равновесие и повалился на кровать.
Так ему сначала показалось. Но нет, под ним было живое, тёплое, мягкое. Он заметался, пытаясь скатиться куда-нибудь вбок, чтоб не раздавить, но его властно дёрнули вниз – так что он со всего размаху впечатался в то мягкое, что дышало под ним. И задохнулся.
Неведомая сила рванула ремень, звякнула пряжкой, вжикнула молнией. Петя не успел не то что помешать, даже сообразить, что происходит, как вдруг с ужасом почувствовал холодный сквознячок, гуляющий по его оголившимся ягодицам. Впрочем, на них тут же легла горячая ладонь, и ужас смешался с чем-то ещё, очень сильным, обжигающим, похожим на судорогу внизу живота.
Ладонь быстро переместилась вперёд, сжала, поёрзала туда-сюда, от чего судорога стала совсем уж нестерпимой, и Петя тихонько заскулил. Тем временем его опять куда-то потянули, и вокруг оказалась уже не ладонь, а что-то скользкое, горячее, пульсирующее. Оно качнулось навстречу, потом ещё и ещё, всё убыстряясь.
Судорога захлестнула мозг, и в мире не осталось ничего, кроме этой злой, бешеной, нарастающей скачки… Петя закричал, как от боли. Ему и в самом деле было больно, так невыносимо скрутило всё внутри. И вдруг судорога распустилась. Просто развязалась там в животе, точно по волшебству. Сведённые от напряжения мышцы моментально размякли, как сухарь в чае. Он ткнулся куда-то потяжелевшей головой, которую уже невозможно было держать на весу. И тут же отрубился, будто его засосало в чёрную дыру.
Когда Петя пришёл в себя, было уже утро. Сквозь слипшиеся веки пробивался тусклый свет. Он долго не мог заставить себя открыть глаза. Казалось, для этого нужны вилы, как Вию.
Наконец, поэт со стоном разлепил один глаз. И увидел рядом с собой на подушке лицо. Судя по тёмной щетине – мужское. Петя дёрнулся и треснулся затылком о железный бок кровати. Лицо медленно, тоже с явным трудом, приоткрыло глаз. Мутно-голубой, с розовым белком. Петя хотел убежать, но тело не повиновалось, а вот соседу по подушке удалось подняться и даже закурить, привалившись к стене. Это был мелкий пацан в растянутой тельняшке. Чем-то неуловимо похожий на гнома. Только без бороды.
– Я ночью пришёл, ощупал лица, вроде свои, – весело заговорил он. – Видать, ошибся комнатой. Или ты ошибся.
От этого бодрого голоса Петю замутило. Он осторожно повернул голову и огляделся. На трёх остальных кроватях лежали одетые мужские тела. Некоторые, кряхтя, шевелились, другие выглядели бездыханными. Оливии среди них не было.
«Может, померещилось?» – с надеждой и некоторым разочарованием подумал Петя.
– Портки-то натяни, чувак. Всё же тут не нудистский пляж, – дружелюбно посоветовал гном, выпуская дым в потолок.
Петя судорожно натянул джинсы – и аж вспотел от стыда.
– Твоё? – гном вытянул из-под Пети ночную рубашку Оливии.
Тот отчаянно замотал головой.
– Да не напрягайся ты так. Все свои. Выпить хочешь?
Петя нерешительно кивнул.
– И я хочу. А нету.
Гном зевнул, показывая чёрные дыры в зубах.
– Ты поэт? – зачем-то спросил Петя.
– Не-а, – гном с хрустом потянулся. – Крановщик. Тут же фестиваль крановщиков.
Через час Петя впервые читал стихи на публике. Никогда в жизни он ещё не чувствовал себя так погано — и физически, и метафизически. У него двоилось в глазах, голова плавала где-то отдельно от тела, как бестолковая рыба-шар из семейства иглобрюхих. Он пропускал строчки, ошибался в ударениях, неправильно интонировал, сам не понимая, что читает. Стихи рассыпались, как лопнувшие бусы. И то, что раньше казалось таким живым, превращалось в словесную труху, звуковую пыль, будто Петя был вывернутым наизнанку царём Мидасом.
К счастью, его никто не слушал. Хотя ещё вчера такого счастья Петя не пожелал бы и врагу. На последних рядах похмелялись, прикрывшись дипломатом. На первых — нервно шелестели бумагой, готовясь выступать. Только Оливия сидела, вытянув в проход длинные ноги (к счастью, в джинсах), и демонстративно хлопала, стоило ему на секунду замолчать.
Лучше бы тоже бухала за дипломатом, честное слово. Да ещё и стихи все, как назло, о любви... Но было ли любовью то, что происходило с ним раньше? Или, может, любовь – это то, что случилось сегодня ночью? Петя не знал.
Он вдруг очнулся и понял, что уже не читает. Стоит перед микрофоном и молчит, слепо глядя в дрожащий листок. До конца стихотворения оставалось ещё две строфы, но он больше не мог выдавить из себя ни звука. И уйти вот так – бесславно, на полуслове – тоже не мог. Шум в зале нарастал. Боже, какое позорище.
«Грядёт по гульбищу из ристалища на позорище» – некстати всплыл в голове обрывок какого-то школьного бреда. А кто там грядёт? Чудище? Уродище? Поэтище!
Внезапно рядом оказалась Оливия. Петя подумал, что она сейчас по-хозяйски схватит его за руку и стащит со сцены. Но она просто встала рядом и принялась молча пялиться в зал. С таким видом, будто только что прочитала какое-нибудь своё стихотворение про член, написанное за три минуты, – и теперь ждет реакции. Она стояла так близко, что иногда их руки соприкасались – и Петю бросало в жар, затмевавший даже претерпеваемое им позорище.
Кое-где в зале уже вспыхивали негодующие крики. Вдруг Дима-футурист вскочил, грохнув крышкой дипломата, и истово зааплодировал.
– Это гениально! – кричал он. – Концептуально! Минус текст! Молчание как жест! Чёрный квадрат поэзии! Кенотаф Артюру Рембо!
– Чушь собачья! Не морочьте людям головы своей мертворождённой постмодернистской ересью! – донеслось из другого угла.
– Мужчина, у вас в усах капуста! – завопил в ответ Дима с восторгом, достойным валькирии.
– Освободите сцену! Дайте выступить наследникам великой русской поэзии!
Петя не успел даже сглотнуть слюну, которой почему-то набежал полон рот, как в зале вспыхнула драка. Позорище превратилось в побоище. Поэты азартно хлестали друг друга тетрадями и папками. Просвистел над рядами испачканный в побелке дипломат. Больше всех усердствовал вчерашний неудавшийся самоубийца в малиновом пиджаке на голое тело. К сегодняшнему выступлению он принарядился: намотал на шею жёлтый шарф, выглядевший так, будто его хорошенько пожевал динозавр. Теперь за эту замызганную тряпицу его тянул некто в перекошенных очках, то и дело пронзительно выкрикивая:
– Не позволю осквернять святыню! Не позволю!
Оливия спрыгнула со сцены и пошла к выходу той же походкой маленькой сомнамбулы, что и вчера ночью. Спасибо, что не голышом. С неё бы сталось. Петя опять пустил слюнку, как в детстве перед витриной с запретными пирожными. И не отдавая себе отчёта в том, что делает, потащился следом за Оливией.
Она сидела на подоконнике в коридоре и повторяла, вжимая лоб в стекло:
– Скука-скука-скука-скука…
Петя нерешительно замер в двух шагах, судорожно перебирая в голове, что можно сказать в такой ситуации. На ум не приходило ничего адекватного. Неадекватного, впрочем, тоже.
Вдруг его с силой отшвырнуло в стену – будто цунами пронеслось. Петя успел только изумлённо моргнуть – а рядом с Оливией уже оказался малиновый пиджак. Один рукав у него был наполовину оторван.
Они одновременно заорали друг на друга. Она влепила ему пощёчину, он заломил ей руку. Петя моргнул ещё раз. А они уже сцепились, повалились на пол, покатились, продолжая вопить. Потом вдруг резко замолчали. В первую секунду Петя с ужасом подумал, что они пожирают друг друга. Но потом понял, что к чему, и облился жарким потом. Руки Оливии уже рвали ремень Базарова.
– Пойдём, не надо на это смотреть, – сказал Дима-футурист, беря его под руку.
– Маленький ещё, – ласково добавил Дима-гей и повис на другой руке.
И они вышли в парк.
Было бы хорошо, если бы история на этом и закончилась. Поэты, поблуждав немного, нашли свой путь в магазин. А потом долго и многословно прощались на обочине, поливая друг друга неудержимыми потоками стихов. Петя, счастливо улыбаясь и пошатываясь, махал рукой проносившимся мимо грязным фурам. Затем и оба Димы подключились к процессу. Они даже собрались ехать провожать его в заводской райцентр, где он жил… Но в остановившейся машине было только одно свободное место, и они долго бежали за ним по трассе, салютуя дипломатом и что-то неслышно крича… Свои, наконец-то свои… с которыми он больше никогда не встретился.
Можно было бы ещё добавить, что спустя несколько лет Дима-футурист стал иноком Дамаскиным, а Дима-гей уехал в Швейцарию (или Швецию?), где удачно вышел замуж (или женился?). Бритая Лена, так страдавшая по вороне, родила пятерых детей от разных, всегда любимых мужчин, и растит их одна в беспросветной нищете и раздолбанной хрущёвке, которую искренне украшает жуткими зверями, сделанными из пластиковых бутылок...
Но, к сожалению, эта история, уже почти забытая, однажды вдруг вынырнула из небытия и обрела ещё один непредвиденный финал. Заметно полысевший Петя, который уже много лет не писал ничего, кроме текстов про кровельное железо и итальянскую сантехнику, пил невкусное пиво в дешёвой забегаловке.
На железной подставке надрывался телевизор, замотанный, как в боа, в пыльную золотую гирлянду, от которой всё вокруг становилось ещё гаже и безнадёжнее. На экране мелькали кадры местных новостей. Петя рассеянно и печально смотрел на картинки из областного центра, куда когда-то ездил на поэтический фестиваль. Первый и последний в своей жизни, которая повернулась куда-то не туда. Ну да сколько можно об этом… И вдруг на экране возникло расплывшееся, но вполне узнаваемое лицо поэта Базарова. Уже без малинового пиджака, в обычной чёрной куртке.
Петя лениво прислушался. «Член областного отделения союза писателей, автор нескольких книг». Петя уже почти переключился на свою привычную пластинку: «Все состоялись, а я…» Но тут ухо уловило нечто странное. «С особой жестокостью… сам сдался полиции…» Петя даже забыл, что собирался пострадать.
«Базаров был женат, имел двоих детей, – рассказывала блондинка с ярко красными губами. – Но недавно встретил свою юношескую любовь. И страсть вспыхнула с новой силой. Когда же он узнал, что партнёрша ему изменяет…»
«Почему все дикторши на областном телевидении изъясняются и выглядят, как доярки?» – поморщился Петя и пропустил следующую фразу, а потом и все остальные.
Он умел хорошо защищаться от того, что могло задеть. Но несколько слов, как калёные стрелы, влетели-таки в высокий терем сквозь закрытое окно. «Забил до смерти», «состояние аффекта» и «десять лет строгого режима». Петя потряс головой, но слова было уже не вытряхнуть.
Хуже того. Перед глазами тут же возникла Оливия, которую он почти никогда не вспоминал. Вот она идёт, волоча по полу ночную рубашку. Вот молчит, стоя вместе с ним перед полным залом. Петя вдруг явственно вспомнил жаркое ощущение от прикосновения её плеча. И опять облился потом, как тогда, в 16 лет. Давно он не чувствовал себя таким живым. И таким несчастным.
«Да, может, это и не она, его юношеская любовь. Сколько у такого человека могло быть юношеских любовей. Тысяча и одна, не меньше».
Но как он ни тряс головой, как ни уговаривал себя, как ни глотал кислое пиво – всё равно видел только одно: белое девичье тело, уплывающее в тусклую коридорную даль.
«Конечно, нет. Я его ненавижу»... «Полиаморность… да обычное блядство»… «учись, пока я жива, телёнок»… «сгниёшь в своей Пындровке»...
«А ведь и сгнил, – думал он, разглядывая свою кислую мину в третьей кружке, – но ты-то… с тобой-то… тебя уже вообще… закопали…»
Его мутило. К горлу вместе с пивом подкатывал ком непереваренного ужаса. В телеке дёргались под музыку блестящие кукольные тела. Тело Оливии светилось в конце тоннеля…
Домой он вернулся измученным, зарёванным, продрогшим. Почти ожившим.
И даже был уверен, что сейчас напишет стихи. Но не написал, конечно. Просто упал на продавленный диван – и тут же отрубился.
Ему ничего не приснилось.



