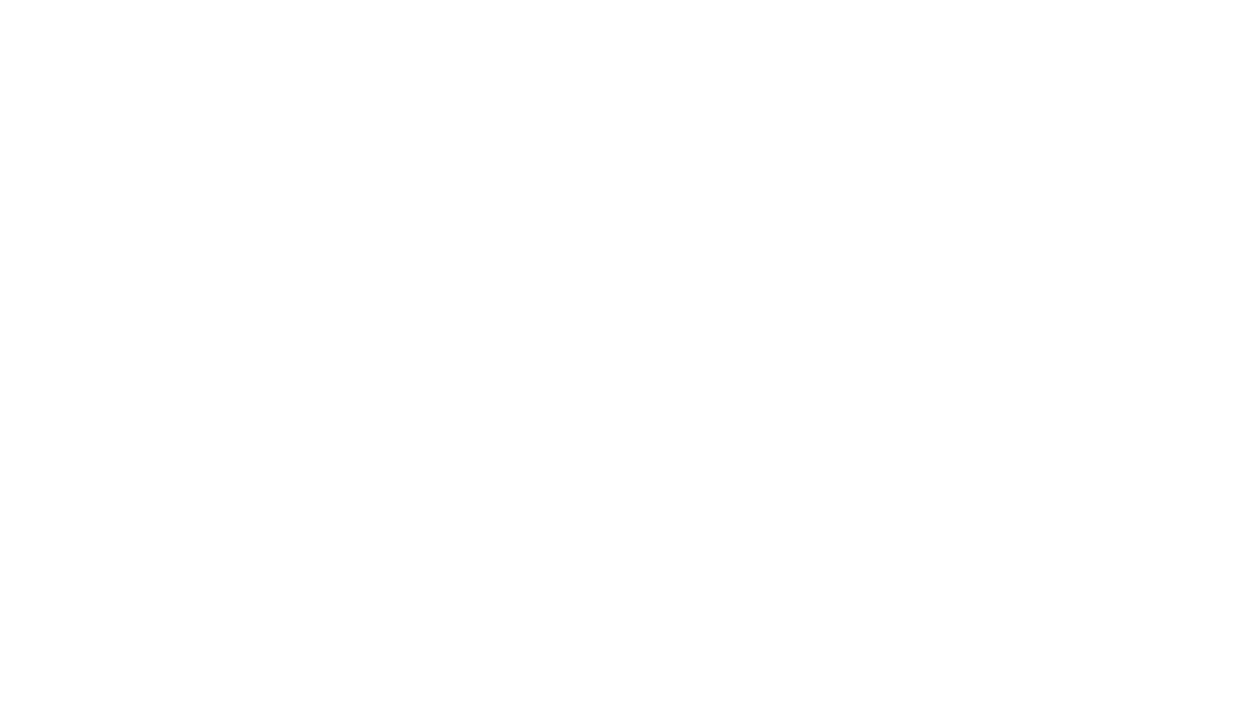
Игорь Корниенко — Развилка
Игорь Корниенко (род. в 1978 году) — прозаик, драматург. Родился в городе Баку Азербайджанской ССР. Получил образование слесаря-ремонтника третьего разряда. Член Союза писателей России. Живёт в Ангарске. Произведения публиковались в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Октябрь», «Москва», «День и ночь» и др., в газетах «Культура», «Литературная Россия».
С каждым новым днем отец все яростней ненавидит поселок. Его улицы, выметенные с раннего утра оранжевыми человечками, пахнущими потом и перегаром. Лицемеров из двухэтажных домов, нуждающихся в капитальном ремонте. Ненавидит деревья с корявыми, торчащими, словно пальцы больных артритом, ветками. Ненавидит собак, их здесь все больше. Птиц, особенно сорок. Он уверен: сороки всё видели. Те, что живут в лесочке у развилки. Их гнездо наблюдательным пунктом возвышается над поселком.
После случившегося отец следил за птицами: в окрестностях гнезда постоянно орали птенцы и хозяйничали две взрослые сороки. Отгоняли тех кошек, что наведывались из общежитий по соседству, и наглых, прожорливых ворон, не брезгующих полакомиться птенцами сородичей.
— Сороки знают, — бубнил.
Он бубнил с детства, тихо, под нос, недовольный всем на свете, возмущался и скрипел зубами. Над ним подшучивали, называли ворчуном, запугивали: «Все зубы съешь, беззубым ходить будешь». Ругали. Отучить не смогла и жена. Сумела — дочка. Заявив как-то по дороге в детсад, что он похож на Гришку Буку-бубуку из их группы, который ест свои козюльки, и что она не любит Гришку.
Отец сделал соответствующие выводы и с того дня позволял себе поворчать под шум воды в ванной, принимая душ после работы. А если начинал, забываясь, при домашних — мастерски импровизировал, превращал привычку в милую беседу с шутками и смехом.
В их семье любили смех. Подкалывать друг друга и даже обзываться невинными, безобидными обзывалками, которые придумывали на ходу. Кто только не обитал в семье Крапивиных: Мата-батата, Кукуня-засуня, Горлодёрик, Не-смею-не-тревожу, Хрюньделеподобный Хохотун... Еще были замечены: Брыси, Тапочкины Ножки, Обрыдалки, всяческие Улыбаки, Скоропобежалки и другие им подобные...
Теперь привычка вернулась: отец бубнил снова. Громко разговаривал сам с собой, спорил, ругался, кричал. Плакал. Ненавидел.
Не сразу пришло это чувство — мизантропия, презрение, жажда мести? Отец желал смерти всем. Начиная с сорок, трещащих без конца под окном, и паршивых собак. Он и не думал, что возможно так ненавидеть. До дрожи в пальцах изводиться мыслью придушить любого, кто скажет, что он не должен так изводиться. Что жизнь продолжается.
— Да, — говорит отец, — скажи мне сейчас, чтобы я успокоился или прекратил поиски, — и я зубами вырву кадык у тебя из глотки. Буду бить ногами. Буду крушить. Убивать.
Окно бывшей спальни — его наблюдательный пункт в квартире на втором этаже кирпичного дома рядом со школой. Напротив железная дорога, по которой мотаются составы с грузами для заработавшего цементного завода; дальше лесок с гнездом сорок. Направо развилка. Дорога раздваивается куриной дужкой, отрезая островок — горсть старых деревянных стаек и гаражей, отдельную от поселка республику, прозванную поселковыми Аляской. Всё как на ладони. Летом не спрятаться от любопытных глаз, глядящих из настежь распахнутых окон, от шепотков с забитых стариками и пьяной молодежью скамеек...
Дни растворились в том дне. Его он помнит до секунды, до черточки, до капли, до вздоха. Зато не может вспомнить, что ел вчера и ел ли вообще. Перечитывает страничку в паспорте, ту, что с графой «дети». Снова и снова — про себя и вслух. Как молитву.
Мать слезно уговаривала сходить в церковь, начать молиться и этим спасаться.
— Надо приходить в норму, — говорила. — В себя.
Он сжимал кулаки до кровавых отметин на ладонях.
— Я услышал, мама, — отвечал. — Достаточно уже одной молящейся сумасшедшей.
— Ты так о Люде? О жене? Мать твоего ребенка, между прочим...
Всхлипывания переходят в плач. Сейчас все заканчивается так. Слезами.
Первые дни после последнего дня Павел пытался не отдаляться от жены. Вместе переживать трагедию. Людмила же решила отходить от беды сама — повязав голову косынкой и пропадая с рассвета до заката в церкви Святой Троицы на другом конце города.
— Молитвами отмолим доченьку, — шептала она и крестилась.
И больше не делила с ним постель, начала соблюдать посты и все церковные праздники и даже порывалась дать обет молчания.
— Это моя жертва (она перестала называть его по имени, заметил Павел), я отдам свой голос и буду молиться о спасении души дочки.
Она повторяла и повторяла про спасение души, а он с трудом сдерживался, чтобы не ударить.
— Наша дочь жива, — твердо сжимая зубы. — Свою душу спасай!
— Если бы и ты к Богу обратился, было бы намного быстрее...
— Быстрее — что?
Она складывала ладони в молитвенном жесте:
— Упокоение души доченьки нашей Светочки.
Павел еле сдержался, ногтями впиваясь в собственную плоть. Он представил, как кулак врезается в лицо жены, прямо между глаз, увидел, как кровь брызжет из разбитого носа, и она опрокидывается назад...
— Ненавижу, — скрипит зубами. — Иди к своему Богу, и пусть он уже делает свою работу! Помогает нуждающимся и верующим в него!
— Отец Савватий говорит, что если пропавшего не находят в течение нескольких дней, то уже не найдут никогда.
Он замахивается:
— Клал я на твоего отца Савватия!
Людмила падает на колени и кричит, мотая головой. Волосы прилипли к вспотевшему лицу, рот перекошен, в глазах пустота. Он не узнает женщину у него в ногах: это не его жена.
Она кричит:
— Давай уже уверуем, и истина сделает нас свободными!
«Раз, два, три, четыре...» — отсчитал про себя до десяти Павел и тихо сказал:
— Это твоя жертва, Люда, так иди и молись. Моя жертва в другом.
— В другом? В чем же?! — Визг и слезы. — Ждать? Ждать у моря погоды и надеяться? Надеяться, что ее найдут?.. Не! Най! Дут!
Жена странным образом меняется: она больше не плачет, смотрит отрешенно сквозь него. Не моргнет, лишь губы шепчут:
— Богородица, Господь с тобой...
— Вот иди и молись! — заканчивает разговор Павел. — Иди и молись.
— Людмила пошла дорогой Бога, выбрала свое спасение в служении Ему, — говорит по-женски мягко мужской голос в наушнике сотового. — Я готов помочь и вам, Павел Дмитриевич. В нашей церкви есть место всем заблудшим и страждущим душам. Я гарантирую: вы начнете новую жизнь...
Павел Дмитриевич брезгливо смотрит на телефон в руках, словно тот ожил и обратился в нечто противное:
— Ты кто вообще?! Бог, что ли? Христос, может? Себе помоги!
Сороки прознали его страх. Страх мужчины. Отца. Они трещали смело над ним, хохотали по-человечьи, гавкали по-собачьи. Прогоняли со своей территории. Павел пригибался, уворачивался от черно-белых вспышек, мелькающих перед глазами.
Он искал в высокой траве ответы. Но в лесочке хозяйничали сороки. Вооруженный бесполезной палкой человек капитулировал.
— Что вы прячете? — закричал однажды и швырнул палку в сторону гнезда.
Сороки завыли пожарными сиренами.
— Что скрываете?!
Раз приснилось: сороки заговорили. Прострекотали, что помогут найти дочь. Для этого нужно лишь принести им самое ценное, самое дорогое.
— Отдам все, что есть, — говорит отец. — Вам нравится золото? Будет золото. Принесу. У жены этого барахла...
— Самое ценное! — кричала сорока.
— Самое дорогое! — вопила вторая.
— Бесценное! Дороже золота! Дороже собственной жизни! — перебивая друг друга.
— Дороже жизни?.. — У отца был один ответ: — Дочка.
— Неси дочь, неси дочь, неси дочь!
Сотней голосов разверзлось небо, сороки взорвались на клочья и перья, и тысячи тысяч сорок своей чернотой скрыли небо и солнце.
— Неси дочь!..
Сон повторялся. Он боялся этого сна. Боялся сорок.
В детской Людмила сделала молельню. Сняла фотографии дочери. Павел не спорил, молча забрал снимки в радужных винтажных рамках со стразами, бабочками, приютив их в спальне, своем наблюдательном пункте.
Вместо фотографий жена повесила иконы. Если бы Павел подсчитал, он удивился бы их количеству. Икон разве что на полу не было.
— На поиски пропавшего ребенка вышли взрослые, подростки и даже дети поселка Кирпичный, — сообщала диктор местного телевидения в программе новостей. — Поисковые работы велись вплоть до наступления темноты. С утра водолазы проверили дно карьера. Пока никаких следов девочки не обнаружено...
Сосед Крапивиных, известный под прозвищем Бухарин из-за болезненного пристрастия к выпивке, тоже отправился на поиски, прихватив с собой пару флаконов с настойкой боярышника.
— Без дизеля никак, — делился он со всеми, кто соглашался слушать. — Я всю жизнь на этом топливе — и никаких болячек, живее всех живых.
Когда на дне второго «фанфурика» осталось на полпальца, Бухарин решил отдохнуть под забором Аляски.
— Прилег, значит, обмозговать дальнейший ход событий, — рассказывал он тем же вечером собутыльникам на скамейке возле печально известного теперь дома.
Иногда он любил ввернуть заковыристое выражение, называя это замашками бывшего работника культуры. Бухарин два месяца проработал в поселковом клубе «Дружба» сторожем.
— Прилег в тенечке, но так, чтоб дорогу видно было, мало ли. И вдруг, откуда ни возьмись, женщина. Не простая, а вся в сияние окутанная, и одежды и нимб над головой светятся, как солнце, а сама босая и идет по траве высокой, а трава не гнется под ней. Копия точь-в-точь Богородицы, с иконы сошедшей.
Слушатели разинули рты, верующие креститься стали, а Бухарин продолжил:
— А за руку эта Дева Мария девочку ведет с сумочкой в форме сердца через плечо. И тоже точно копия девочки из седьмой квартиры. Те же волосы рыжие кругляшами, веснушки, и одета как по описанию. — Тут рассказчик показал пальцем в сторону развилки: — Вон там, за рельсами, левее Аляски. И запахло вокруг сразу не по-земному как-то — чистотой, свежестью. Дева Мария девочку по головке гладит, а под девочкой трава тоже не гнется. Я так и замер, шевельнуться не могу. А они вдруг огнем вспыхнули и пропали, лишь голос остался, как всхлип, и завоняло, будто болотом или канализацией. И меня как прошибло током, и сразу на ноги кто поставил, а голос в голове женский говорит: «Ищи нас в колодце».
Отец услышал эту историю вторым. Первым же человеком, с кем вестью о чудесной встрече поделился Бухарин, была Люда. Как чувствовал, что женщина даст ему на бутылку.
Павел на водку не дал, дал пинка и вышвырнул за дверь:
— Протрезвей хоть раз в жизни, а то сдохнешь и не узнаешь, что сдох!
Возмущению обиженного соседа не было предела.
— А ведь тихий был, мухи не обидит, — жаловался на скамейке. — Не матерился, добрейшей души человек. А смотрите, что стало. В зверюгу бессердечного превратился. Будто я, что его дочь пропала, виноват...
Людмила позже попросит Бухарина показать то место, и ее не раз будут видеть стоящей на коленях в высокой траве.
«Ищи в колодце» — единственное, что зацепило отца в бреднях старого алкоголика, и Павел облазил все канализационные люки в поселке до центральной железной дороги.
Полиция, по словам все той же дикторши, делала все от нее зависящее. «На поиски брошены отделения ГИБДД, задействованы военнослужащие двух воинских частей и сотрудники МЧС».
Через неделю поиски прекратят, и местная газета «Вечерняя среда» окрестит ЧП так: «Исчезновение в Международный день защиты детей». Первополосный материал с фотографией семилетней Светы Крапивиной еще какое-то время будет мелькать перед глазами поселковцев, но на третью неделю триста пятьдесят гектаров горящего леса займут новостную ленту.
И только отец будет продолжать искать. С первыми лучами солнца и до темноты. Сначала Павел напишет заявление об отпуске за свой счёт, а месяц спустя совсем уволится.
Отец искал и во сне. Бродил по знакомым до желудочных спазмов, до сердечных схваток и зубной боли местам: по развилке, вокруг Аляски, в овраге под железнодорожным виадуком. Искал под ликование сорок. Искал и всегда находил красную резинку для волос с двумя ягодками-малинками, а иногда сумочку в форме сердечка: они купили ее в тот самый день.
Сердце отца где-то на дне затаило, зарубцевало ощущение потери.
— Дочь жива, — от двери к окну. — Жива. И я найду ее!
До конца лета оставалась неделя. Первого сентября Света должна была пойти в первый класс.
— Должна. — Павел в тысячный раз брел мимо железнодорожного полотна и бубнил. — Должна — и пойдет!
Глаза его всегда опущены, высматривают следы, а тут словно что окликнуло. Взглянул вверх отец и на насыпи из камней увидел красное пятнышко. Остановило бой сердце отца. На карачках, царапая ладони об острые камни, забрался на насыпь и не поверил глазам: сумочка дочери, будто только что купленная! Схватил находку, прижал к груди. Оглядываясь, позвал дочь по имени. Сперва тихо позвал, потом громче и, наконец, закричал.
Крик разорвал пузырь реальности. Он увидел, как из знойного, вибрирующего от испарений эфира прямо по железнодорожным путям бежит его девочка, смеется и подпрыгивает. В том же белоснежном сарафане в цветочек, с сумочкой в форме сердечка...
Открыл сумочку Павел — пусто. Да и цвет вблизи не таким красным кажется. Не красный, а бордовый какой-то, и не помнит отец, чтобы снаружи на сумочке был кармашек.
Положил назад — как сердце оторвал — на камни. Спустился и не удержал слез. Здесь, в лесопосадке, почти в трех километрах от поселка, он часто себе это позволял. Заходил в гущу деревьев, прислонялся к стволу, тихо плакал, вгрызаясь ногтями в кору дерева до крови, до стона.
— Похитители бы давно объявились, — строили предположения в поселке. — Выкуп запросили или еще чего...
— На органы сейчас детей продают за границу, — пугали своих непослушных отпрысков родители. — Особенно тех, которые допоздна шляются, в лапту играют...
— Аляска утащила бедняжку. Проснулась, видать, проголодалась — и съела, — шептались старухи.
Только всех пропавших в Аляске рано или поздно находили. Один упал в погреб, сломал ключицу — тело нашли через неделю по запаху; другая скрывалась от мужа в заброшенной стайке два месяца; а третий по пьяни не смог выбраться из картофельной ямы.
— Аляска, Аляска, отдай что забрала, — шептала бабка-знахарка.
Ее привела в квартиру мать Павла, строго-настрого велела сыну слушать, не перебивать. Знахарка баба Римма таращилась слепо в карты, потом в тарелку с водой. Держала отца за руки.
— В твоем сердце стучит и ее сердце. Сердце дочери, — говорила.
Смотрела фотографию Светланы, жгла над ней спички.
— Не вижу ее среди мертвых. Тепло от снимка идет. Живая, значит. И в колодце не вижу, не в плену она. Но и нет в ней ощущения свободы. Слышу, как шумит ветер, но не чувствую его дыхание на себе. Так деревья на ветру колышутся и трещат. Всё раскачивается, как на качелях, и много разных голосов странных: птичьих, животных...
Павел вцепился в край кухонного стола, и стол затрясся, когда он услышал:
— Вера творит чудеса, молитва.
— Пятьсот икон! Пятьсот, если не больше, — это разве не молитва?!
Людмила в комнату дочери принесла не все иконы. Некоторые так и лежали в разноцветных пакетах под кроватью. И в прихожей, в «тещиной», в шкафу с обувью, между зимней одеждой — везде освященные иконы.
— А что остается, если не молитва? — продолжала настойчиво баба Римма, а Павел скрипел зубами:
— Ненавижу.
— Смирение, а не гордыня — вот что поможет обрести душевный покой.
Он перевернул бы стол на гостью, если бы ни мать.
На прощание, стоя в дверях, знахарка вдруг сказала:
— Ненавидь больше, сынок! Если не молитва, то ненависть поможет выжить и найти ответы. Ненавидь, дорогой. Ненавидь сильней, крепче. Всех!
Мать посмотрела на старушку, потом на Павла. Развела обессиленно руками:
— Да что вы такое говорите? Его же злоба эта погубит...
Баба Римма продолжала:
— И в следующий раз, как над тобой пролетит сорока, сынок, не поленись, брось в нее что под руку попадется, камень брось и скажи: «Несчастье птице, что летит против хода солнца».
Павел кивнул: старуха знала о сороках.
— А икона без веры, без молитвы — так, картинка, украшение... — закрыла она дверь за собой.
— Совсем сдурела бабка, — возмущенно хлопнула в ладоши мать. — Сороку еще зачем-то приплела. А я ей риса отборного и гречки дала — думала, дельное что скажет, поможет.
Сын поцеловал мать в голову:
— Жива.
Жена почти держала обет молчания, говорила только по делу, коротко. Перед первым сентября сказала, что уйдет в монастырь.
Павел ответил:
— Угу, и иконы с собой прихвати. Я Светину комнату в прежний вид завтра приведу.
Людмила захотела что-то спросить, может, возразить, но остановилась среди зала и молча хлопала глазами.
— Желательно прямо сейчас начать собирать их, чтобы я с утра все в порядок у нее привел. Ей не понравится такое... — он не мог подобрать нужного слова, — такое... такой бардак. Я фотографии еще новые напечатал — они ей точно понравятся, Светотусе-болтусе.
Закрыв лицо руками, жена пропищала что-то, пошла послушно собирать иконы.
Настало первое сентября. Пасмурно. Из тревожного сна — в такое же неспокойное утро с моросящим дождем и страхом неуверенности.
Ненавистные сороки кричат в ненавистных деревьях, празднуют.
К девяти часам нарядные школьники потянулись мимо его наблюдательного пункта к школе. Замелькала школьная форма черно-белой пестротой, завертелись в первом вихре осени банты, шары, листья...
Дождавшись, когда жена уйдет в церковь к заутрене, вымыл полы в квартире, расставил в комнате дочери фотографии и плюшевые игрушки, развесил по стенам Светины рисунки.
Акварелью расплылось по альбомному листу счастливое, тогда еще улыбающееся семейство. На карандашных рисунках всяческие придуманные существа. Добрые и веселые стражники семейного счастья: Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг, Ночнушка-хохотушка, Звончепух и королева королев Помадка — все из семейства «улыбак», с широкими, в форме рогатого месяца, улыбками и звездами вместо глаз.
Закончил Павел под доносящуюся со школьного двора песню «Первоклашка». И на удивление самому себе начал подпевать:
Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник!
Он серьезный и веселый —
Встреча первая со школой!
Вышел из подъезда с бумажным свертком под последние аккорды песни, знакомой с детства, прошел мимо школы и — через рельсы, твердым, уверенным шагом к месту из сегодняшнего сна. Пророческого сна.
Жертва у каждого своя. И сами мы тоже жертвы.
Бухарин вышел следом, а вечером на скамейке будет клясться всеми святыми и мамой, что Павел шел, как та Дева Мария с девочкой, по верхушкам травы и трава под ним не гнулась.
Людмила купила последнюю иконку в киоске при храме. В тот самый момент Павел подошел к березе под истошный крик сорок. Птицы вели себя злее обычного. На макушке дерева — шарообразное гнездо. Птенцы давно встали на крыло, но далеко от дома не улетали. Павел все эти месяцы наблюдал и все больше их ненавидел, мечтая превратить в кровавую кашу.
— Сорока-белобока кашу варила (развернул сверток), деток кормила (газета упала под ноги), этому дала (поднял топор над головой), этому дала (птенцы присоединились к атакам родителей, смело наскакивали) и этому дала (лезвие, занесенное над стволом, отбросило солнечный зайчик в тень травы), этому тоже дала (отмахиваясь левой рукой от пернатых), а этому не дала!
Жертвы бывают разные. Но жертва необходима. Чтобы вернуть потерянное, нужно жертвовать. И чем крупнее жертва, тем больше шансов обрести утраченное...
Удар.
Он увидел жену, постриженную в монахини, молящуюся на коленях перед пылающим в свете тысяч свечей алтарем.
Топор легко пронзил мягкую, податливую плоть березы.
Отец замахнулся во второй раз. Сороки над головой взорвались небесным громом.
Удар.
Увидел себя под виадуком у железной дороги. Он знает, что надо делать, и нагибается над рельсами.
Увидел поезд Улан-Удэ — Москва, как он на всей скорости сходит с рельс в том самом месте, где нашлась сумочка, похожая на дочуркину. Кровь окрасила черные камни красным, под цвет его боли. Крики и стоны людей из перевернутых, искореженных вагонов перебили гвалт сорок.
Береза покосилась, затрещала, подраненная, осыпала человека листвой.
В третий раз лезвие сверкнуло молнией и ударило в дерево, в свежую рану. Со стоном и треском завалилась срубленная береза. Сорочье гнездо рассыпалось на веточки и щепки.
Отец оглянулся, посмотрел на развилку: по ней сейчас должна идти, прискакивая, его дочь в белоснежном сарафане, с сумочкой в форме сердца. Они, правда, опоздали на школьную линейку, но это не беда. Зато успеют переодеться и прийти как раз к классному часу и чаепитию для первоклашек. Его решили устроить родители — сбросились, купили сладостей, сделали торт на заказ...
Но развилка пуста. В точности как в тот день, последний день семьи Крапивиных.
В тот день втроем сходили в магазин, решили побаловать себя тортом-мороженым и купили Свете сумочку-сердце: очень уж ей приглянулась.
На обратном пути дочка у развилки предложила:
— Давайте кто быстрей? Вы с мамой по одной стороне развилки, я по другой дороге. Кто придет первый — тот и победитель. Тому самый большой кусок!
Разошлись. Девочка долго махала родителям, пока не скрылась за забором Аляски.
Больше они ее не видели.
Первые пять минут ждали ее появления, всматривались в пустую дорогу. Потом отец сбегал проверил квартиру. Повторил путь дочери, обежал на сто кругов Аляску.
Ни следа. Одни сороки тарахтят над ухом, смеются.
Людмила начала плакать. Торт-мороженое таял в ее руках, капал на землю...
Со стороны Аляски подул пронизывающий, холодный ветер, запахло словно перцем и кровью. Снова заморосило.
Павел уронил топор. Сорок не видно и не слышно, будто не было никогда, а гнездо всего лишь кучка веток, скорлупы и...
Сначала увидела душа, потянулась... Отец нагнулся и поднял под тарабание сердца красную резинку для волос с ягодками-малинками. Сжал в ладони, поднес к губам.
Света любила, когда папа кормил ее: он протягивал ей самую крупную малину, и дочь ловила ее губами, а вместе с ягодой кусала его за пальцы. Они смеялись до слез...
Не чувствуя, не видя, не дыша, вернулся в квартиру. Без мыслей, без чувств, без воспоминаний. То, что столько месяцев утаивал от самого себя, прорезалось, вытекло черной кровью. Потекло по разбитым об стены кулакам, побежало из глаз по щекам за ворот, хлынуло из сердца, перелилось через край, через горло...
Он спал и вот проснулся, круша в комнатах, в ванной и на кухне все, что стало теперь ненужным, лишним.
Не тронул детскую. Комнату дочки. Место, куда он не может не вернуться.
И он вернулся.
Сел на кровать в окружении ее любимых игрушек, фотографий в ажурных рамочках и стразах. Сел, снова и снова прикладывал к губам пластмассовые красные ягоды, словно целуя, словно пробуя на вкус, и тихо, вполголоса позвал на помощь:
— Звончепух, Помадка, Горлодёрик, Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг...
После случившегося отец следил за птицами: в окрестностях гнезда постоянно орали птенцы и хозяйничали две взрослые сороки. Отгоняли тех кошек, что наведывались из общежитий по соседству, и наглых, прожорливых ворон, не брезгующих полакомиться птенцами сородичей.
— Сороки знают, — бубнил.
Он бубнил с детства, тихо, под нос, недовольный всем на свете, возмущался и скрипел зубами. Над ним подшучивали, называли ворчуном, запугивали: «Все зубы съешь, беззубым ходить будешь». Ругали. Отучить не смогла и жена. Сумела — дочка. Заявив как-то по дороге в детсад, что он похож на Гришку Буку-бубуку из их группы, который ест свои козюльки, и что она не любит Гришку.
Отец сделал соответствующие выводы и с того дня позволял себе поворчать под шум воды в ванной, принимая душ после работы. А если начинал, забываясь, при домашних — мастерски импровизировал, превращал привычку в милую беседу с шутками и смехом.
В их семье любили смех. Подкалывать друг друга и даже обзываться невинными, безобидными обзывалками, которые придумывали на ходу. Кто только не обитал в семье Крапивиных: Мата-батата, Кукуня-засуня, Горлодёрик, Не-смею-не-тревожу, Хрюньделеподобный Хохотун... Еще были замечены: Брыси, Тапочкины Ножки, Обрыдалки, всяческие Улыбаки, Скоропобежалки и другие им подобные...
Теперь привычка вернулась: отец бубнил снова. Громко разговаривал сам с собой, спорил, ругался, кричал. Плакал. Ненавидел.
Не сразу пришло это чувство — мизантропия, презрение, жажда мести? Отец желал смерти всем. Начиная с сорок, трещащих без конца под окном, и паршивых собак. Он и не думал, что возможно так ненавидеть. До дрожи в пальцах изводиться мыслью придушить любого, кто скажет, что он не должен так изводиться. Что жизнь продолжается.
— Да, — говорит отец, — скажи мне сейчас, чтобы я успокоился или прекратил поиски, — и я зубами вырву кадык у тебя из глотки. Буду бить ногами. Буду крушить. Убивать.
Окно бывшей спальни — его наблюдательный пункт в квартире на втором этаже кирпичного дома рядом со школой. Напротив железная дорога, по которой мотаются составы с грузами для заработавшего цементного завода; дальше лесок с гнездом сорок. Направо развилка. Дорога раздваивается куриной дужкой, отрезая островок — горсть старых деревянных стаек и гаражей, отдельную от поселка республику, прозванную поселковыми Аляской. Всё как на ладони. Летом не спрятаться от любопытных глаз, глядящих из настежь распахнутых окон, от шепотков с забитых стариками и пьяной молодежью скамеек...
Дни растворились в том дне. Его он помнит до секунды, до черточки, до капли, до вздоха. Зато не может вспомнить, что ел вчера и ел ли вообще. Перечитывает страничку в паспорте, ту, что с графой «дети». Снова и снова — про себя и вслух. Как молитву.
Мать слезно уговаривала сходить в церковь, начать молиться и этим спасаться.
— Надо приходить в норму, — говорила. — В себя.
Он сжимал кулаки до кровавых отметин на ладонях.
— Я услышал, мама, — отвечал. — Достаточно уже одной молящейся сумасшедшей.
— Ты так о Люде? О жене? Мать твоего ребенка, между прочим...
Всхлипывания переходят в плач. Сейчас все заканчивается так. Слезами.
Первые дни после последнего дня Павел пытался не отдаляться от жены. Вместе переживать трагедию. Людмила же решила отходить от беды сама — повязав голову косынкой и пропадая с рассвета до заката в церкви Святой Троицы на другом конце города.
— Молитвами отмолим доченьку, — шептала она и крестилась.
И больше не делила с ним постель, начала соблюдать посты и все церковные праздники и даже порывалась дать обет молчания.
— Это моя жертва (она перестала называть его по имени, заметил Павел), я отдам свой голос и буду молиться о спасении души дочки.
Она повторяла и повторяла про спасение души, а он с трудом сдерживался, чтобы не ударить.
— Наша дочь жива, — твердо сжимая зубы. — Свою душу спасай!
— Если бы и ты к Богу обратился, было бы намного быстрее...
— Быстрее — что?
Она складывала ладони в молитвенном жесте:
— Упокоение души доченьки нашей Светочки.
Павел еле сдержался, ногтями впиваясь в собственную плоть. Он представил, как кулак врезается в лицо жены, прямо между глаз, увидел, как кровь брызжет из разбитого носа, и она опрокидывается назад...
— Ненавижу, — скрипит зубами. — Иди к своему Богу, и пусть он уже делает свою работу! Помогает нуждающимся и верующим в него!
— Отец Савватий говорит, что если пропавшего не находят в течение нескольких дней, то уже не найдут никогда.
Он замахивается:
— Клал я на твоего отца Савватия!
Людмила падает на колени и кричит, мотая головой. Волосы прилипли к вспотевшему лицу, рот перекошен, в глазах пустота. Он не узнает женщину у него в ногах: это не его жена.
Она кричит:
— Давай уже уверуем, и истина сделает нас свободными!
«Раз, два, три, четыре...» — отсчитал про себя до десяти Павел и тихо сказал:
— Это твоя жертва, Люда, так иди и молись. Моя жертва в другом.
— В другом? В чем же?! — Визг и слезы. — Ждать? Ждать у моря погоды и надеяться? Надеяться, что ее найдут?.. Не! Най! Дут!
Жена странным образом меняется: она больше не плачет, смотрит отрешенно сквозь него. Не моргнет, лишь губы шепчут:
— Богородица, Господь с тобой...
— Вот иди и молись! — заканчивает разговор Павел. — Иди и молись.
— Людмила пошла дорогой Бога, выбрала свое спасение в служении Ему, — говорит по-женски мягко мужской голос в наушнике сотового. — Я готов помочь и вам, Павел Дмитриевич. В нашей церкви есть место всем заблудшим и страждущим душам. Я гарантирую: вы начнете новую жизнь...
Павел Дмитриевич брезгливо смотрит на телефон в руках, словно тот ожил и обратился в нечто противное:
— Ты кто вообще?! Бог, что ли? Христос, может? Себе помоги!
Сороки прознали его страх. Страх мужчины. Отца. Они трещали смело над ним, хохотали по-человечьи, гавкали по-собачьи. Прогоняли со своей территории. Павел пригибался, уворачивался от черно-белых вспышек, мелькающих перед глазами.
Он искал в высокой траве ответы. Но в лесочке хозяйничали сороки. Вооруженный бесполезной палкой человек капитулировал.
— Что вы прячете? — закричал однажды и швырнул палку в сторону гнезда.
Сороки завыли пожарными сиренами.
— Что скрываете?!
Раз приснилось: сороки заговорили. Прострекотали, что помогут найти дочь. Для этого нужно лишь принести им самое ценное, самое дорогое.
— Отдам все, что есть, — говорит отец. — Вам нравится золото? Будет золото. Принесу. У жены этого барахла...
— Самое ценное! — кричала сорока.
— Самое дорогое! — вопила вторая.
— Бесценное! Дороже золота! Дороже собственной жизни! — перебивая друг друга.
— Дороже жизни?.. — У отца был один ответ: — Дочка.
— Неси дочь, неси дочь, неси дочь!
Сотней голосов разверзлось небо, сороки взорвались на клочья и перья, и тысячи тысяч сорок своей чернотой скрыли небо и солнце.
— Неси дочь!..
Сон повторялся. Он боялся этого сна. Боялся сорок.
В детской Людмила сделала молельню. Сняла фотографии дочери. Павел не спорил, молча забрал снимки в радужных винтажных рамках со стразами, бабочками, приютив их в спальне, своем наблюдательном пункте.
Вместо фотографий жена повесила иконы. Если бы Павел подсчитал, он удивился бы их количеству. Икон разве что на полу не было.
— На поиски пропавшего ребенка вышли взрослые, подростки и даже дети поселка Кирпичный, — сообщала диктор местного телевидения в программе новостей. — Поисковые работы велись вплоть до наступления темноты. С утра водолазы проверили дно карьера. Пока никаких следов девочки не обнаружено...
Сосед Крапивиных, известный под прозвищем Бухарин из-за болезненного пристрастия к выпивке, тоже отправился на поиски, прихватив с собой пару флаконов с настойкой боярышника.
— Без дизеля никак, — делился он со всеми, кто соглашался слушать. — Я всю жизнь на этом топливе — и никаких болячек, живее всех живых.
Когда на дне второго «фанфурика» осталось на полпальца, Бухарин решил отдохнуть под забором Аляски.
— Прилег, значит, обмозговать дальнейший ход событий, — рассказывал он тем же вечером собутыльникам на скамейке возле печально известного теперь дома.
Иногда он любил ввернуть заковыристое выражение, называя это замашками бывшего работника культуры. Бухарин два месяца проработал в поселковом клубе «Дружба» сторожем.
— Прилег в тенечке, но так, чтоб дорогу видно было, мало ли. И вдруг, откуда ни возьмись, женщина. Не простая, а вся в сияние окутанная, и одежды и нимб над головой светятся, как солнце, а сама босая и идет по траве высокой, а трава не гнется под ней. Копия точь-в-точь Богородицы, с иконы сошедшей.
Слушатели разинули рты, верующие креститься стали, а Бухарин продолжил:
— А за руку эта Дева Мария девочку ведет с сумочкой в форме сердца через плечо. И тоже точно копия девочки из седьмой квартиры. Те же волосы рыжие кругляшами, веснушки, и одета как по описанию. — Тут рассказчик показал пальцем в сторону развилки: — Вон там, за рельсами, левее Аляски. И запахло вокруг сразу не по-земному как-то — чистотой, свежестью. Дева Мария девочку по головке гладит, а под девочкой трава тоже не гнется. Я так и замер, шевельнуться не могу. А они вдруг огнем вспыхнули и пропали, лишь голос остался, как всхлип, и завоняло, будто болотом или канализацией. И меня как прошибло током, и сразу на ноги кто поставил, а голос в голове женский говорит: «Ищи нас в колодце».
Отец услышал эту историю вторым. Первым же человеком, с кем вестью о чудесной встрече поделился Бухарин, была Люда. Как чувствовал, что женщина даст ему на бутылку.
Павел на водку не дал, дал пинка и вышвырнул за дверь:
— Протрезвей хоть раз в жизни, а то сдохнешь и не узнаешь, что сдох!
Возмущению обиженного соседа не было предела.
— А ведь тихий был, мухи не обидит, — жаловался на скамейке. — Не матерился, добрейшей души человек. А смотрите, что стало. В зверюгу бессердечного превратился. Будто я, что его дочь пропала, виноват...
Людмила позже попросит Бухарина показать то место, и ее не раз будут видеть стоящей на коленях в высокой траве.
«Ищи в колодце» — единственное, что зацепило отца в бреднях старого алкоголика, и Павел облазил все канализационные люки в поселке до центральной железной дороги.
Полиция, по словам все той же дикторши, делала все от нее зависящее. «На поиски брошены отделения ГИБДД, задействованы военнослужащие двух воинских частей и сотрудники МЧС».
Через неделю поиски прекратят, и местная газета «Вечерняя среда» окрестит ЧП так: «Исчезновение в Международный день защиты детей». Первополосный материал с фотографией семилетней Светы Крапивиной еще какое-то время будет мелькать перед глазами поселковцев, но на третью неделю триста пятьдесят гектаров горящего леса займут новостную ленту.
И только отец будет продолжать искать. С первыми лучами солнца и до темноты. Сначала Павел напишет заявление об отпуске за свой счёт, а месяц спустя совсем уволится.
Отец искал и во сне. Бродил по знакомым до желудочных спазмов, до сердечных схваток и зубной боли местам: по развилке, вокруг Аляски, в овраге под железнодорожным виадуком. Искал под ликование сорок. Искал и всегда находил красную резинку для волос с двумя ягодками-малинками, а иногда сумочку в форме сердечка: они купили ее в тот самый день.
Сердце отца где-то на дне затаило, зарубцевало ощущение потери.
— Дочь жива, — от двери к окну. — Жива. И я найду ее!
До конца лета оставалась неделя. Первого сентября Света должна была пойти в первый класс.
— Должна. — Павел в тысячный раз брел мимо железнодорожного полотна и бубнил. — Должна — и пойдет!
Глаза его всегда опущены, высматривают следы, а тут словно что окликнуло. Взглянул вверх отец и на насыпи из камней увидел красное пятнышко. Остановило бой сердце отца. На карачках, царапая ладони об острые камни, забрался на насыпь и не поверил глазам: сумочка дочери, будто только что купленная! Схватил находку, прижал к груди. Оглядываясь, позвал дочь по имени. Сперва тихо позвал, потом громче и, наконец, закричал.
Крик разорвал пузырь реальности. Он увидел, как из знойного, вибрирующего от испарений эфира прямо по железнодорожным путям бежит его девочка, смеется и подпрыгивает. В том же белоснежном сарафане в цветочек, с сумочкой в форме сердечка...
Открыл сумочку Павел — пусто. Да и цвет вблизи не таким красным кажется. Не красный, а бордовый какой-то, и не помнит отец, чтобы снаружи на сумочке был кармашек.
Положил назад — как сердце оторвал — на камни. Спустился и не удержал слез. Здесь, в лесопосадке, почти в трех километрах от поселка, он часто себе это позволял. Заходил в гущу деревьев, прислонялся к стволу, тихо плакал, вгрызаясь ногтями в кору дерева до крови, до стона.
— Похитители бы давно объявились, — строили предположения в поселке. — Выкуп запросили или еще чего...
— На органы сейчас детей продают за границу, — пугали своих непослушных отпрысков родители. — Особенно тех, которые допоздна шляются, в лапту играют...
— Аляска утащила бедняжку. Проснулась, видать, проголодалась — и съела, — шептались старухи.
Только всех пропавших в Аляске рано или поздно находили. Один упал в погреб, сломал ключицу — тело нашли через неделю по запаху; другая скрывалась от мужа в заброшенной стайке два месяца; а третий по пьяни не смог выбраться из картофельной ямы.
— Аляска, Аляска, отдай что забрала, — шептала бабка-знахарка.
Ее привела в квартиру мать Павла, строго-настрого велела сыну слушать, не перебивать. Знахарка баба Римма таращилась слепо в карты, потом в тарелку с водой. Держала отца за руки.
— В твоем сердце стучит и ее сердце. Сердце дочери, — говорила.
Смотрела фотографию Светланы, жгла над ней спички.
— Не вижу ее среди мертвых. Тепло от снимка идет. Живая, значит. И в колодце не вижу, не в плену она. Но и нет в ней ощущения свободы. Слышу, как шумит ветер, но не чувствую его дыхание на себе. Так деревья на ветру колышутся и трещат. Всё раскачивается, как на качелях, и много разных голосов странных: птичьих, животных...
Павел вцепился в край кухонного стола, и стол затрясся, когда он услышал:
— Вера творит чудеса, молитва.
— Пятьсот икон! Пятьсот, если не больше, — это разве не молитва?!
Людмила в комнату дочери принесла не все иконы. Некоторые так и лежали в разноцветных пакетах под кроватью. И в прихожей, в «тещиной», в шкафу с обувью, между зимней одеждой — везде освященные иконы.
— А что остается, если не молитва? — продолжала настойчиво баба Римма, а Павел скрипел зубами:
— Ненавижу.
— Смирение, а не гордыня — вот что поможет обрести душевный покой.
Он перевернул бы стол на гостью, если бы ни мать.
На прощание, стоя в дверях, знахарка вдруг сказала:
— Ненавидь больше, сынок! Если не молитва, то ненависть поможет выжить и найти ответы. Ненавидь, дорогой. Ненавидь сильней, крепче. Всех!
Мать посмотрела на старушку, потом на Павла. Развела обессиленно руками:
— Да что вы такое говорите? Его же злоба эта погубит...
Баба Римма продолжала:
— И в следующий раз, как над тобой пролетит сорока, сынок, не поленись, брось в нее что под руку попадется, камень брось и скажи: «Несчастье птице, что летит против хода солнца».
Павел кивнул: старуха знала о сороках.
— А икона без веры, без молитвы — так, картинка, украшение... — закрыла она дверь за собой.
— Совсем сдурела бабка, — возмущенно хлопнула в ладоши мать. — Сороку еще зачем-то приплела. А я ей риса отборного и гречки дала — думала, дельное что скажет, поможет.
Сын поцеловал мать в голову:
— Жива.
Жена почти держала обет молчания, говорила только по делу, коротко. Перед первым сентября сказала, что уйдет в монастырь.
Павел ответил:
— Угу, и иконы с собой прихвати. Я Светину комнату в прежний вид завтра приведу.
Людмила захотела что-то спросить, может, возразить, но остановилась среди зала и молча хлопала глазами.
— Желательно прямо сейчас начать собирать их, чтобы я с утра все в порядок у нее привел. Ей не понравится такое... — он не мог подобрать нужного слова, — такое... такой бардак. Я фотографии еще новые напечатал — они ей точно понравятся, Светотусе-болтусе.
Закрыв лицо руками, жена пропищала что-то, пошла послушно собирать иконы.
Настало первое сентября. Пасмурно. Из тревожного сна — в такое же неспокойное утро с моросящим дождем и страхом неуверенности.
Ненавистные сороки кричат в ненавистных деревьях, празднуют.
К девяти часам нарядные школьники потянулись мимо его наблюдательного пункта к школе. Замелькала школьная форма черно-белой пестротой, завертелись в первом вихре осени банты, шары, листья...
Дождавшись, когда жена уйдет в церковь к заутрене, вымыл полы в квартире, расставил в комнате дочери фотографии и плюшевые игрушки, развесил по стенам Светины рисунки.
Акварелью расплылось по альбомному листу счастливое, тогда еще улыбающееся семейство. На карандашных рисунках всяческие придуманные существа. Добрые и веселые стражники семейного счастья: Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг, Ночнушка-хохотушка, Звончепух и королева королев Помадка — все из семейства «улыбак», с широкими, в форме рогатого месяца, улыбками и звездами вместо глаз.
Закончил Павел под доносящуюся со школьного двора песню «Первоклашка». И на удивление самому себе начал подпевать:
Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник!
Он серьезный и веселый —
Встреча первая со школой!
Вышел из подъезда с бумажным свертком под последние аккорды песни, знакомой с детства, прошел мимо школы и — через рельсы, твердым, уверенным шагом к месту из сегодняшнего сна. Пророческого сна.
Жертва у каждого своя. И сами мы тоже жертвы.
Бухарин вышел следом, а вечером на скамейке будет клясться всеми святыми и мамой, что Павел шел, как та Дева Мария с девочкой, по верхушкам травы и трава под ним не гнулась.
Людмила купила последнюю иконку в киоске при храме. В тот самый момент Павел подошел к березе под истошный крик сорок. Птицы вели себя злее обычного. На макушке дерева — шарообразное гнездо. Птенцы давно встали на крыло, но далеко от дома не улетали. Павел все эти месяцы наблюдал и все больше их ненавидел, мечтая превратить в кровавую кашу.
— Сорока-белобока кашу варила (развернул сверток), деток кормила (газета упала под ноги), этому дала (поднял топор над головой), этому дала (птенцы присоединились к атакам родителей, смело наскакивали) и этому дала (лезвие, занесенное над стволом, отбросило солнечный зайчик в тень травы), этому тоже дала (отмахиваясь левой рукой от пернатых), а этому не дала!
Жертвы бывают разные. Но жертва необходима. Чтобы вернуть потерянное, нужно жертвовать. И чем крупнее жертва, тем больше шансов обрести утраченное...
Удар.
Он увидел жену, постриженную в монахини, молящуюся на коленях перед пылающим в свете тысяч свечей алтарем.
Топор легко пронзил мягкую, податливую плоть березы.
Отец замахнулся во второй раз. Сороки над головой взорвались небесным громом.
Удар.
Увидел себя под виадуком у железной дороги. Он знает, что надо делать, и нагибается над рельсами.
Увидел поезд Улан-Удэ — Москва, как он на всей скорости сходит с рельс в том самом месте, где нашлась сумочка, похожая на дочуркину. Кровь окрасила черные камни красным, под цвет его боли. Крики и стоны людей из перевернутых, искореженных вагонов перебили гвалт сорок.
Береза покосилась, затрещала, подраненная, осыпала человека листвой.
В третий раз лезвие сверкнуло молнией и ударило в дерево, в свежую рану. Со стоном и треском завалилась срубленная береза. Сорочье гнездо рассыпалось на веточки и щепки.
Отец оглянулся, посмотрел на развилку: по ней сейчас должна идти, прискакивая, его дочь в белоснежном сарафане, с сумочкой в форме сердца. Они, правда, опоздали на школьную линейку, но это не беда. Зато успеют переодеться и прийти как раз к классному часу и чаепитию для первоклашек. Его решили устроить родители — сбросились, купили сладостей, сделали торт на заказ...
Но развилка пуста. В точности как в тот день, последний день семьи Крапивиных.
В тот день втроем сходили в магазин, решили побаловать себя тортом-мороженым и купили Свете сумочку-сердце: очень уж ей приглянулась.
На обратном пути дочка у развилки предложила:
— Давайте кто быстрей? Вы с мамой по одной стороне развилки, я по другой дороге. Кто придет первый — тот и победитель. Тому самый большой кусок!
Разошлись. Девочка долго махала родителям, пока не скрылась за забором Аляски.
Больше они ее не видели.
Первые пять минут ждали ее появления, всматривались в пустую дорогу. Потом отец сбегал проверил квартиру. Повторил путь дочери, обежал на сто кругов Аляску.
Ни следа. Одни сороки тарахтят над ухом, смеются.
Людмила начала плакать. Торт-мороженое таял в ее руках, капал на землю...
Со стороны Аляски подул пронизывающий, холодный ветер, запахло словно перцем и кровью. Снова заморосило.
Павел уронил топор. Сорок не видно и не слышно, будто не было никогда, а гнездо всего лишь кучка веток, скорлупы и...
Сначала увидела душа, потянулась... Отец нагнулся и поднял под тарабание сердца красную резинку для волос с ягодками-малинками. Сжал в ладони, поднес к губам.
Света любила, когда папа кормил ее: он протягивал ей самую крупную малину, и дочь ловила ее губами, а вместе с ягодой кусала его за пальцы. Они смеялись до слез...
Не чувствуя, не видя, не дыша, вернулся в квартиру. Без мыслей, без чувств, без воспоминаний. То, что столько месяцев утаивал от самого себя, прорезалось, вытекло черной кровью. Потекло по разбитым об стены кулакам, побежало из глаз по щекам за ворот, хлынуло из сердца, перелилось через край, через горло...
Он спал и вот проснулся, круша в комнатах, в ванной и на кухне все, что стало теперь ненужным, лишним.
Не тронул детскую. Комнату дочки. Место, куда он не может не вернуться.
И он вернулся.
Сел на кровать в окружении ее любимых игрушек, фотографий в ажурных рамочках и стразах. Сел, снова и снова прикладывал к губам пластмассовые красные ягоды, словно целуя, словно пробуя на вкус, и тихо, вполголоса позвал на помощь:
— Звончепух, Помадка, Горлодёрик, Сердценожка, Барабашик, Солнцепрыг...



