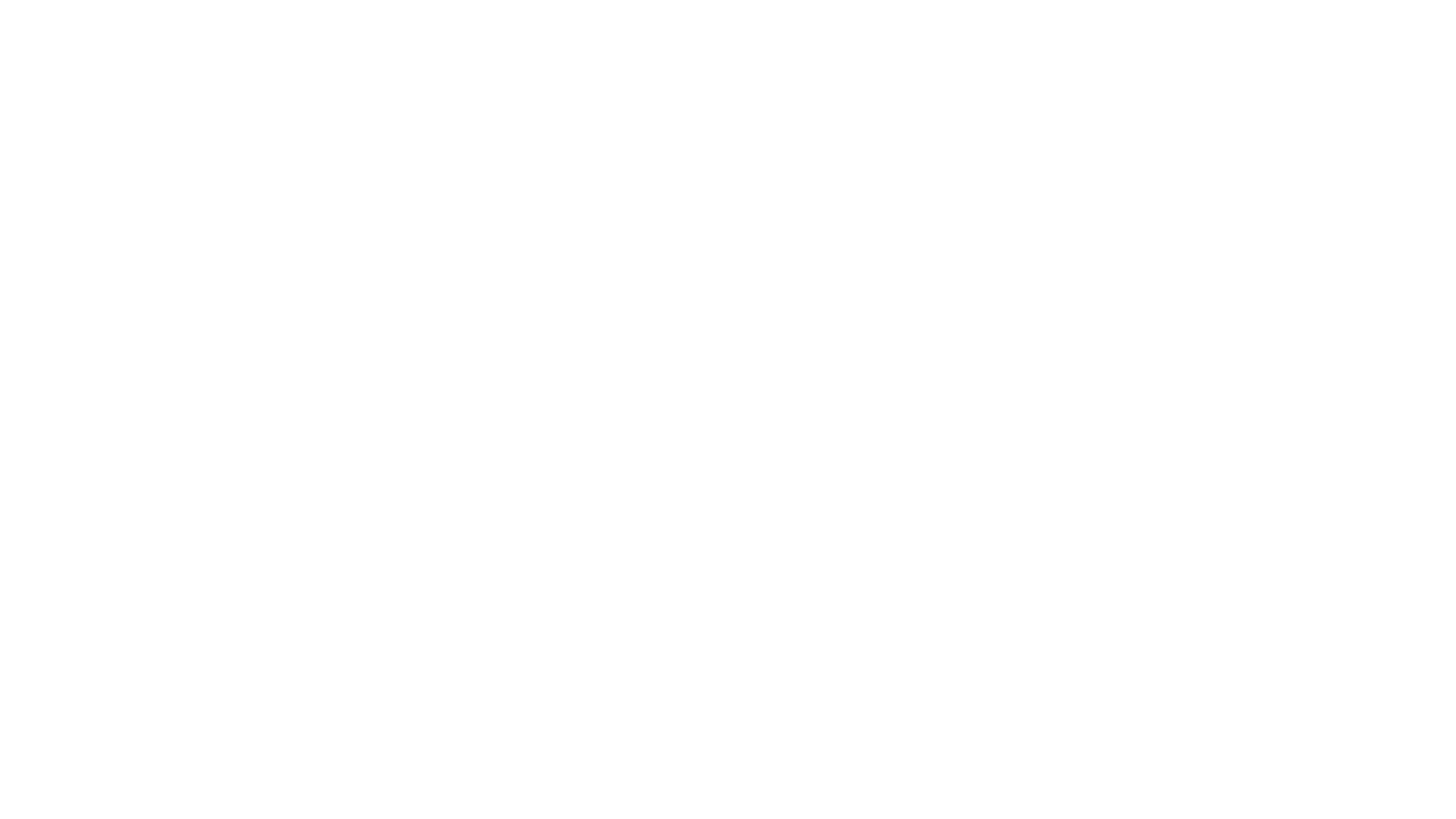
Дмитрий Косяков — Абстракция и почва
Дмитрий Косяков — критик, искусствовед, публицист. Родился в Томске. Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета. Публиковался в журналах «День и ночь», «Дети Ра», «Наш современник». Автор двух поэтических («На пороге подполья», «Пепел звездолётов») и трёх публицистических («Культурный фронт», «Смотреть в будущее», «Рок-портреты») сборников, а также книги для детей («Сказки про девочку Ульрику»). Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Лауреат литературной премии всероссийского фонда В. П. Астафьева (2021). Руководитель Красноярского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Член Союза писателей России
Я уже неоднократно говорил, что литературу невозможно изучать в отрыве от истории и философии. Литература является не только блестящей иллюстрацией к этим двум областям знания, но и предоставляет для них доказательства, документальные свидетельства. Ибо художественные произведения — это документы своей эпохи и овеществлённые результаты духовного развития человечества.
Литература, как и история и философия, движется вперёд по диалектическим законам внутренних противоречий и их преодоления в виде синтеза. Иллюстрациями диалектической триады могут выступить в истории литературы три художественные направления: «классицизм», «романтизм» и «реализм».
Классицизм был тесно связан с философией Просвещения и с историческим периодом буржуазного революционного преобразования общества. Его художественные принципы: нормативность, чёткие правила, стремление соответствовать неким идеальным «классическим» (античным) образцам — вытекали из культа разума у философов-просветителей, с их механистическим материализмом. В то же время идеи писателей-классицистов, их гражданский и антиклерикальный пафос были связаны с атеистической философией и одновременно с буржуазной борьбой против основ феодального общества с его сословностью, опорой на церковь и вассальной преданностью монарху. В свою очередь, ориентация на античность была связана с республиканскими традициями древней Греции и раннего Рима. Культ человека, индивида противопоставлялся культу божества и одновременно всевластию монарха.
Конечно, философы-просветители, как и писатели-классицисты, отличались разной степенью радикализма: Вольтер ратовал за просвещённую монархию, Руссо верил в прямую демократию. Но в целом всех их объединяло отталкивание от феодализма и борьба с его основами. Классицизм и просвещение защищали буржуазные преобразования общества и неизбежно влекли мир навстречу буржуазным революциям. Можно считать, что пиком этого исторического движения и одновременно его кризисом стала Великая французская революция (у нас — Восстание декабристов). Классицизм достиг исполнения своих самых радикальных желаний, проверил на практике свои рецепты и сошёл со сцены.
Но, что интересно, романтизм как критика и диалектическое отрицание классицизма стал вызревать ещё до Великой французской революции. Скажем, немецкое литературное движение «буря и натиск», связанное с отказом от культа разума, существовало с 1767 по 1785 гг., а выходец из его рядов, виднейший романтик Гёте до 1793 г. уже написал и «Гёца вон Берлихингена», и «Страдания юного Вертера» и приступил к созданию «Фауста». Дело ведь было не в провале утопических проектов французских радикалов, а в осмыслении и критике буржуазного общества, которое складывалось в Европе.
В романтизме разворачивается критика по всем фронтам: это критика основ буржуазного строя, то есть всевластья денег, это критика буржуазного духа и образа жизни, то есть мещанства и филистерства, это критика классицизма как искусства и просвещения как философии, а также критика культа разума и революционных методов преобразования общества.
Продиктована ли эта критика исключительно разочарованием и отчаянием? Нет, в ней содержится и прогрессивный элемент, способствовавший в дальнейшем преодолению односторонности классицизма и подготавливавший зарождение реализма. Поэтому романтизм сам был устроен диалектически и содержал в себе два противоборствующих течения, имевших общую основу. Я говорю о революционном (напр., Байрон) и реакционно-мистическом романтизме (напр., Брентано). Большинство же романтиков умудрялись сочетать эти две разнородные тенденции.
Радикализм по-немецки
Отнюдь не удивительно, что пышнее всего романтизм расцвёл в Германии, находившейся в стороне от революционных бурь и отстававшей от передовых европейских стран в плане буржуазного развития. Сами немецкие мыслители отмечали, что в то время как Франция переживала революцию, вершила её, Германия лишь теоретизировала по этому поводу, совершала революцию в философии.
Философские системы Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха, какими бы ни казались они отвлечёнными и умозрительными, являлись отражением революционных бурь рубежа XVIII-XIX вв. Дьёрдь Лукач в своём исследовании о молодом Гегеле свидетельствует, что немцы не остались полностью в стороне от революционных событий: «История влияния французской революции на Германию — область, также еще не исследованная с достаточной полнотой. Буржуазная историческая наука, особенно после 1848 г., всегда стремилась к тому, чтобы предать полному забвению все революционно-демократические устремления в жизни Германии. О многих немцах, которые непосредственно примкнули к французской революции, мы знаем сегодня чрезвычайно мало. Георг Форстер единственный (да и то потому, что уже раньше имел всеобщую известность как естествоиспытатель и публицист), кто еще полностью не забыт, хотя и сегодня нет подлинно марксистского исследования его деятельности и его произведений. Но Форстер — только один из многих»[1].
Но, конечно, непосредственным вопросом политического и экономического развития Германии на тот момент был вопрос её национального объединения. При этом национальные движения были ещё настолько слабы, что не могли даже ставить вопроса о свержении мелких князей. В такой затхлой обстановке философское развитие в Германии и приняло идеалистический характер, и тем не менее отголоски реальных проблем в нём содержались. То же и с романтизмом: он строился в Германии на той же идеалистической основе.
Получалось, что немецкая культура, немецкая мысль как бы и были причастны к культуре главных европейских стран, и находились в стороне от неё. Эта «полупериферийность» позволяла смотреть на европейскую идеологию, на главные события эпохи со стороны, открывала возможность для критики, даже если в значительной степени эта критика принимала реакционный характер. Надо сказать, что по мере выдвижения Германии в авангард европейского революционного движения эту роль переймёт Россия, но уже не в романтическую, а в реалистическую эпоху литературы.
Давайте в свете всего вышесказанного рассмотрим классическое произведение немецкого романтизма, повесть «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» Гофмана.
Гофман особенно подходит в качестве примера, поскольку, как отметил исследователь Г. Ратгауз, ему присущи «нравственная и художническая зоркость, одержимость творчеством, стремление обратиться к самым глубоким вопросам о месте человека в мире и в обществе. <...> Трагическое ощущение мира, свойственное многим романтикам, у... Гофмана явно усугубляется»[2]. В сказке «Крошка Цахес», как и во всём творчестве Гофмана, друг другу противостоят и в то же время переплетаются фантастика и действительность, дух и материя.
«Пробил великий час!»
Несмотря на причудливость и фантастичность сюжета, это произведение в высшей степени злободневно и содержит глубокий анализ состояния общества на начало XIX века. Помимо прочего в ней заключён и определённый политический смысл. Тот же Ратгауз подчёркивает: «Эта сказка знаменует собой явное влечение позднего Гофмана к злой и меткой сатире, резко проявившееся и в его последующих творениях («Житейские воззрения кота Мурра», 1822; «Повелитель блох», 1922)»[3].
Буквально с первых страниц, в первой главе, нам рассказывают о том, «как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение». И в этом словосочетании «насаждал просвещение» уже содержится критика буржуазной революции как чего-то искусственного, насильно привнесённого, взятого из головы.
«Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Онрешил править и тотчас по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шестьдукатов и темвыручил из большой беды. "Яхочу править, любезный!" — крикнулему Пафнутий. Андреспрочел во взоресвоего повелителя, что творилось у него на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес:
— Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь,вас молит верныйвассал, тысячи голосов бедногозлосчастного народазаключены в егогруди и горле! Государь, введите просвещение!»[4]
Как видим, идея «введения просвещения» исходит из голов лишь двух человек: «желающего править» молодого князя и случайно возвысившегося в министры плебея (причём в этом возвышении не последнюю роль сыграли дукаты). До этого события княжество было блаженным уголком, где охотно селились феи. Гофман даёт идиллическое описание патриархального бытия: «Окруженнаягорными хребтами, этамаленькая страна, с ее зелеными, благоухающими рощами,цветущими лугами, шумливымипотоками и весело журчащими родниками, уподоблялась — а особливо потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, - дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехи,не ведая о тягостном бремени жизни. Всякий знал, что странойэтой правит князьДеметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, вчисле других, тампоселились и прекрасные феи доброго племени, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу»[5].
Обратим внимание на важную деталь — отсутствие городов, источника буржуазных преобразований. Хотя автор невольно намекает на небеспечальность и небесконфликтность прежней патриархальной жизни: крестьяне верят в ведьм и пытаются сжечь благородную девицу Розеншён, а князю для их «вразумления» приходится прибегать к «чувствительным телесным наказаниям». То есть мы видим мрак невежества внизу и жестокость наверху.
Какие же меры предполагает «вводимое» просвещение? Их иронически описывает Гофман: «Вырубить леса, сделатьреку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации итополя, научить юношество распевать на два голоса утренние ивечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу»[6].
Все эти меры предполагают именно буржуазное преобразование общества как в плане хозяйства, так и в плане быта. Но вместе с тем происходит изгнание «всех людей опасного образа мыслей». Буржуазное общество оказалось не таким уж толерантным. Из жизни исчезает поэзия, утрачивается связь с народными поверьями. Тут в крайне туманной форме выражается мысль об отрыве революционеров-преобразователей от национальной и народной почвы. Идеологи буржуазной революции со своим культом разума и античности витают в области умственных абстракций, они оторваны от того, чем живёт народ, и разрушают его уклад, не считаясь с мнением и представлениями самого народа.
Это стремление осчастливить народ без участия самого народа, «ввести просвещение» и благоденствие декретом, будет особенно заметно у наших декабристов. Советский философ Михаил Лифшиц отмечал: «Поместите человека в самые лучшие условия, и он не только будет гадить, нет – станет даже озорничать. А почему? Потому что не создал эти условия»[7].
Но первым в России об этом задумался Пушкин, он отметил разрыв между народом и властью. Его ремарка «народ безмолвствует» станет рубежом между романтизмом и реализмом. Романтики с их интересом к национальной народной культуре после классицисткого упоения древней Грецией начали разворот к изучению жизни народа, почвы. Ведь именно о непонимание, а то и прямое сопротивление крестьянства разбились и Французская революция, и Декабрьское восстание в России.
Отголоски революционных бурь и социальных антагонизмов присутствуют в повести Гофмана в упоминании о крестьянском возмущении ещё при идиллическом князе Деметрии. Кроме того заколдованного студента Фабиана, появившегося на людях в неподобающем фраке, власти мигом берут под подозрение и видят в нём опасного заговорщика.
«Дипломаты виделиво мне презренного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его против правительства и что я вообще принадлежу к тайному сообществу, отличительныйзнак которого —короткие рукава. Что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы короткорукавников, коих так же надлежит опасаться, как иезуитов,даже больше, ибоони тщатся всюду насаждать вреднуюдля всякого государствапоэзию и сомневаются в непогрешимости князя»[8], - сообщил он своему другу Бальтазару.
Это показывает, насколько трепетали тогда представители власти перед тайными революционными обществами, после того как раздавленная Наполеоном революция ушла в подполье.
Наконец, кульминацией повести служит именно сцена стихийного народного бунта. Цахес лишён своего чудесного обаяния, и простые горожане, разглядев в первейшем фаворите князя, министре Циннобере, ничтожного урода, жаждут расправиться с ним. «Возмущение! Мятеж!» - в отчаянии кричит его камердинер. Страшась народного гнева, Цахес тонет в ночном горшке. Власть, лишённая мистического ореола своего величия, предстаёт жалкой и уродливой.
«Кое-что чудесное и непостижимое»
Следующим важным объектом романтической критики является наука, основанная на «вульгарном» (или «механистическом») материализме. В повести о Цахесе эта критика воплощена в образах учёного Птоломея Филадельфуса и профессора Моша Терпина. Оба они являются образцами филистерства, мещанского самодовольства, бюргерской ограниченности. Но главное, ограниченными и ограничивающими являются их научные знания. Птоломей Филадельфус заявляет: «Я ничего на свете так не страшусь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои снедают все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно тщусь уловить умственным взором что-либо отчетливое»[9].
Его знание чисто лабораторное, книжное, фрагментарное, оно оторвано от реальной жизни, поэтому этот учёный муж так легко принимает обыкновенных студентов за представителей какого-то незнакомого народа и пытается сделать из этого научное открытие.
На него похож естествоиспытатель и преподаватель Мош Терпин: «Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего. Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук: он объяснял, отчего происходят дождь,гром, молния, отчего солнце светит днем, амесяц ночью, как и отчего растет трава ипрочее, да так,что всякое дитя могло быэто уразуметь. Он заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий вопрос извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе положило удачно выведенное им после многочисленных физических опытов заключение, что темнота происходит преимущественно от недостатка света. Это открытие, равно как и его умение с немалой ловкостью обращать помянутые физические опыты вочаровательные кунштюки и показыватьвесьма занимательные фокусы,доставило ему неимоверное множество слушателей»[10].
На что следует обратить внимание здесь? Наглядность, превознесение опыта над теоретизированием, скудость выводов. Всё это является критикой эмпиризма, господствовавшего в науке того времени.
Кто же противопоставлен этим двоим в сказке Гофмана? Вдохновенный поэт Бальтазар. Его отношение к природе совершенно иное. В беседе с другом, референдарием Пульхером, он признаётся: «Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас всеже еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. <...> К примеру, из презренных семянвсе еще вырастают высочайшие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрымцветам и насекомымиметь лепестки икрылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена, причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один беднягакаллиграф не сумеетпрочитать эти затейливые готические завитушки, не говоряуже о том,чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, вмоей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятныйголос шепчет мне,что я сам — чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мнеи понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам»[11].
Прежде всего, Бальтазара отличает состояние удивления, отношение к природе как к неразгаданной загадке. Если мещане-учёные старого типа почивают на лаврах своей учёности и считают вселенную простым механизмом, законы которой легко вместить в небольшой компендиум (учебничек), то энтузиаст Бальтазар открыт для нового. Без этой открытости, без чувства удивления не может быть настоящего исследователя.
То же видим в «Фаусте» Гёте. Недаром поэма начинается в лаборатории учёного. Фауст отвергает чисто лабораторную науку, оторванную от живой жизни:
Насмешливо глядит приборов целый строй,
Винты и рычаги, машины и колеса.
Пред дверью я стоял, за ключ надёжный свой
Считал вас... Ключ хитер, но всё же двери той
Не отопрёт замка, не разрешит вопроса!
При свете дня покрыта тайна мглой,
Природа свой покров не снимет перед нами,
Увы, чего не мог постигнуть ты душой
Не объяснить тебе винтом и рычагами!
Винты, рычаги, машины и колёса — всё это очевидные символы механистического понимания вселенной. Фауст же ищет не частных знаний, не анализа, а синтеза, его интересуют новые основополагающие законы природы. Природа для него не застывшая схема или бездушный механизм, а нечто меняющееся, живое, становящееся. Поэтому он и отвергает свою пыльную книжную мудрость, отзывается на предложение Мефистофеля и устремляется за пределы своей лаборатории, навстречу жизни с её соблазнами, навстречу людям и полезному для них делу.
Старая научная картина должна быть не просто расширена или дополнена, но и пересмотрена в корне. Вряд ли на это окажется способен гофмановский фантазёр Бальтазар, но тем более эта задача не по силам обывателям Терпину и Филадельфусу, которые заняты чисто количественным приращением знания, описанием новых явлений (объектов и их свойств) в рамках старой научной модели.
В этом смысле романтизм не мог создать новый синтез, но в качестве отрицания, он ставил важные вопросы, выявлял недостатки старого.
Надо сказать что в то же время с критикой вульгарного материализма выступали виднейшие мыслители, такие как Шеллинг и Фейербах. Как отмечал исследователь философии Фейербаха Бернард Быховский, «он сохранил рационалистическую традицию классической немецкой философии и решительно отмежевывался от "эмпирической муравьиной породы" (характерен этот идущий от Бэкона, также воздававшего должное единству эмпирического и рационального элементов в познании, символический образ муравья, впоследствии воспроизведенный также и А. И. Герценом)»[12]. Фейербах призывал совмещать эмпирическое и теоретическое познание, не «отделять ум от чувств»: «...Только то созерцание истинно, которое определяется мышлением; также и наоборот: то мышление истинно, которое расширено и восполнено созерцанием...»[13]
Предвосхищение этого тезиса есть у романтиков, хотя и в куда более туманном виде. Оно содержится в призывах Фауста и Бальтазара к постижению мира, природы «сердцем, душой».
Стоит отметить, что и страстный индивидуализм романтиков был также бунтом против абсолютного детерминизма старого материализма.
— Если весь мир — это машина, считали механицисты, то всё во вселенной абсолютно предопределено и даже предсказуемо. Надо только правильно посчитать.
— Ничто не предсказуемо, мир находится во власти игры стихий, - запальчиво возражали романтики.
— Не всё предсказуемо, но кое о чём мы всё же можем судить, - скажут потом реалисты.
Подводя черту под разговором об отношении романтиков к науке, следует сказать и о состоянии естественных наук в тот момент. Действительно, естествинные науки как раз переживали кризис. И романтики обращались за ответами к «натурфилософии».
У Лукача читаем: «Становление диалектики в классической немецкой философии было неразрывно связано с кризисом в естествознании, с теми чрезвычайно важными открытиями, которые перевернули основы прежнего естествознания, с возникновением новой науки химии, со становлением проблемы развития в самых различных отраслях естествознания»[14]. А Энгельс в предисловии к «Антидюрингу» подчёркивает, что натурфилософия «содержит много нелепостей и фантастики, но не больше, чем современные ей нефилософские теории естествоиспытателей-эмпириков».
Таким образом, в произведениях романтиков в остроумной и занимательной форме нашла выражение борьба различных научных картин мира — спор между натурфилософией и эмпиризмом.
Между феодализмом и капитализмом
Но мы так и не обсудили центральную фигуру Гофмановского сюжета, самого крошку Цахеса. Как известно, благодаря заступничеству феи Розабельверде он получил чудесное свойство: всё замечательное, что в его присутствии кто-либо помыслит, скажет или сделает, приписывается ему, его признают «совершеннейшим в том роде, с коим он придёт в соприкосновение», и наоборот, все негодные выходки самого Цахеса, прозванного для важности Циннобером, приписываются другим.
Какое же общественное явление скрывается за этой метафорой? Многие исследователи считают, что речь идёт о власти денег в буржуазном обществе. Сам автор и высказывает и опровергает эту догадку. Высказывает устами референдария Пульхера, которого Цахес лишил перспективного места в министерстве: «Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат...» И опровергает устами Бальтазара: «Полно, друг референдарий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то другое».
Некоторые исследователи сочли, что речь идёт о «фетишизации социальных связей». Действительно, в раздробленной Германии, стоявшей между феодализмом и капитализмом, немалое значение имели связи, статус, расположение высоких лиц, знаки отличия и монаршей милости.
Однако я бы сказал, что и в первом, и во втором случае, речь идёт об отчуждении, о присвоении чужого труда и с ним чужой личности. Ведь в повести есть пример такого отчуждения и без всяких чудес: тайный секретарь Адриан пишет доклады для министра Претекстатуса, который передавал их князю уже от своего имени.
Поэт Бальтазар пишет прекрасное стихотворение о соловье и розе, но его автором все считают Цахеса, скрипач Сбьокка играет превосходный концерт, а все аплодируют Цахесу, профессор Мош Терпин проводит ловкие опыты, но хвалят все опять же Цахеса и т. д. Даже любовь прекрасной Кандиды к Бальтазару непостижимым образом достаётся всё тому же ведьмёнышу.
Понятие отчуждения в философию ввёл Гегель, но подлинно научно и всесторонне это явление рассмотрел Маркс. Гегель отметил, что человеку для реализации своих внутренних творческих сил, нужно воплотить их в каком-либо предмете, произведении (в картине, книге, паре сапог или архитектурной постройке). Человек отчуждает от себя часть своих сил и идей и превращает в нечто отдельное, самостоятельное и как бы независимое от себя.
Маркс же ответил, что в обществе, пронизанном рыночными денежными отношениями, это произведение, отчуждённые силы человека, неизбежно превращаются в товар, который может быть присвоен другим человеком. Проще говоря, человек может быть убит выкованным собою же мечом. Потому-то человек и не узнаёт себя в собственном твореньи, что бы он ни создавал — всё оборачивается против него и на пользу тем, у кого есть деньги и власть. А товаром при капитализме становится абсолютно всё — даже талант и любовь.
С особенной остротой это стало ощущаться именно в момент перехода от феодального общества к буржуазному. Вот, что по этому поводу, по поводу изменения отношений между людьми писал Маркс: «Возьмем заработную плату в самом предосудительном в ней, в том, что моя деятельность является товаром, в том, что я сплошь становлюсь продажным...; благодаря этому исчезло все патриархальное, так как лишь барышничество, покупка и продажа являются единственной связью, денежное отношение является единственным отношением между предпринимателями и рабочими... лучезарное сияние вообще перестало окружать все отношения старого общества, т. к. они превратились в простые денежные отношения. Точно так же все так наз. высшие роды труда — умственный, художественный и т. д. — превратились в предметы торговли и лишились таким образом своего прежнего ореола»[15].
Эту ситуацию интуитивно и представил Гофман в образе заколдованного Циннобера. Но об этом писали и другие романтики: в Германии — Вакенродер, Тик; у нас — Пушкин и Гоголь.
Демократическая реакционность
Конечно, чаще всего, беспощадно и метко критикуя наступающую буржуазную эпоху, романтики в поисках идеала обращались к прошлому, искали в минувших эпохах и правильно устроенное общество, и гармоничного (неотчуждённого) человека, и свободное творчество. Мы уже видели у Гофмана описание блаженного патриархального уголка, окружённого горами и заросшего лесами, в котором живут волшебники и феи, а власть не досаждает жителям своим управлением.
У Гоголя социальный идеал также перенесён в прошлое и ещё более конкретизирован. Я говорю о его «Тарасе Бульбе». Социально-утопическое содержание этого произведения тонко уловил наш критик Александр Воронский:
«Он [Гоголь] оглянется назад, в прошлое своей ставшей теперь далекой родины, своей прекрасной Украины. В истории своего народа будет стараться он найти забвение от мертвого мира старухи-ведьмы, в отважной и буйной жизни своевольных запорожцев-казаков захочет найти он утешение и ободрение.
...Вот держат свой путь в разгульную Сечь по девственным степям Тарас и два его сына: Остап и Андрий. Прекрасны, тучны украинские степи днем, но еще обольстительнее они по ночам, когда погружают человека в героическую и кровавую пору тех дней.
"Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу..."
Полковник Тарас толст, любит выпить горилки; он — груб, дик, своеволен, упрям, жесток до свирепости, ограничен и традиционен в своих верованиях и воззрениях. Но в то же время он прямодушен, отважен, непривередлив.
"Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепие прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы, Тарасу это было не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков". Он стоял за православие, еще больше за Сечь»[16].
В гоголевском мире «Тараса Бульбы» тоже как бы нет власти: казаки хоть формально и служат Москве, но у себя в Сечи завели весьма вольные порядки. Это своеобразный архаичный военный коммунизм. Казаки презирают собственность, делятся друг с другом последним.
И всё же идеал романтиков связан спрошлым, а не с будущим, он не положителен. Но потому романтизм и есть в большей мере отрицание, критика нового, буржуазного, общества и его духовных опор.
Эпохе реализма будет уже соответствовать формирование положительного, социалистического, идеала, обращённого в будущее. Как тут не вспомнить интересное рассуждение Жана Поля Сартра именно о Великой французской революции. Он описывает, как пришедшие к власти идеологи буржуазии в соответствии со своими либеральными установками отпустили цены, что привело к резкому подорожанию хлеба и продовольственному кризису. Соответственно, народ потребовал ограничения свободы торговли, которая была на руку скупщикам хлеба и спекулянтам.
«В 1793 г. оно [это требование], по-видимому, было пережитком феодального патерналистского представления, возникшего при королевском строе. Символом феодальных производственных отношений был правовой принцип абсолютной монархии: вся земля находится во владении короля, его достояние тождественно с достоянием его народа; те подданные, которые являются собственниками, милостью короля получают постоянно возобновляемую гарантию своего права собственности. Во имя этой туманной идеи, сохранившейся в их памяти, санкюлоты, не сознавая, что она уже устарела, требуют налогообложения»[17].
Казалось бы, санкюлоты толкают общество назад, к принципам монархии. Но одновременно они и предвосхищают социалистическое требование регулируемой плановой экономики. Только теперь земля должна принадлежать не королю, а государству, находящемуся в руках народа.
Таким образом можно вывести диалектическую формулу прогресса: отвергая неприглядное настоящее, народ с надеждой смотрит в прошлое и неосознанно вершит будущее. И, кстати, сам факт идеализации прошлого может играть прогрессивную роль. Ведь при идеализации человек очищает прошлое от недостатков, улучшает его и в сущности формирует образ желаемого нового мироустройства.
Такие уроки нам преподают романтики.
[2] Ратгауз Г. Художественное наследие романтической прозы // Жизнь льётся через край. Сказки и истории немецких романтиков. М.: Правда, 1991. С. 15.
[3] Там же. С. 18.
[4] Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес по прозванию Циннобер // Жизнь льётся через край. Сказки и истории немецких романтиков. М.: Правда, 1991. С. 332.
[5] Там же. С. 331-332.
[6] Там же. С. 333.
[7] Лифшиц М. Разговор с чёртом. Проблема Достоевского. М.: Академический проект, 2013. С. 41.
[8] Там же. 396
[9] Там же. 336.
[10] Там же. С. 339.
[11] Там же. С. 363.
[12] Быховский Б. Людвиг Фейербах. М.: Мысль, 1967. С. 107.
[13] Там же.
[14] Лукач Г. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987. С. 36.
[15] Литературная энциклопедия. Т. 6, 1932.
[16] Воронский А. Гоголь. http://az.lib.ru/w/woronskij_a_k/text_1933_gogol.shtml?ysclid=lxkef50wzf273758901
[17] Сартр Ж. П. Проблемы метода. М.: Академический проект, 2008. С. 111-112.



