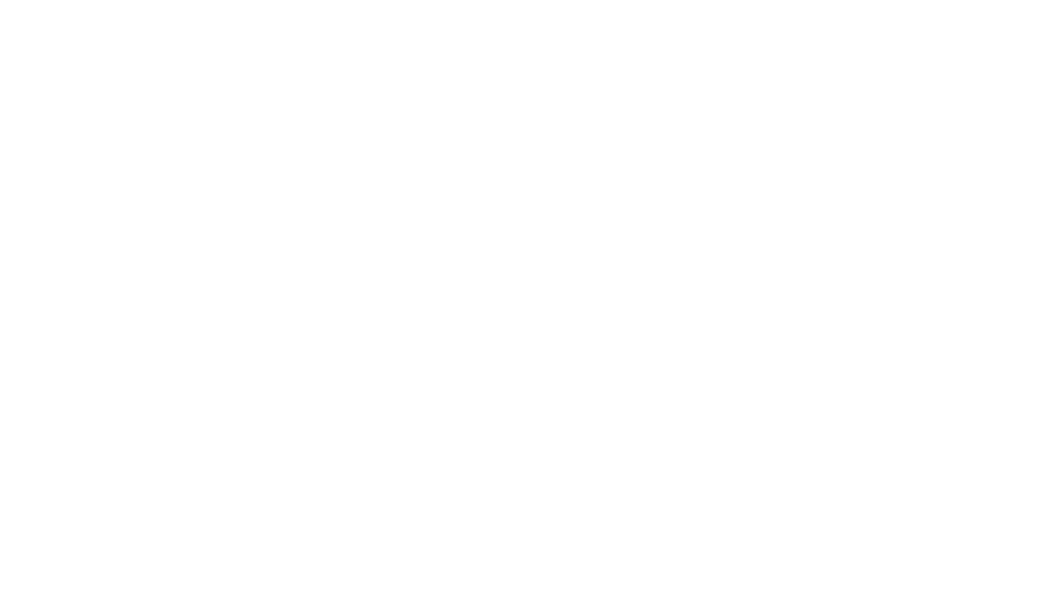
Денис Кожев — Участь
Денис Кожев (род. 1984) — прозаик, публиковался в ж. «Нева», лауреат литературной премии им. Михаила Петрова (2012), дипломант Международного Волошинского конкурса (2022), автор книги «Хроники просвечивающего человека» (ФСЭИП, 2019). Живёт и работает в Ижевске.
Историю эту, от начала и до конца, я услышал от одной женщины, лица которой давным-давно уже не надеюсь встретить среди живых.
Тогда я направлялся в Петербург, находясь в удручающем положении. Сердце мое рвалось на куски и раскаленным оловом плавило мне грудь изнутри, отчего я надеялся остудить его в охваченных льдом водах Невы. К тому же пьесы мои не ставились, и, утратив всяческий интерес к жизни вокруг, я, как обычно, просто старался что-то писать.
— Вы литератор? — первое, что спросила она у меня.
— Сценарист, — чуть с паузой дал я ответ.
— Нравится это занятие?
— Не особо.
— Откуда у вас это увечье? — неожиданно спросила она чуть погодя, глядя на мою руку.
Осколки раздробленной когда-то кости повредили нерв, отчего кисть была вынуждена принять подобие некоего оккультного жеста и остаться такой на всю жизнь.
— Неудачно упал в детстве…
— … с велосипеда?
Я посмотрел на нее, как на человека, указавшего с математической точностью, сколько у меня в карманах мелочи и сколько еще лежит в пальто за подкладкой. Она же, будто потеряв нить разговора, смотрела в окно, чуть закусив губу.
Я ответил что-то неопределенное и, решив, что разговор дальше не двинется, снова углубился в свои записи.
Впрочем, не скажу, что я тут же оставил мысли о днях, про которые ненароком напомнила мне моя собеседница. Но и они постепенно улетучились.
Спустя примерно полчаса, а может и больше, я, все так же выбитый из равновесия беспрестанными истериками своей молодой жены, от которых я, собственно, и сбежал как мальчишка под выдуманным предлогом театрального фестиваля, уже почти не понимал, что пишу. И, решив перестать терзать бумагу, собрался окончательно отложить бессмысленную писанину, как вдруг понял — в купе кто-то говорит.
Сначала я не придал этому значения, но чуть погодя в голове мелькнула мысль, что мы с моей попутчицей едем лишь вдвоем.
Осторожно выглянув из-за угла листа, я встретился с прямым взглядом моей соседки, смотревшей на меня. И слова, которые она говорила, — она говорила мне.
Признаюсь честно: я счел ее безумной. И рассказ ее показался мне не менее странным. Но встать и выйти, пусть даже под каким-нибудь предлогом и ненадолго, я не позволил себе, побоявшись обидеть или даже оскорбить пожилую женщину.
Манеры, привитые мне моей матерью, заставили меня отложить писанину, и с видом заинтересованного слушателя я сделал первый дежурный кивок.
К великому несчастью, весь мой талант, дар — если хотите, оказался бессильным перед чистым листом бумаги, когда сутки спустя, в съемной комнатушке со скверным отоплением и капающим краном, я пытался вспомнить и воссоздать все, что эта женщина рассказала мне в несущемся сквозь метель звенящей России поезде, поскольку по прошествии каких-то десяти минут ее речи я уже старался незаметно делать пометки на своих черновиках, но все это мне не сильно помогало.
Слушая ее, я опомнился, сообразив, что сижу неучтиво — подперев подбородок кулаком и открыв рот. И тогда я стал записывать. Мелкими, рваными, убогими фразочками, оборванными на полуслове, полуслоге, я метил на бумаге по полям хронику чьей-то чужой мне жизни, излагаемой в странной манере и местами вводящей меня в логические тупики. А она… она просто говорила, не сбавляя темп, и как будто совсем не обращала на меня внимания. Я же, со своей стороны, не мог записывать за ней полные предложения — иначе рисковал упустить важные моменты. Я не берусь судить, что было бы интересней и ближе к оригиналу: часть ее рассказа, записанная мною слово в слово от заглавной буквы до многоточия, или же полная история, как есть, но изложенная моим, как оказалось, небогатым языком. Позже я понял: нужно было просто слушать, и память вывела бы меня на нужную дорогу. Но что сделано — то сделано. И даже сейчас, много лет спустя, перечитывая эти записи, я, где бы ни находился, всем своим естеством переношусь, как и тогда — из грохочущего вагона в светлую просторную комнату ушедшей эпохи, оставившей после себя мелкие крупицы жизней, над одной из которых, как колокол поднебесной, с нотками печали, раздается голос моей давней попутчицы, имени которой я не спросил, позже коря себя за невежество. Но, впрочем, оно узнаваемо в тексте, поскольку единственно.
Ведь именно с ним на устах…
…Жигмонд проснулся утром с неясным чувством. Раньше он всегда просыпался, сладко потягиваясь и пару раз причмокнув. Но в этот раз что-то было не так. Не отрывая затылка от подушки, он оглядел глазами потолок и снова испытал это необъяснимое чувство. Пустая и тихая комната будто давила на него, прижимая к постели. Жигмонд попробовал потянуться, но получилось не так сладко. Причмокнул раз, причмокнул два — ничего. Определенно утро было другим. Наконец он сел в кровати и опустил ноги на пол. Тяжесть в груди не проходила. Вместе с тем он ощущал некую пустоту, в которой находился. Обежав глазами комнату, все еще тихую и пустую, он остановил свой взгляд на прикроватной тумбочке, на которой, поставленный с вечера, пустовал штоф, стоял полированный ящичек с откинутой крышкой под надписью «Colt» и лежал конверт. Жигмонда не отпускало ощущение, будто что-то ушло. Но что и куда, он, как бы сильно ни пытался, понять не мог.
Он посмотрел на свои голые ноги, стоявшие на полу рядом с тапочками, пошевелил сухими пальцами, сунул ноги в тапочки и попытался встать. Тело, окруженное пустотой, поднялось с простыней, бесшумно увлекая за собой на невидимой цепи недавно приобретенную тяжесть. В груди болело, но Жигмонду показалось, что боль стала меньше, или же он просто успел к ней привыкнуть. Медленной стариковской походкой он прошел мимо зеркала, силясь понять, потерял ли он все-таки что-то или нет. Подошел к секретеру, проверил замочную скважину — исчезнувший недавно ключ был на месте. Что же тогда пропало? На кухне он заглянул в буфет, попутно проверив в прихожей калоши. В чулане все лежало на своих местах. Все было там, где и всегда и многие долгие годы до этого. Но все же Жигмонду казалось, что чего-то не хватает, какой-то… частицы.
И Жигмонд снова испытал то чувство тяжелой пустоты. Внезапно и совершенно неожиданно он понял, что ощутил себя несчастным. Даже не столько отсутствие счастья огорчило Жигмонда, сколько то, что само Счастье потеряло какую-то часть себя. Как будто он чего-то не дождался, совсем чуть-чуть.
Осознав это, он еще раз пробежался, но уже мысленно, по своему жилищу и вернулся ни с чем к себе, сидящему в ночной рубахе на незаправленной постели. Счастье было частично. Точнее: его частично не было. И часть, пропавшая из него, оставила после себя лишь дыру и пару букв: с _ _ _ _ _ е.
Ноги зябли. Жигмонд посмотрел вниз и увидел пустые тапочки, ровно стоящие рядом с голыми пятками. Не выдержав груза домыслов, Жигмонд сам грузно свалился в обморок.
Очнувшись, он поймал себя на мысли, что уже второй раз за утро встает с постели.
— Нет. Так не годится, — проговорил он. — Совсем не годится.
Спустя некоторое время он вышел из подъезда дома, в котором жил, и остановился в нерешительности. Что он собирается делать? Куда решил идти?
Он обернулся и подумал, что двери подъезда…
Открыты были обе створки. Обычно открыта только одна, вторую же открывают нечасто, лишь по определенным случаям.
Двор был безлюден. Только со стороны дворницкой в сторону Жигмонда шел один-единственный человек. Человек шел, не замечая его, и тогда Жигмонд протянул руку:
— Простите, уважаемый…
Но человек вскрикнул, затряс своей маленькой головой и побежал куда-то в сторону от намеченного пути.
Жигмонд посмотрел на свою руку, убрал ее в карман и пошел со двора. Человек с маленькой головой тряс за воротник дворника, тыча пальцем в сторону Жигмонда, и что-то кричал.
В поисках с _ _ _ _ _ я Жигмонд был не силен, поскольку само Счастье давалось также не каждому. Что уж тут говорить про ч а с т ь? Он безвекторно бродил по проспектам, переходя от одного к другому переулками и читая вывески, раскачивающиеся над головой. Люди, встречавшиеся Жигмонду, словно вторили его поискам своими согнутыми в вопросительные знаки спинами: «Где?»
И как бы пытаясь вынырнуть из серого потока, Жигмонд выпрямлял над другими спинами свою, встав на какой-нибудь поребрик, и поднимался над тьмой теменей.
Все эти сутулые люди, думал Жигмонд, смотрят себе под ноги не из боязни упасть: они ищут дорогу из желтого кирпича, в конце которой получат: кто — сердце, кто — мозги, кто — повышение. Каждый хочет идти по чужой дороге.
На одном из перекрестков Жигмонд увидел группу арабов, подбивающих киянками — брусок к бруску — тротуар. Работа этих людей заставила Жигмонда остановиться: и в мыслях, и на ходу. Для кого строят дороги — они? Не для себя — уж это точно. Они достроят и уедут домой. И никогда в жизни не ступят на нее своими ногами.
Оказавшись в смысловом тупике, Жигмонд стал искать выход, переводя взгляд на осязаемое. И тут его зрачки вцепились в десятибуквие на другом берегу улицы: автомобили. А под ними пояснение: Зап.Части. В грудь Жигмонда ударило: нашел. Недолго думая, он перебежал дорогу вильнувшему автобусу, подошел к запыленной двери и потянул ручку на себя.
Внутри пахло соляркой и железом, веселыми женщинами и бесперспективностью. Под потолком висел кабриолет без правого переднего колеса, на подмостках под ним лежал человек в комбинезоне. В руках у него был шланг с сжатым воздухом, в голове же — мысли о Сонечке и свободной квартирке на углу Кропоткина и 9-й Промежуточной.
Внизу, на тахте, сидел другой, в спецовке, и, остужая чай, разгадывал кроссворд. В его голове роились мысли разного толка, только не о работе.
— А я говорю, он специально руль вывернул, — крикнул тот, что сверху, в комбинезоне. — Смотри, как колесо вырвало — не иначе доняло беднягу что-то, вот и решил свести счеты.
— Их там двое было — сам же видел, — ответил нижний, в спецовке. — Думаешь, он за собой хотел утянуть кого-то? Нет, просто это мы с тобой чего-то не знаем. «В интересах следствия», как говорится. Скажи-ка лучше: по вертикали, семь букв. Первая «С», последняя — «Е». «Состояние покоя».
— Седьмое! — не раздумывая выкрикнул Комбинезон.
— Что — седьмое?
— Ну, есть первое блюдо, есть — второе. Хотя первое можно не есть, если есть второе. Потом третье. А считай — седьмое тогда тоже должно быть. А если есть, то это точно покой. После седьмого-то перебортовать колеса никого не загонишь. Верно я говорю?
— Вроде верно. Только ты опять про жратву. У тебя все про жратву. Только с Хайямом угадал.
— Может быть, «счастье»? — кашлянув, сказал Жигмонд.
Комбинезон стукнулся лбом о бампер. Спецовка обварил чаем нёбо.
— Отец, мать тя! — выругался Комбинезон. — Стучаться надо.
— Замолкни, дурень! — крикнул Спецовка. — Простите его. Сразу видно: как человек начал работать руками, так сразу язык грязным стал. Что вы хотели?
— Слово. Из семи букв, — повторил Жигмонд. — Может быть, это «счастье»?
Спецовка повел карандашом по клеточкам:
— Хм. Подходит. И по смыслу тоже.
Жигмонд улыбнулся:
— Ну, так вставляйте.
На этот раз улыбнулся Спецовка:
— Э-э, — махнул он рукой. — Да разве ж это деталь, чтобы так запросто вставить?
Жигмонд посмотрел в его глаза и подумал, что руки этого человека могли бы сделать куда больше, если бы он дал свободу мыслям.
— Сиденье! — крикнул из салона кабриолета Комбинезон.
— Что?
— Сиденье, говорю, менять надо. Это ни к черту не годится. Прорвалось все. Видать, там же, на мосту.
Жигмонд снова улыбнулся, попрощался с хозяевами и, не дождавшись ответа, вышел в задверье.
— Сиденье-сиденье, — бормотал Спецовка. — Тоже подходит. Состояние покоя! — сиденье! Отец, слышь?
Но Жигмонд уже снова стучал каблуками по тротуару. В груди его вновь чувствовалась пустота, дополнившаяся теперь жаром.
С этой стороны улицы на стенах домов было больше окон. И жизнь, бурлившая по эту сторону кирпича, кипела и по ту.
Жигмонду попадались различные названия улиц, о существовании которых он и не догадывался.
Например: «Бумажный проезд. Стр. 1» (строение или страница?)
Звонки с фамилиями жильцов:
1. Глухой А.Сь.
2. Граблидляв А.С.
3. Выбывший З.Ч.
4. Жмидваж Д.Ы.
5. Коти К. и Т.
6. Никогон Е.Т.
7. Ктот-Одо Н.Э.
Пивная, откуда выпадали тела, словно она изрыгала их, делала с людьми удивительные вещи: человек, входящий в нее, шел уверенной походкой, точно зная, чего хочет и куда идет. Человек же выходящий не был уверен практически ни в чем, напрочь забывая, кто он, для чего создан на этот свет и чего хочет от жизни.
Над крыльцом, располагавшимся тем же рядом, вывеска скромно сообщала, что за дверью находится:
Человек за стеклом с надписью «Дежурный» с дежурным выражением глаз приветил Жигмонда:
— Что у вас?
— Несчастье.
— Частное лицо, — записал дежурный. — Несчастье… В чем ваше несчастье?
— Видите ли, сегодня с утра, когда я проснулся, я обнаружил, что у меня что-то пропало.
— Пропажа, — записал дежурный. — Подозреваете кого-то в краже?
— Нет, что вы. Скорее наоборот: хотел бы, чтоб это было так.
— Но это не так?
— Не так.
— А как?
— Пусто. Как брутто без нетто.
Жигмонд помолчал и повторил:
— Пусто.
Дежурный погрыз карандаш и ответил:
— Пройдите в кабинет двадцать семь. Второй этаж. Думаю, там вам больше помогут.
Проемы кабинетных дверей, как бойницы смотрящих друг на друга каравелл: от каждой веяло опасностью и недружелюбием.
— Свидетель вроде бы имеется, — раздалось за одной из них. — Мальчонка.
— Уже допросили?
— Нет пока. Он в больнице.
— Дело серьезное?
— Швы на руку накладывают. Фортепьяно, сказали, не светит.
— Что-то видел?
— Всё.
Искомая дверь нашлась в конце коридора, на ручке висела табличка:
Спустившись обратно, он подошел к дежурному.
— Закрыто? Так оно и понятно, — сказал дежурный, — вы же без бумаги пошли. Сейчас я вам выпишу.
Выдернув бланк из-под запыленной пачки различных папок, дежурный чиркнул пару завитушек, попросил расписаться в журнале и снова отправил Жигмонда наверх, на этот раз проводив его до самой лестницы, и остался стоять внизу до тех пор, пока Жигмонд не поднялся и не свернул в коридор.
В междверье было все так же недвижно. Пройдя, как завсегдатай, до самого конца, Жигмонд постучался в дверь с номером 27. В руках, как священное писание, держал он бланк дежурного. Таблички на дверной ручке уже не было.
— Обед! — крикнул ему прямо в ухо подошедший сзади человек в рубашке, вошел внутрь и захлопнул за собой дверь.
Бланк опадающим листком мягко опустился на пол и, затянутый сквозняком, скользнул в щель под дверью.
Дверной хлопок прокатился по коридору, продолжая звенеть в ушах Жигмонда.
— Так оно и понятно, — сказал дежурный, вытирая с усов куриный жир и заворачивая косточки в газету, — с самого утра на участке. Тут любой орать будет. Чаю хотите?
Спустя полчаса Жигмонд постучал в двадцать седьмую дверь.
— Войдите, — тут же раздалось с той стороны.
Человек в рубашке стоял коленом на стуле и закрывал форточку. К подошве ботинка прилип упорхнувший бланк.
— Вы по какому вопросу? Где ваши бумаги? Присаживайтесь.
Врубашечный отцепил бланк от ботинка, просмотрел его и, скомкав, бросил в урну.
— Я вас слушаю.
Жигмонд, боясь упустить момент, вкратце, но с деталями описал ему свое сегодняшнее утро. После чего наступила небольшая пауза.
Хозяин кабинета вздохнул, почесал затылок и посмотрел на говорившего.
— В моем доме есть мыши. Много мышей. Я убиваю их при всякой возможности. На кота надежды нет. Все приходится делать самому. Чаще спасают мышеловки. Хрясь! — и нет грызуна. Но тревожит меня вот какая мысль: ведь мышь — это маленький хищник, в смысле мелкие хищения производимые ею доводят до крупных убытков. И с поличным вроде как сложно застать эту тать. А значит — пружинный механизм, кусочек сыра, а дальше азарт. Так вот сама мысль: в мышеловке приманка подложена специально, как провокация. А это уже несчитово. Выходит, я нечестно веду бой. И мышь незаслуженно ломает позвонки, а я по звонку бегу менять ловушку. К чему я веду — если бы я, как вы, наверняка знал, что мышей нет, а сыр пропадал бы так же, я бы в первую очередь спросил об этом самого себя. Что и вам советую. Задайте вопрос себе: что вы забрали у себя?
Тут в разговор встрял телефон и врубашечный отвлекся.
— Говорите. Записываю… Как половина? А где вторая? Ну, все правильно. Вот пусть и остальное везут туда же, в морг.
Жигмонд спустился по лестнице и в третий раз за день вышел на улицу. Послеобеденное солнце сыто катилось на запад, людей на улицах стало меньше и в пространстве проступили силуэты машин. Что-то мягко коснулось его груди, слегка качнув, на глаза упал какой-то морок: перила, бегущая вода и сигнальный гудок. Жигмонд вздрогнул и отскочил на тротуар. Мимо пронесся автомобиль.
В молодости у него был автомобиль. Единственный на весь двор. Но машина была не в его собственности: он был водителем важного чиновника. И пока высший чин, привезенный в министерство, рассматривал жалобы и прошения, молодой Жигмонд мог позволить себе на часок-другой отлучиться на служебном авто по личным делам.
В те времена человек на казенных колесах приравнивался к тем, кто сам был владельцем техники. А это уже положение в обществе. Другие взгляды, другие оценки, другие заведения, другие женщины. И постепенно другим становился сам человек.
— Вы всегда требуете большего, Жанна! — нервно теребя кепку, говорил Жигмонд.
— Нет, мой дорогой. Я лишь говорю, что все это мне не нужно. Мне нужны вы, и только. Ешьте суп — остынет.
— Да, конечно. С вами, женщинами, так просто никогда не бывает. Сейчас вы говорите: «Не нужно!», а завтра спросите: «А где?»
— Право, Жигмонд, вы меня обижаете. Вы, верно, общались не с теми женщинами, доставившими вам столько боли и унижений, что сейчас попросту не верите правдивой простоте. Я понимаю, что говорю, и это действительно так. Я люблю вас, не нуждаясь в подтверждении любви вашей. И никакие внешние приложения к вашей сущности не добавят вам очков. Прошу понять это и принять мои чувства к вам как факт. Ей богу, наверное, я единственная чудачка в вашей жизни, которая говорит все это вам вместо того, чтобы наоборот — слушать. Да, в наш век все очень неклассично.
— Все ваши подруги говорят, что я обычный работяга.
— Завидуют.
— Все время подсылают к вам каких-то клерков, Марков. Жарко!
— Хотят избавиться от своих ухажеров под предлогом измены. Откройте окно.
— Я не раз видел, как вы улыбались этому худосочному бухгалтеру в министерской столовой.
— Это всего лишь жест вежливости, но я не даю ему повода, если вы об этом. Вы же это не всерьез? Почему вы не едите? Суп совсем остыл, вам же еще весь день работать.
— Что-то не хочется. Такое чувство, будто на всю жизнь наелся. Я, наверное, поеду. Мне уже пора. Настроение ни к черту.
— Хорошо. Вы возьмете меня с собой? Мне нужно забрать ткань для платья. Я три недели ждала эту саржу, будь она не ладна.
— Спускайтесь, Жанна. Я пока заведу мотор.
Старый Жигмонд шел по тротуару, не замечая людей, словно бы проходя сквозь них. Грудь сдавливало и как будто рвало изнутри. Все мысли перепутались. Ноги едва касались земли, пронося его по каким-то полузнакомым или, вернее сказать, полузабытым местам. По местам, где он не появлялся уже очень давно. Дома, палисадники, дворы проносились мимо, скрипели качели, хлопали ставни, зашлась в захлебывающемся лае собака, поднялся ветер, все завертелось, закружило, вырывая последнюю надежду из слабых рук, держащихся за изгородь, взметнуло все это в воздух, пока наконец его не вынесло к мосту.
Жанна устроилась на переднем сидении, Жигмонд прикрыл за ней дверцу, обежал автомобиль и сел за руль.
— Жанна, простите меня, — сказал он, когда они выехали на проспект. — Я нисколько не сомневаюсь в ваших чувствах ко мне. Просто я не могу и мысли допустить, чтобы вы в чем-то нуждались, будучи моей женой. Ведь вы будете моей женой?
— Однако оригинально вы делаете предложение девушке, — Жанна усмехнулась, но слабая тень грусти пробежала под ее бровями.
Как же все скверно выходит, думал Жигмонд. Он взглянул на Жанну: она смотрела в окно, закусив губу. Дав волю нервам, Жигмонд не сразу заметил, что превысил скорость гораздо выше положенной.
— Что вы делаете, Жигмонд? Сбавьте, пожалуйста, — Жанна положила свою ладонь ему на колено. — Не расстраивайтесь так сильно.
— Простите меня.
— Вы слишком часто просите прощения. Вы совсем не умеете ждать, Жигмонд. Вы настолько нетерпеливы, что неудивительно, как к своим двадцати годам вы сумели получить эту должность, пусть даже для вас она и незначительна.
Она улыбнулась, и Жигмонд поймал эту улыбку. Они как раз свернули с проспекта, вышли за пределы кирпичных домов и поехали меж красивых, целиком утопающих в зелени маленьких домиков, приближаясь к мосту, соединяющем пригород с основной частью города.
— Как здесь красиво! — сказала Жанна. — Я бы хотела здесь жить.
— Я помню, вы говорили. Мы обязательно будем жить здесь, Жанна. Слышите? Обязательно!
— Я знаю.
Жигмонд взглянул на нее и попытался поцеловать.
— Мальчик! — вскрикнула Жанна. — Жигмонд! Осторожно!
Секунда, которой не хватило Жигмонду, замерла и потянулась невыносимо долго, показывая водителю, пассажиру и пятилетнему велосипедисту, какую участь приготовила для всех троих судьба, сведя их на этом мосту.
Вот Жигмонд дер-га-ет руль вле-во, машина очень ме-длен-но вы-во-ра-чи-ва-ет ко-ле-са, всем своим весом ударяясь о край ограждения, скрежещет железом оглушая, протягивается дальше вперед, передавая в салон глухой удар, толчок, дикий, безумный стон прорванной ограды, и двухтонный автомобиль разворачивает задом вправо, на другую сторону моста, как будто дикий зверь, не смогший прорваться в одном месте, ищет слабое звено в другом, зацепив передней дверью мальчишку, подминая его под себя, забирая с собой, обнимая своим изуродованным крылом — Жанна видит все это сквозь треснувшее стекло, вцепившись в обшивку салона, сопротивляясь силе тяжести, законам физики, предписанному судьбой, предначертанному временем — автомобиль бросает на бок, мнёт двухколесную «Каму», но каким-то чудом перекидывает через хрупкое тельце напуганного мальчика, чудовищно пожав тому на прощание руку, швыряет на крышу, на другой бок, как бумажный забор, комкает железо правой ограды и, взревев освобожденными колесами, выбрасывает с моста в реку.
Обессиленный за день, Жигмонд миновал оградку и остановился возле заросшей могилы под красивой немолодой березой. С холодного гранита на него с любовью и легкой тенью грусти взирала пара замечательных светло-серых глаз.
— Давненько сюда никто не приходил, — услышал он за спиной.
Смотритель лениво срубал лопатой полынь, попыхивая сигаретой.
— Впрочем, не удивительно. Живым здесь делать нечего. Место тихое, покойное, все своим чередом. А мы только за бурьяном следим.
Жигмонд оторвал взгляд от надгробия и поискал глазами, сам не понимая, что ищет.
Смотритель вздохнул.
— Туда вам, — махнул он за оградку. И не дождавшись ответа, пошел сам. Жигмонд последовал за ним и, чуть пройдя, едва не упал, прочитав на свежем новеньком надгробии собственное имя.
— Все никак привыкнуть не можете? — грустно улыбнулся смотритель. — Ничего. Поначалу все так. Потом память перестраивается: начинают забывать, что при жизни было и вспоминают — что после.
— Но почему здесь? Почему не там? — дух смотрел на могилу своей возлюбленной за оградой, как на что-то, что навсегда осталось для него недосягаемым.
— Ну как. Известно же — почему. Всех некрещеных и самоубийц хоронят здесь, за оградкой. Внутри церковь не позволяет. Не положено… Хэ! «Не положено»! — усмехнулся смотритель собственному каламбуру. — Извините. Я вам тут ничем помочь не могу. Видать, участь ваша такая.
Смотритель срезал еще пару сорняков и пошел в сторожку, пуская в небо дымные кольца.
А Жигмонд стоял возле собственной могилы, в нескольких метрах от места под заветной березой. И если бы кто-то мог видеть его сейчас, то заметил бы, как исчезает, растворяется он в воздухе, и как воздух вокруг, на несколько километров, наполняется неизбывной печалью и тоской…
Когда я пришел к управляющему домом выразить свою жалобу по поводу невыносимых для проживания условий в моей комнате, он только развел руками.
— Но кран течет. Он не закрывается, совсем! И холод собачий, — настаивал я. — Дайте мне другую комнату.
Управляющий только покачал своей неестественно маленькой головой.
— У вас же освободилась одна, — не унимался я. — Я видел: оттуда выносили вещи.
Управляющий как-то нервно улыбнулся, затряс головой, отчего она показалась еще меньше, и снова ответил отказом.
— Я требую, — твердо сказал я и твердо решил про себя, что никуда не уйду из этого чертова кабинета без ключей от новой комнаты.
— Комната, про которую вы говорите, свободна, да, — сказал управляющий. — Но, к сожалению, мы не можем вам ее сдать.
— Почему? Она забронирована? Назовите сумму, я заплачу двойную.
Я заметил, что он время от времени косится на мою руку, и потому нарочно оперся ею о конторку, надеясь, что моя давняя травма как-то повлияет на его решение.
— Видите ли, жилец, что пребывал там до недавнего времени, покончил жизнь самоубийством. Выстрелил себе в сердце. И во избежание возможных скандалов, в ближайшее время мы не заселяем в эту комнату никого, какие бы деньги нам за это ни предлагали. Извините.
— Вы обманываете меня, — я действительно ему не поверил.
— Отнюдь, — он со спокойным видом нагнулся и достал из ящика незапечатанный конверт. — Это его предсмертное письмо. В нем объясняется его поступок, и отчасти оно адресовано женщине, которой уже давным-давно нет в живых. Он прожил столько лет, но так и не смог простить себе ее смерть, в которой был виноват.
Он протянул мне конверт с разрешением прочесть и условием обязательного возврата и предложил бутылку красного вина, как небольшую компенсацию за причиненные неудобства.
Весь оставшийся вечер и часть ночи я просидел у себя в мертвецки холодном номере, осушив бутылку сухого и глотая слезы над прочитанным письмом, которое подняло на поверхность из глубин моей памяти давнее воспоминание об ужасе, что надвигался на меня, когда я, не замечая ничего вокруг, наслаждался подарком, полученным на свое пятилетие, и выехал с ним на тот злополучный мост.
Я рыдал, ненавидел себя и исступленно просил прощения у незнакомых мне людей, пока изможденный, не выбился полностью из сил и не уснул.
Историю эту, от начала и до конца, я услышал от одной женщины, лица которой давным-давно уже не надеюсь встретить среди живых.
Тогда я направлялся в Петербург, находясь в удручающем положении. Сердце мое рвалось на куски и раскаленным оловом плавило мне грудь изнутри, отчего я надеялся остудить его в охваченных льдом водах Невы. К тому же пьесы мои не ставились, и, утратив всяческий интерес к жизни вокруг, я, как обычно, просто старался что-то писать.
— Вы литератор? — первое, что спросила она у меня.
— Сценарист, — чуть с паузой дал я ответ.
— Нравится это занятие?
— Не особо.
— Откуда у вас это увечье? — неожиданно спросила она чуть погодя, глядя на мою руку.
Осколки раздробленной когда-то кости повредили нерв, отчего кисть была вынуждена принять подобие некоего оккультного жеста и остаться такой на всю жизнь.
— Неудачно упал в детстве…
— … с велосипеда?
Я посмотрел на нее, как на человека, указавшего с математической точностью, сколько у меня в карманах мелочи и сколько еще лежит в пальто за подкладкой. Она же, будто потеряв нить разговора, смотрела в окно, чуть закусив губу.
Я ответил что-то неопределенное и, решив, что разговор дальше не двинется, снова углубился в свои записи.
Впрочем, не скажу, что я тут же оставил мысли о днях, про которые ненароком напомнила мне моя собеседница. Но и они постепенно улетучились.
Спустя примерно полчаса, а может и больше, я, все так же выбитый из равновесия беспрестанными истериками своей молодой жены, от которых я, собственно, и сбежал как мальчишка под выдуманным предлогом театрального фестиваля, уже почти не понимал, что пишу. И, решив перестать терзать бумагу, собрался окончательно отложить бессмысленную писанину, как вдруг понял — в купе кто-то говорит.
Сначала я не придал этому значения, но чуть погодя в голове мелькнула мысль, что мы с моей попутчицей едем лишь вдвоем.
Осторожно выглянув из-за угла листа, я встретился с прямым взглядом моей соседки, смотревшей на меня. И слова, которые она говорила, — она говорила мне.
Признаюсь честно: я счел ее безумной. И рассказ ее показался мне не менее странным. Но встать и выйти, пусть даже под каким-нибудь предлогом и ненадолго, я не позволил себе, побоявшись обидеть или даже оскорбить пожилую женщину.
Манеры, привитые мне моей матерью, заставили меня отложить писанину, и с видом заинтересованного слушателя я сделал первый дежурный кивок.
К великому несчастью, весь мой талант, дар — если хотите, оказался бессильным перед чистым листом бумаги, когда сутки спустя, в съемной комнатушке со скверным отоплением и капающим краном, я пытался вспомнить и воссоздать все, что эта женщина рассказала мне в несущемся сквозь метель звенящей России поезде, поскольку по прошествии каких-то десяти минут ее речи я уже старался незаметно делать пометки на своих черновиках, но все это мне не сильно помогало.
Слушая ее, я опомнился, сообразив, что сижу неучтиво — подперев подбородок кулаком и открыв рот. И тогда я стал записывать. Мелкими, рваными, убогими фразочками, оборванными на полуслове, полуслоге, я метил на бумаге по полям хронику чьей-то чужой мне жизни, излагаемой в странной манере и местами вводящей меня в логические тупики. А она… она просто говорила, не сбавляя темп, и как будто совсем не обращала на меня внимания. Я же, со своей стороны, не мог записывать за ней полные предложения — иначе рисковал упустить важные моменты. Я не берусь судить, что было бы интересней и ближе к оригиналу: часть ее рассказа, записанная мною слово в слово от заглавной буквы до многоточия, или же полная история, как есть, но изложенная моим, как оказалось, небогатым языком. Позже я понял: нужно было просто слушать, и память вывела бы меня на нужную дорогу. Но что сделано — то сделано. И даже сейчас, много лет спустя, перечитывая эти записи, я, где бы ни находился, всем своим естеством переношусь, как и тогда — из грохочущего вагона в светлую просторную комнату ушедшей эпохи, оставившей после себя мелкие крупицы жизней, над одной из которых, как колокол поднебесной, с нотками печали, раздается голос моей давней попутчицы, имени которой я не спросил, позже коря себя за невежество. Но, впрочем, оно узнаваемо в тексте, поскольку единственно.
Ведь именно с ним на устах…
…Жигмонд проснулся утром с неясным чувством. Раньше он всегда просыпался, сладко потягиваясь и пару раз причмокнув. Но в этот раз что-то было не так. Не отрывая затылка от подушки, он оглядел глазами потолок и снова испытал это необъяснимое чувство. Пустая и тихая комната будто давила на него, прижимая к постели. Жигмонд попробовал потянуться, но получилось не так сладко. Причмокнул раз, причмокнул два — ничего. Определенно утро было другим. Наконец он сел в кровати и опустил ноги на пол. Тяжесть в груди не проходила. Вместе с тем он ощущал некую пустоту, в которой находился. Обежав глазами комнату, все еще тихую и пустую, он остановил свой взгляд на прикроватной тумбочке, на которой, поставленный с вечера, пустовал штоф, стоял полированный ящичек с откинутой крышкой под надписью «Colt» и лежал конверт. Жигмонда не отпускало ощущение, будто что-то ушло. Но что и куда, он, как бы сильно ни пытался, понять не мог.
Он посмотрел на свои голые ноги, стоявшие на полу рядом с тапочками, пошевелил сухими пальцами, сунул ноги в тапочки и попытался встать. Тело, окруженное пустотой, поднялось с простыней, бесшумно увлекая за собой на невидимой цепи недавно приобретенную тяжесть. В груди болело, но Жигмонду показалось, что боль стала меньше, или же он просто успел к ней привыкнуть. Медленной стариковской походкой он прошел мимо зеркала, силясь понять, потерял ли он все-таки что-то или нет. Подошел к секретеру, проверил замочную скважину — исчезнувший недавно ключ был на месте. Что же тогда пропало? На кухне он заглянул в буфет, попутно проверив в прихожей калоши. В чулане все лежало на своих местах. Все было там, где и всегда и многие долгие годы до этого. Но все же Жигмонду казалось, что чего-то не хватает, какой-то… частицы.
И Жигмонд снова испытал то чувство тяжелой пустоты. Внезапно и совершенно неожиданно он понял, что ощутил себя несчастным. Даже не столько отсутствие счастья огорчило Жигмонда, сколько то, что само Счастье потеряло какую-то часть себя. Как будто он чего-то не дождался, совсем чуть-чуть.
Осознав это, он еще раз пробежался, но уже мысленно, по своему жилищу и вернулся ни с чем к себе, сидящему в ночной рубахе на незаправленной постели. Счастье было частично. Точнее: его частично не было. И часть, пропавшая из него, оставила после себя лишь дыру и пару букв: с _ _ _ _ _ е.
Ноги зябли. Жигмонд посмотрел вниз и увидел пустые тапочки, ровно стоящие рядом с голыми пятками. Не выдержав груза домыслов, Жигмонд сам грузно свалился в обморок.
Очнувшись, он поймал себя на мысли, что уже второй раз за утро встает с постели.
— Нет. Так не годится, — проговорил он. — Совсем не годится.
Спустя некоторое время он вышел из подъезда дома, в котором жил, и остановился в нерешительности. Что он собирается делать? Куда решил идти?
Он обернулся и подумал, что двери подъезда…
Открыты были обе створки. Обычно открыта только одна, вторую же открывают нечасто, лишь по определенным случаям.
Двор был безлюден. Только со стороны дворницкой в сторону Жигмонда шел один-единственный человек. Человек шел, не замечая его, и тогда Жигмонд протянул руку:
— Простите, уважаемый…
Но человек вскрикнул, затряс своей маленькой головой и побежал куда-то в сторону от намеченного пути.
Жигмонд посмотрел на свою руку, убрал ее в карман и пошел со двора. Человек с маленькой головой тряс за воротник дворника, тыча пальцем в сторону Жигмонда, и что-то кричал.
В поисках с _ _ _ _ _ я Жигмонд был не силен, поскольку само Счастье давалось также не каждому. Что уж тут говорить про ч а с т ь? Он безвекторно бродил по проспектам, переходя от одного к другому переулками и читая вывески, раскачивающиеся над головой. Люди, встречавшиеся Жигмонду, словно вторили его поискам своими согнутыми в вопросительные знаки спинами: «Где?»
И как бы пытаясь вынырнуть из серого потока, Жигмонд выпрямлял над другими спинами свою, встав на какой-нибудь поребрик, и поднимался над тьмой теменей.
Все эти сутулые люди, думал Жигмонд, смотрят себе под ноги не из боязни упасть: они ищут дорогу из желтого кирпича, в конце которой получат: кто — сердце, кто — мозги, кто — повышение. Каждый хочет идти по чужой дороге.
На одном из перекрестков Жигмонд увидел группу арабов, подбивающих киянками — брусок к бруску — тротуар. Работа этих людей заставила Жигмонда остановиться: и в мыслях, и на ходу. Для кого строят дороги — они? Не для себя — уж это точно. Они достроят и уедут домой. И никогда в жизни не ступят на нее своими ногами.
Оказавшись в смысловом тупике, Жигмонд стал искать выход, переводя взгляд на осязаемое. И тут его зрачки вцепились в десятибуквие на другом берегу улицы: автомобили. А под ними пояснение: Зап.Части. В грудь Жигмонда ударило: нашел. Недолго думая, он перебежал дорогу вильнувшему автобусу, подошел к запыленной двери и потянул ручку на себя.
Внутри пахло соляркой и железом, веселыми женщинами и бесперспективностью. Под потолком висел кабриолет без правого переднего колеса, на подмостках под ним лежал человек в комбинезоне. В руках у него был шланг с сжатым воздухом, в голове же — мысли о Сонечке и свободной квартирке на углу Кропоткина и 9-й Промежуточной.
Внизу, на тахте, сидел другой, в спецовке, и, остужая чай, разгадывал кроссворд. В его голове роились мысли разного толка, только не о работе.
— А я говорю, он специально руль вывернул, — крикнул тот, что сверху, в комбинезоне. — Смотри, как колесо вырвало — не иначе доняло беднягу что-то, вот и решил свести счеты.
— Их там двое было — сам же видел, — ответил нижний, в спецовке. — Думаешь, он за собой хотел утянуть кого-то? Нет, просто это мы с тобой чего-то не знаем. «В интересах следствия», как говорится. Скажи-ка лучше: по вертикали, семь букв. Первая «С», последняя — «Е». «Состояние покоя».
— Седьмое! — не раздумывая выкрикнул Комбинезон.
— Что — седьмое?
— Ну, есть первое блюдо, есть — второе. Хотя первое можно не есть, если есть второе. Потом третье. А считай — седьмое тогда тоже должно быть. А если есть, то это точно покой. После седьмого-то перебортовать колеса никого не загонишь. Верно я говорю?
— Вроде верно. Только ты опять про жратву. У тебя все про жратву. Только с Хайямом угадал.
— Может быть, «счастье»? — кашлянув, сказал Жигмонд.
Комбинезон стукнулся лбом о бампер. Спецовка обварил чаем нёбо.
— Отец, мать тя! — выругался Комбинезон. — Стучаться надо.
— Замолкни, дурень! — крикнул Спецовка. — Простите его. Сразу видно: как человек начал работать руками, так сразу язык грязным стал. Что вы хотели?
— Слово. Из семи букв, — повторил Жигмонд. — Может быть, это «счастье»?
Спецовка повел карандашом по клеточкам:
— Хм. Подходит. И по смыслу тоже.
Жигмонд улыбнулся:
— Ну, так вставляйте.
На этот раз улыбнулся Спецовка:
— Э-э, — махнул он рукой. — Да разве ж это деталь, чтобы так запросто вставить?
Жигмонд посмотрел в его глаза и подумал, что руки этого человека могли бы сделать куда больше, если бы он дал свободу мыслям.
— Сиденье! — крикнул из салона кабриолета Комбинезон.
— Что?
— Сиденье, говорю, менять надо. Это ни к черту не годится. Прорвалось все. Видать, там же, на мосту.
Жигмонд снова улыбнулся, попрощался с хозяевами и, не дождавшись ответа, вышел в задверье.
— Сиденье-сиденье, — бормотал Спецовка. — Тоже подходит. Состояние покоя! — сиденье! Отец, слышь?
Но Жигмонд уже снова стучал каблуками по тротуару. В груди его вновь чувствовалась пустота, дополнившаяся теперь жаром.
С этой стороны улицы на стенах домов было больше окон. И жизнь, бурлившая по эту сторону кирпича, кипела и по ту.
Жигмонду попадались различные названия улиц, о существовании которых он и не догадывался.
Например: «Бумажный проезд. Стр. 1» (строение или страница?)
Звонки с фамилиями жильцов:
1. Глухой А.Сь.
2. Граблидляв А.С.
3. Выбывший З.Ч.
4. Жмидваж Д.Ы.
5. Коти К. и Т.
6. Никогон Е.Т.
7. Ктот-Одо Н.Э.
Пивная, откуда выпадали тела, словно она изрыгала их, делала с людьми удивительные вещи: человек, входящий в нее, шел уверенной походкой, точно зная, чего хочет и куда идет. Человек же выходящий не был уверен практически ни в чем, напрочь забывая, кто он, для чего создан на этот свет и чего хочет от жизни.
Над крыльцом, располагавшимся тем же рядом, вывеска скромно сообщала, что за дверью находится:
«Дежурная часть».
Частично Жигмонд понимал, что здесь найти искомое, не выявив порока у себя, удастся вряд ли. Но все же переступил порог.Человек за стеклом с надписью «Дежурный» с дежурным выражением глаз приветил Жигмонда:
— Что у вас?
— Несчастье.
— Частное лицо, — записал дежурный. — Несчастье… В чем ваше несчастье?
— Видите ли, сегодня с утра, когда я проснулся, я обнаружил, что у меня что-то пропало.
— Пропажа, — записал дежурный. — Подозреваете кого-то в краже?
— Нет, что вы. Скорее наоборот: хотел бы, чтоб это было так.
— Но это не так?
— Не так.
— А как?
— Пусто. Как брутто без нетто.
Жигмонд помолчал и повторил:
— Пусто.
Дежурный погрыз карандаш и ответил:
— Пройдите в кабинет двадцать семь. Второй этаж. Думаю, там вам больше помогут.
Проемы кабинетных дверей, как бойницы смотрящих друг на друга каравелл: от каждой веяло опасностью и недружелюбием.
— Свидетель вроде бы имеется, — раздалось за одной из них. — Мальчонка.
— Уже допросили?
— Нет пока. Он в больнице.
— Дело серьезное?
— Швы на руку накладывают. Фортепьяно, сказали, не светит.
— Что-то видел?
— Всё.
Искомая дверь нашлась в конце коридора, на ручке висела табличка:
«На участке».
Спустившись обратно, он подошел к дежурному.
— Закрыто? Так оно и понятно, — сказал дежурный, — вы же без бумаги пошли. Сейчас я вам выпишу.
Выдернув бланк из-под запыленной пачки различных папок, дежурный чиркнул пару завитушек, попросил расписаться в журнале и снова отправил Жигмонда наверх, на этот раз проводив его до самой лестницы, и остался стоять внизу до тех пор, пока Жигмонд не поднялся и не свернул в коридор.
В междверье было все так же недвижно. Пройдя, как завсегдатай, до самого конца, Жигмонд постучался в дверь с номером 27. В руках, как священное писание, держал он бланк дежурного. Таблички на дверной ручке уже не было.
— Обед! — крикнул ему прямо в ухо подошедший сзади человек в рубашке, вошел внутрь и захлопнул за собой дверь.
Бланк опадающим листком мягко опустился на пол и, затянутый сквозняком, скользнул в щель под дверью.
Дверной хлопок прокатился по коридору, продолжая звенеть в ушах Жигмонда.
— Так оно и понятно, — сказал дежурный, вытирая с усов куриный жир и заворачивая косточки в газету, — с самого утра на участке. Тут любой орать будет. Чаю хотите?
Спустя полчаса Жигмонд постучал в двадцать седьмую дверь.
— Войдите, — тут же раздалось с той стороны.
Человек в рубашке стоял коленом на стуле и закрывал форточку. К подошве ботинка прилип упорхнувший бланк.
— Вы по какому вопросу? Где ваши бумаги? Присаживайтесь.
Врубашечный отцепил бланк от ботинка, просмотрел его и, скомкав, бросил в урну.
— Я вас слушаю.
Жигмонд, боясь упустить момент, вкратце, но с деталями описал ему свое сегодняшнее утро. После чего наступила небольшая пауза.
Хозяин кабинета вздохнул, почесал затылок и посмотрел на говорившего.
— В моем доме есть мыши. Много мышей. Я убиваю их при всякой возможности. На кота надежды нет. Все приходится делать самому. Чаще спасают мышеловки. Хрясь! — и нет грызуна. Но тревожит меня вот какая мысль: ведь мышь — это маленький хищник, в смысле мелкие хищения производимые ею доводят до крупных убытков. И с поличным вроде как сложно застать эту тать. А значит — пружинный механизм, кусочек сыра, а дальше азарт. Так вот сама мысль: в мышеловке приманка подложена специально, как провокация. А это уже несчитово. Выходит, я нечестно веду бой. И мышь незаслуженно ломает позвонки, а я по звонку бегу менять ловушку. К чему я веду — если бы я, как вы, наверняка знал, что мышей нет, а сыр пропадал бы так же, я бы в первую очередь спросил об этом самого себя. Что и вам советую. Задайте вопрос себе: что вы забрали у себя?
Тут в разговор встрял телефон и врубашечный отвлекся.
— Говорите. Записываю… Как половина? А где вторая? Ну, все правильно. Вот пусть и остальное везут туда же, в морг.
Жигмонд спустился по лестнице и в третий раз за день вышел на улицу. Послеобеденное солнце сыто катилось на запад, людей на улицах стало меньше и в пространстве проступили силуэты машин. Что-то мягко коснулось его груди, слегка качнув, на глаза упал какой-то морок: перила, бегущая вода и сигнальный гудок. Жигмонд вздрогнул и отскочил на тротуар. Мимо пронесся автомобиль.
В молодости у него был автомобиль. Единственный на весь двор. Но машина была не в его собственности: он был водителем важного чиновника. И пока высший чин, привезенный в министерство, рассматривал жалобы и прошения, молодой Жигмонд мог позволить себе на часок-другой отлучиться на служебном авто по личным делам.
В те времена человек на казенных колесах приравнивался к тем, кто сам был владельцем техники. А это уже положение в обществе. Другие взгляды, другие оценки, другие заведения, другие женщины. И постепенно другим становился сам человек.
— Вы всегда требуете большего, Жанна! — нервно теребя кепку, говорил Жигмонд.
— Нет, мой дорогой. Я лишь говорю, что все это мне не нужно. Мне нужны вы, и только. Ешьте суп — остынет.
— Да, конечно. С вами, женщинами, так просто никогда не бывает. Сейчас вы говорите: «Не нужно!», а завтра спросите: «А где?»
— Право, Жигмонд, вы меня обижаете. Вы, верно, общались не с теми женщинами, доставившими вам столько боли и унижений, что сейчас попросту не верите правдивой простоте. Я понимаю, что говорю, и это действительно так. Я люблю вас, не нуждаясь в подтверждении любви вашей. И никакие внешние приложения к вашей сущности не добавят вам очков. Прошу понять это и принять мои чувства к вам как факт. Ей богу, наверное, я единственная чудачка в вашей жизни, которая говорит все это вам вместо того, чтобы наоборот — слушать. Да, в наш век все очень неклассично.
— Все ваши подруги говорят, что я обычный работяга.
— Завидуют.
— Все время подсылают к вам каких-то клерков, Марков. Жарко!
— Хотят избавиться от своих ухажеров под предлогом измены. Откройте окно.
— Я не раз видел, как вы улыбались этому худосочному бухгалтеру в министерской столовой.
— Это всего лишь жест вежливости, но я не даю ему повода, если вы об этом. Вы же это не всерьез? Почему вы не едите? Суп совсем остыл, вам же еще весь день работать.
— Что-то не хочется. Такое чувство, будто на всю жизнь наелся. Я, наверное, поеду. Мне уже пора. Настроение ни к черту.
— Хорошо. Вы возьмете меня с собой? Мне нужно забрать ткань для платья. Я три недели ждала эту саржу, будь она не ладна.
— Спускайтесь, Жанна. Я пока заведу мотор.
Старый Жигмонд шел по тротуару, не замечая людей, словно бы проходя сквозь них. Грудь сдавливало и как будто рвало изнутри. Все мысли перепутались. Ноги едва касались земли, пронося его по каким-то полузнакомым или, вернее сказать, полузабытым местам. По местам, где он не появлялся уже очень давно. Дома, палисадники, дворы проносились мимо, скрипели качели, хлопали ставни, зашлась в захлебывающемся лае собака, поднялся ветер, все завертелось, закружило, вырывая последнюю надежду из слабых рук, держащихся за изгородь, взметнуло все это в воздух, пока наконец его не вынесло к мосту.
Жанна устроилась на переднем сидении, Жигмонд прикрыл за ней дверцу, обежал автомобиль и сел за руль.
— Жанна, простите меня, — сказал он, когда они выехали на проспект. — Я нисколько не сомневаюсь в ваших чувствах ко мне. Просто я не могу и мысли допустить, чтобы вы в чем-то нуждались, будучи моей женой. Ведь вы будете моей женой?
— Однако оригинально вы делаете предложение девушке, — Жанна усмехнулась, но слабая тень грусти пробежала под ее бровями.
Как же все скверно выходит, думал Жигмонд. Он взглянул на Жанну: она смотрела в окно, закусив губу. Дав волю нервам, Жигмонд не сразу заметил, что превысил скорость гораздо выше положенной.
— Что вы делаете, Жигмонд? Сбавьте, пожалуйста, — Жанна положила свою ладонь ему на колено. — Не расстраивайтесь так сильно.
— Простите меня.
— Вы слишком часто просите прощения. Вы совсем не умеете ждать, Жигмонд. Вы настолько нетерпеливы, что неудивительно, как к своим двадцати годам вы сумели получить эту должность, пусть даже для вас она и незначительна.
Она улыбнулась, и Жигмонд поймал эту улыбку. Они как раз свернули с проспекта, вышли за пределы кирпичных домов и поехали меж красивых, целиком утопающих в зелени маленьких домиков, приближаясь к мосту, соединяющем пригород с основной частью города.
— Как здесь красиво! — сказала Жанна. — Я бы хотела здесь жить.
— Я помню, вы говорили. Мы обязательно будем жить здесь, Жанна. Слышите? Обязательно!
— Я знаю.
Жигмонд взглянул на нее и попытался поцеловать.
— Мальчик! — вскрикнула Жанна. — Жигмонд! Осторожно!
Секунда, которой не хватило Жигмонду, замерла и потянулась невыносимо долго, показывая водителю, пассажиру и пятилетнему велосипедисту, какую участь приготовила для всех троих судьба, сведя их на этом мосту.
Вот Жигмонд дер-га-ет руль вле-во, машина очень ме-длен-но вы-во-ра-чи-ва-ет ко-ле-са, всем своим весом ударяясь о край ограждения, скрежещет железом оглушая, протягивается дальше вперед, передавая в салон глухой удар, толчок, дикий, безумный стон прорванной ограды, и двухтонный автомобиль разворачивает задом вправо, на другую сторону моста, как будто дикий зверь, не смогший прорваться в одном месте, ищет слабое звено в другом, зацепив передней дверью мальчишку, подминая его под себя, забирая с собой, обнимая своим изуродованным крылом — Жанна видит все это сквозь треснувшее стекло, вцепившись в обшивку салона, сопротивляясь силе тяжести, законам физики, предписанному судьбой, предначертанному временем — автомобиль бросает на бок, мнёт двухколесную «Каму», но каким-то чудом перекидывает через хрупкое тельце напуганного мальчика, чудовищно пожав тому на прощание руку, швыряет на крышу, на другой бок, как бумажный забор, комкает железо правой ограды и, взревев освобожденными колесами, выбрасывает с моста в реку.
Обессиленный за день, Жигмонд миновал оградку и остановился возле заросшей могилы под красивой немолодой березой. С холодного гранита на него с любовью и легкой тенью грусти взирала пара замечательных светло-серых глаз.
— Давненько сюда никто не приходил, — услышал он за спиной.
Смотритель лениво срубал лопатой полынь, попыхивая сигаретой.
— Впрочем, не удивительно. Живым здесь делать нечего. Место тихое, покойное, все своим чередом. А мы только за бурьяном следим.
Жигмонд оторвал взгляд от надгробия и поискал глазами, сам не понимая, что ищет.
Смотритель вздохнул.
— Туда вам, — махнул он за оградку. И не дождавшись ответа, пошел сам. Жигмонд последовал за ним и, чуть пройдя, едва не упал, прочитав на свежем новеньком надгробии собственное имя.
— Все никак привыкнуть не можете? — грустно улыбнулся смотритель. — Ничего. Поначалу все так. Потом память перестраивается: начинают забывать, что при жизни было и вспоминают — что после.
— Но почему здесь? Почему не там? — дух смотрел на могилу своей возлюбленной за оградой, как на что-то, что навсегда осталось для него недосягаемым.
— Ну как. Известно же — почему. Всех некрещеных и самоубийц хоронят здесь, за оградкой. Внутри церковь не позволяет. Не положено… Хэ! «Не положено»! — усмехнулся смотритель собственному каламбуру. — Извините. Я вам тут ничем помочь не могу. Видать, участь ваша такая.
Смотритель срезал еще пару сорняков и пошел в сторожку, пуская в небо дымные кольца.
А Жигмонд стоял возле собственной могилы, в нескольких метрах от места под заветной березой. И если бы кто-то мог видеть его сейчас, то заметил бы, как исчезает, растворяется он в воздухе, и как воздух вокруг, на несколько километров, наполняется неизбывной печалью и тоской…
Когда я пришел к управляющему домом выразить свою жалобу по поводу невыносимых для проживания условий в моей комнате, он только развел руками.
— Но кран течет. Он не закрывается, совсем! И холод собачий, — настаивал я. — Дайте мне другую комнату.
Управляющий только покачал своей неестественно маленькой головой.
— У вас же освободилась одна, — не унимался я. — Я видел: оттуда выносили вещи.
Управляющий как-то нервно улыбнулся, затряс головой, отчего она показалась еще меньше, и снова ответил отказом.
— Я требую, — твердо сказал я и твердо решил про себя, что никуда не уйду из этого чертова кабинета без ключей от новой комнаты.
— Комната, про которую вы говорите, свободна, да, — сказал управляющий. — Но, к сожалению, мы не можем вам ее сдать.
— Почему? Она забронирована? Назовите сумму, я заплачу двойную.
Я заметил, что он время от времени косится на мою руку, и потому нарочно оперся ею о конторку, надеясь, что моя давняя травма как-то повлияет на его решение.
— Видите ли, жилец, что пребывал там до недавнего времени, покончил жизнь самоубийством. Выстрелил себе в сердце. И во избежание возможных скандалов, в ближайшее время мы не заселяем в эту комнату никого, какие бы деньги нам за это ни предлагали. Извините.
— Вы обманываете меня, — я действительно ему не поверил.
— Отнюдь, — он со спокойным видом нагнулся и достал из ящика незапечатанный конверт. — Это его предсмертное письмо. В нем объясняется его поступок, и отчасти оно адресовано женщине, которой уже давным-давно нет в живых. Он прожил столько лет, но так и не смог простить себе ее смерть, в которой был виноват.
Он протянул мне конверт с разрешением прочесть и условием обязательного возврата и предложил бутылку красного вина, как небольшую компенсацию за причиненные неудобства.
Весь оставшийся вечер и часть ночи я просидел у себя в мертвецки холодном номере, осушив бутылку сухого и глотая слезы над прочитанным письмом, которое подняло на поверхность из глубин моей памяти давнее воспоминание об ужасе, что надвигался на меня, когда я, не замечая ничего вокруг, наслаждался подарком, полученным на свое пятилетие, и выехал с ним на тот злополучный мост.
Я рыдал, ненавидел себя и исступленно просил прощения у незнакомых мне людей, пока изможденный, не выбился полностью из сил и не уснул.



