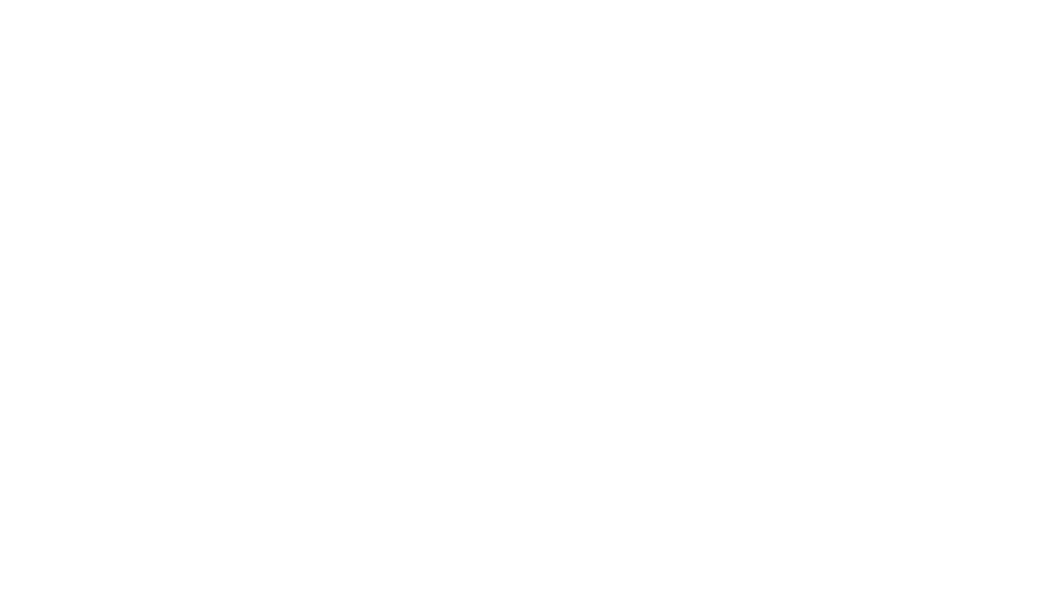
Шагая в пропасть
Круглый стол о книге А.Переверзина «Ежедневная пропасть», Prosodia, 2024
Круглый стол о книге А.Переверзина «Ежедневная пропасть», Prosodia, 2024
Участвуют: Владимир Козлов, Евгений Абдуллаев, Мария Тухватуллина, Константин Комаров, Михаил Рантович
Мария Затонская: Начну с вопроса Владимиру Козлову. Почему вы решили издать «Ежедневную пропасть» Александра Переверзина? По какому принципу составляется серия «Действующие лица»?
Владимир Козлов: Я издаю только те книги, которые нельзя не издать. Серию «Действующие лица» мы с Сашей придумали вместе, и она начиналась силами тогда еще существовавшего издательства «Воймега» и журнала «Prosodia». Был важный повод: в феврале Саше исполнилось 50 лет, а предыдущая книга – избранное, состоящее из текстов 2011-2019 гг., – вышла в 2020 году. Поскольку большие юбилеи в литературной жизни принято отмечать, Саше нужна была книга.
Несмотря на то, что он мало пишет, я понимаю, что Переверзин где-то в центре литературного процесса. И последние 3-4 года у него, мне кажется, выдался продуктивный период. Саша во весь рост перенес ковид: честно месяц отлежал в больнице, насмотрелся всякого, позднее у него появился пласт стихов, связанный с этим опытом. События 2022 года тоже вызвали его реакцию. Собрался сильный материал из стихов, написанных в последние три года. На мой взгляд, он мог бы сделать книгу новых стихов, но он предпочел смесь избранного из текстов разных периодов.
В общем, эту книгу я, конечно, не мог не издать.
Мария Затонская: Вы сказали, что Переверзин в центре литературного процесса? Почему он важная фигура, в том числе как поэт?
Владимир Козлов: Здесь сложно отделить одно от другого. Он сыграл очень важную роль как издатель и руководитель «Воймеги». В те годы, когда все варианты актуального письма цвели буйным цветом, он вокруг себя объединял людей, которые в смысле новаторства шли более сложным путем. Быть новатором внутри традиции гораздо сложнее, как и разглядеть это новаторство.
Владимир Козлов: Я издаю только те книги, которые нельзя не издать. Серию «Действующие лица» мы с Сашей придумали вместе, и она начиналась силами тогда еще существовавшего издательства «Воймега» и журнала «Prosodia». Был важный повод: в феврале Саше исполнилось 50 лет, а предыдущая книга – избранное, состоящее из текстов 2011-2019 гг., – вышла в 2020 году. Поскольку большие юбилеи в литературной жизни принято отмечать, Саше нужна была книга.
Несмотря на то, что он мало пишет, я понимаю, что Переверзин где-то в центре литературного процесса. И последние 3-4 года у него, мне кажется, выдался продуктивный период. Саша во весь рост перенес ковид: честно месяц отлежал в больнице, насмотрелся всякого, позднее у него появился пласт стихов, связанный с этим опытом. События 2022 года тоже вызвали его реакцию. Собрался сильный материал из стихов, написанных в последние три года. На мой взгляд, он мог бы сделать книгу новых стихов, но он предпочел смесь избранного из текстов разных периодов.
В общем, эту книгу я, конечно, не мог не издать.
Мария Затонская: Вы сказали, что Переверзин в центре литературного процесса? Почему он важная фигура, в том числе как поэт?
Владимир Козлов: Здесь сложно отделить одно от другого. Он сыграл очень важную роль как издатель и руководитель «Воймеги». В те годы, когда все варианты актуального письма цвели буйным цветом, он вокруг себя объединял людей, которые в смысле новаторства шли более сложным путем. Быть новатором внутри традиции гораздо сложнее, как и разглядеть это новаторство.
В те годы, когда все варианты актуального письма цвели буйным цветом, Переверзин вокруг себя объединял людей, которые в смысле новаторства шли более сложным путем. Потому что быть новатором внутри традиции гораздо сложнее.
Он 20 лет скромно издавал свое и более молодое поколение, ориентированное на вдумчивую работу с большой традицией. Саша стал центром притяжения, с ним можно было взаимодействовать и в то же время быть частью этой линии в поэзии. То, что делала Воймега, – это очень широкая колея, это отнюдь не сужение литературного процесса. А в прошлом году, как вы знаете, Саша создал «Пироскаф» и после определенной передышки так триумфально вернулся в литературный процесс. И жизнь закипела, много мероприятий, имен сразу вокруг.
Я писал о его стихах: большая статья открывала книгу избранного 2020 года «Вы находитесь здесь». Его поэзия принята как некое явление. Когда люди знают какой-то набор текстов – это уже немало. Но процесс рефлексии над тем, что он делает, только начинается.
Мария Затонская: Как выстраивалась концепция этой книги? Это было общее решение, сделать именно так, или это было решение автора?
Владимир Козлов: Я не составлял эту книгу. Если автору нужна помощь в составлении, она ему оказывается. Но если поэт, который не очень часто выпускает свои книги, составляет тоненькую книжку на 58 страниц, просто надо дать ему возможность ее издать так, как он это видит. Я видел, что книжка целостная и продуманная: он прислал ее в декабре, и она вышла в конце января.
Мария Затонская: У Елены Погорелой вышла статья в «Вопросах литературы»[1], где она отмечает: «Переверзин мыслит не столько единицей текста или подборки, сколько именно целостным книжным высказыванием, и каждая его книга становится важной репликой в диалоге не только о современной поэзии, но и о современности как таковой». Можно ли книгу «Ежедневная пропасть» сформулировать как некую реплику? Как она может звучать и встроиться в современность?
Владимир Козлов: Очень сложный вопрос, он сразу требует обобщения. Мне кажется, что современность Саша использует скорее для того, чтобы от нее всякий раз уйти куда-то в сферу тайны. Какой бы агрессивной современность ни была, он всегда ее переворачивает. Вернее, она всегда оказывается на фоне ежедневной бездны, за которой смерть, Бог, тайна. Вещи, которыми человек не способен управлять, с которыми он просто соприкасается, находясь в изумлении и ужасе. И которые из человека достают что-то, чем он не управляет.
Я писал о его стихах: большая статья открывала книгу избранного 2020 года «Вы находитесь здесь». Его поэзия принята как некое явление. Когда люди знают какой-то набор текстов – это уже немало. Но процесс рефлексии над тем, что он делает, только начинается.
Мария Затонская: Как выстраивалась концепция этой книги? Это было общее решение, сделать именно так, или это было решение автора?
Владимир Козлов: Я не составлял эту книгу. Если автору нужна помощь в составлении, она ему оказывается. Но если поэт, который не очень часто выпускает свои книги, составляет тоненькую книжку на 58 страниц, просто надо дать ему возможность ее издать так, как он это видит. Я видел, что книжка целостная и продуманная: он прислал ее в декабре, и она вышла в конце января.
Мария Затонская: У Елены Погорелой вышла статья в «Вопросах литературы»[1], где она отмечает: «Переверзин мыслит не столько единицей текста или подборки, сколько именно целостным книжным высказыванием, и каждая его книга становится важной репликой в диалоге не только о современной поэзии, но и о современности как таковой». Можно ли книгу «Ежедневная пропасть» сформулировать как некую реплику? Как она может звучать и встроиться в современность?
Владимир Козлов: Очень сложный вопрос, он сразу требует обобщения. Мне кажется, что современность Саша использует скорее для того, чтобы от нее всякий раз уйти куда-то в сферу тайны. Какой бы агрессивной современность ни была, он всегда ее переворачивает. Вернее, она всегда оказывается на фоне ежедневной бездны, за которой смерть, Бог, тайна. Вещи, которыми человек не способен управлять, с которыми он просто соприкасается, находясь в изумлении и ужасе. И которые из человека достают что-то, чем он не управляет.
Какой бы агрессивной современность ни была, Переверзин всегда ее переворачивает. Вернее, она всегда оказывается на фоне ежедневной бездны, за которой смерть, Бог, тайна. Вещи, которыми человек не способен управлять, с которыми он просто соприкасается, находясь в изумлении и ужасе. И которые из человека достают что-то, чем он не управляет.
Главное событие в этой поэзии – это встреча с Тайной. И я бы назвал Сашу наследником символистов, которых перестали различать, потому что они впитали в себя опыт шедших за ними акмеистов. Саша – очень вещественный, предметный автор: его поэзия конкретна, со множеством бытовых деталей. Поэтому мы не замечаем момента, когда он шагает в эту пропасть. А он шагает. И это отличает символистское мышление от акмеистического.
Он всегда шагает в эту пропасть. И поэтому его сдержанность и неброскость оказываются противовесом серьезного испытания, которое происходит в поэзии. Вот, наверное, это главное. Все остальные мысли про него выходят из этого ощущения.
Мария Затонская: Евгений, а что вы думаете о современности в стихах Переверзина и о современности его стихов вообще?
Евгений Абдуллаев: Сложно говорить о современности современной поэзии: она многослойна. В нашей современности живут авторы разных поколений, которые не совпадают по времени рождения, взросления и прочее. В ней существуют разные вещи: какие-то созданы буквально только что – ещё, так сказать, пахнут маслом, а какие-то – очень давно. Не стоит поддаваться ложному обаянию этого слова, как будто «вот вчера было другое, а то, что сегодня, уже современное». Тем более этого совсем не стоит делать, когда мы говорим о поэзии Александра Переверзина.
Она сама по себе состоит из очень разных временных слоев. Она наследует многому и с этими традициями разным образом работает. Например, с традицией символистов и особенно акмеистов – тут я полностью с Владимиром согласен. Это то, что сразу видно: предметность, вещность.
Переверзин работает и с традицией, условно говоря, советской поэзии, которая тоже многослойна и, как это странно ни звучит, во многом наследовала акмеизму. Влияние Пастернака на советскую поэзию, при том что его могли проклинать с трибун, было сильным. Говоря о советской поэзии, я имею в виду 60-е, и 70-е годы. Не Евтушенко, а лирическую линию и авторскую песню – Окуджаву, Ахмадулину.
Это и работа с современной поэзией, которая возникла уже в 90-е годы и открыта поиску. Но назвать Александра экспериментатором было бы не совсем правильно. Он не экспериментирует ради эксперимента, чтобы получить что-то вроде бы новое, а все остальное отбросить. При этом от книги к книге этот процесс поиска, неожиданностей возрастает. Это все тот же самый Александр Переверзин, но я не представляю в первой книге что-нибудь вроде цикла Николая Вологодского или «из неотправленных писем Гамлета Офелии». Это поиск, попытка попробовать другой язык, другое слово на вкус.
Яркость, интересность Александра Переверзина – в умении переплавлять традиции и дать новый, важный результат. Главный нерв книги – это смерть, которая присутствует в большинстве стихотворений. Но это не пессимистическая поэзия. Здесь очень сильная стоическая нота. Это пропасть, но эта пропасть ежедневная. А раз она происходит ежедневно, значит, с этим можно что-то делать.
Он всегда шагает в эту пропасть. И поэтому его сдержанность и неброскость оказываются противовесом серьезного испытания, которое происходит в поэзии. Вот, наверное, это главное. Все остальные мысли про него выходят из этого ощущения.
Мария Затонская: Евгений, а что вы думаете о современности в стихах Переверзина и о современности его стихов вообще?
Евгений Абдуллаев: Сложно говорить о современности современной поэзии: она многослойна. В нашей современности живут авторы разных поколений, которые не совпадают по времени рождения, взросления и прочее. В ней существуют разные вещи: какие-то созданы буквально только что – ещё, так сказать, пахнут маслом, а какие-то – очень давно. Не стоит поддаваться ложному обаянию этого слова, как будто «вот вчера было другое, а то, что сегодня, уже современное». Тем более этого совсем не стоит делать, когда мы говорим о поэзии Александра Переверзина.
Она сама по себе состоит из очень разных временных слоев. Она наследует многому и с этими традициями разным образом работает. Например, с традицией символистов и особенно акмеистов – тут я полностью с Владимиром согласен. Это то, что сразу видно: предметность, вещность.
Переверзин работает и с традицией, условно говоря, советской поэзии, которая тоже многослойна и, как это странно ни звучит, во многом наследовала акмеизму. Влияние Пастернака на советскую поэзию, при том что его могли проклинать с трибун, было сильным. Говоря о советской поэзии, я имею в виду 60-е, и 70-е годы. Не Евтушенко, а лирическую линию и авторскую песню – Окуджаву, Ахмадулину.
Это и работа с современной поэзией, которая возникла уже в 90-е годы и открыта поиску. Но назвать Александра экспериментатором было бы не совсем правильно. Он не экспериментирует ради эксперимента, чтобы получить что-то вроде бы новое, а все остальное отбросить. При этом от книги к книге этот процесс поиска, неожиданностей возрастает. Это все тот же самый Александр Переверзин, но я не представляю в первой книге что-нибудь вроде цикла Николая Вологодского или «из неотправленных писем Гамлета Офелии». Это поиск, попытка попробовать другой язык, другое слово на вкус.
Яркость, интересность Александра Переверзина – в умении переплавлять традиции и дать новый, важный результат. Главный нерв книги – это смерть, которая присутствует в большинстве стихотворений. Но это не пессимистическая поэзия. Здесь очень сильная стоическая нота. Это пропасть, но эта пропасть ежедневная. А раз она происходит ежедневно, значит, с этим можно что-то делать.
Главный нерв книги – это смерть. Она присутствует во многих стихотворениях, скорее в большинстве. Но это не пессимистическая поэзия. Здесь очень сильная стоическая нота.
И здесь даже в бо́льшей степени, чем в тех формальных вещах, с которых я начал разговор, – в том, как он работает с темой смерти, небытия, важной для современной лирики и очень часто у многих поэтов встречающейся, для меня лично наиболее интересно и важно в Переверзине как в поэте.
Мария Затонская: Смерть – действительно здесь очень важна, мы еще поговорим о ней, о переверзинской, ежедневной. Костя, у тебя какое общее свое впечатление о книге, о Переверзине, современности, и о современности у Переверзина?
Константин Комаров: Эля (Елена Погорелая – прим.) написала хорошую статью, полную метких наблюдений, но мне бы хотелось поспорить с мыслью о том, что Переверзин мыслит книгами.
Я мыслю путь Саши стихами, а не книгами. Для него очень важна установка на штучность, единичность высказывания, которая проецируется и на книги стихов тоже. Но важнее именно стихотворение, поскольку штучность эта связана с единичностью человеческого опыта вообще, который поэт передает.
Казалось бы, он пишет о вещах элементарных и обыденных вроде перемещений в электричках. Но эта единичность опыта распахнута в сторону универсализации, которую уже каждый читатель осуществляет индивидуально. И в этом смысле поэзия Саши – абсолютная лирика, по Лидии Гинзбург, которая утверждала, что лирика отличается именно тем, что соединяет интимно личностное и универсальное. Пушкин, когда пишет конкретное посвящение Керн, конкретно любовь к Керн имеет в виду, но эта любовь становится нашей общей.
Вот у Саши это тоже есть. Каждая его поездка в электричке – это единичная поездка, но всегда с выходом в бытийность, метафизику. Это тот случай, когда маршрут железнодорожный становится маршрутом вообще человеческого существования. И тут уже можно вспомнить стихи Евгения Рейна:
В последней пустой электричке
пойми за пятнадцать минут,
что прожил ты жизнь по привычке,
кончается этот маршрут.
Это единство общего и частного видно уже в заглавии книги, где высокая абстракция,– «пропасть» со всеми ее ницшеанскими коннотациями («Ты смотришь в бездну – бездна смотрит в тебя») тут же заземляется в быт, обыденность, словом «ежедневная». Прилагательное подчеркивает метафизические сквозняки, трепещущие сквозь будни поэта.
И, благодаря этой изящной единичности опыта, стихи Саши запоминаются. Это очень хороший показатель. А запоминаются они предметным образом: я всегда помню «Чайник» – мое любимое стихотворение Саши. Они могут запоминаться строчкой («Россией правит пустота»), рифмой («Сосны/ соосны») или созвучием («Анатолий Найман/ пойман»).
И главное, что я хотел сказать про лейтмотивную эмоцию этой книги – мне кажется, ее очень чутко уловила Ольга Балла в рецензии, опубликованной в майском «Знамени». Она очень права, говоря о созидательной печали Саши Переверзина, о очень таком специфическом эмоциональном конструкте: «...он печалится по уходящему, ушедшему миру и сберегает его — то, что вообще хоть как-то поддается сбереганию»[2].
То есть эта печаль не элегийно-пассивная, хотя элегический оттенок в ней безусловно есть, а именно созидательно-сберегающая. В разочаровании много жажды жизни и витальности вопреки обреченности и катастрофизму. И не просто вопреки, а, может быть, благодаря этой обреченности, которая еще больше обостряет ощущение бытия. И печаль эта экзистенциальная.
Мария Затонская: Смерть – действительно здесь очень важна, мы еще поговорим о ней, о переверзинской, ежедневной. Костя, у тебя какое общее свое впечатление о книге, о Переверзине, современности, и о современности у Переверзина?
Константин Комаров: Эля (Елена Погорелая – прим.) написала хорошую статью, полную метких наблюдений, но мне бы хотелось поспорить с мыслью о том, что Переверзин мыслит книгами.
Я мыслю путь Саши стихами, а не книгами. Для него очень важна установка на штучность, единичность высказывания, которая проецируется и на книги стихов тоже. Но важнее именно стихотворение, поскольку штучность эта связана с единичностью человеческого опыта вообще, который поэт передает.
Казалось бы, он пишет о вещах элементарных и обыденных вроде перемещений в электричках. Но эта единичность опыта распахнута в сторону универсализации, которую уже каждый читатель осуществляет индивидуально. И в этом смысле поэзия Саши – абсолютная лирика, по Лидии Гинзбург, которая утверждала, что лирика отличается именно тем, что соединяет интимно личностное и универсальное. Пушкин, когда пишет конкретное посвящение Керн, конкретно любовь к Керн имеет в виду, но эта любовь становится нашей общей.
Вот у Саши это тоже есть. Каждая его поездка в электричке – это единичная поездка, но всегда с выходом в бытийность, метафизику. Это тот случай, когда маршрут железнодорожный становится маршрутом вообще человеческого существования. И тут уже можно вспомнить стихи Евгения Рейна:
В последней пустой электричке
пойми за пятнадцать минут,
что прожил ты жизнь по привычке,
кончается этот маршрут.
Это единство общего и частного видно уже в заглавии книги, где высокая абстракция,– «пропасть» со всеми ее ницшеанскими коннотациями («Ты смотришь в бездну – бездна смотрит в тебя») тут же заземляется в быт, обыденность, словом «ежедневная». Прилагательное подчеркивает метафизические сквозняки, трепещущие сквозь будни поэта.
И, благодаря этой изящной единичности опыта, стихи Саши запоминаются. Это очень хороший показатель. А запоминаются они предметным образом: я всегда помню «Чайник» – мое любимое стихотворение Саши. Они могут запоминаться строчкой («Россией правит пустота»), рифмой («Сосны/ соосны») или созвучием («Анатолий Найман/ пойман»).
И главное, что я хотел сказать про лейтмотивную эмоцию этой книги – мне кажется, ее очень чутко уловила Ольга Балла в рецензии, опубликованной в майском «Знамени». Она очень права, говоря о созидательной печали Саши Переверзина, о очень таком специфическом эмоциональном конструкте: «...он печалится по уходящему, ушедшему миру и сберегает его — то, что вообще хоть как-то поддается сбереганию»[2].
То есть эта печаль не элегийно-пассивная, хотя элегический оттенок в ней безусловно есть, а именно созидательно-сберегающая. В разочаровании много жажды жизни и витальности вопреки обреченности и катастрофизму. И не просто вопреки, а, может быть, благодаря этой обреченности, которая еще больше обостряет ощущение бытия. И печаль эта экзистенциальная.
В разочаровании, которого очень много в этой книге, на самом деле очень много жизни, витальности, жажды жить вопреки этой обреченности и катастрофизму. И не просто вопреки, а, может быть, благодаря этой обреченности, которая еще больше обостряет ощущение бытия. И печаль эта, конечно, не побоюсь этого слова, экзистенциальная.
Слово экзистенциальное затрёпано, но здесь его чураться не стоит, потому что эта печаль формирует оптику поэта. Мне вспоминаются два имени, сочетание которых может показаться странным – Сартр и Ахматова. Ахматова в связи с созидательной печалью: Переверзин сам себя называет «незримой печали ловец» в одном из стихотворений. Сохранение ценных обломков старого в ситуации катастрофического обновления. То, что важно сохранить, когда многое рушится, – голос, интонацию, самостояние этого голоса, самостояние этой интонации. Пушкинская печаль, конечно, в этом тоже есть: «...печаль моя светла,/ печаль моя полна тобою». Но у Переверзина вместо «тобой» (вот заметим, стихов о любви-то практически нет в этой книге) – весь мир. Мир в его разломе, мир в состоянии катастрофы. Это тот случай, когда трещина проходит сквозь сердце поэта.
Катастрофа эта, подчеркну, в очень малой степени обусловлена конкретными социально-историческими обстоятельствами – это катастрофа метафизическая, повседневная, экзистенциальная. И заземляется она в таком непритязательном пейзаже, где путаются Артур Кочерян и Артур из Кратова.
Катастрофа эта, подчеркну, в очень малой степени обусловлена конкретными социально-историческими обстоятельствами – это катастрофа метафизическая, повседневная, экзистенциальная. И заземляется она в таком непритязательном пейзаже, где путаются Артур Кочерян и Артур из Кратова.
Грибник
Если выйти на станции Ботино
и пройти метров двести назад,
справа будут кусты и болотина
и сосновый лесок, редковат.
А ещё на сосне фотография:
здесь убит был Артур Кочерян.
Грибников разношёрстная мафия
не заходит в окрестный бурьян.
Электричка обратно в полпятого.
Ходишь, думаешь: как, боже мой,
он похож на Артура из Кратова,
что держал павильон с шаурмой!
Если выйти на станции Ботино
и пройти метров двести назад,
справа будут кусты и болотина
и сосновый лесок, редковат.
А ещё на сосне фотография:
здесь убит был Артур Кочерян.
Грибников разношёрстная мафия
не заходит в окрестный бурьян.
Электричка обратно в полпятого.
Ходишь, думаешь: как, боже мой,
он похож на Артура из Кратова,
что держал павильон с шаурмой!
От этого заземления печаль еще острее, горше, прозрачнее, но и спасительнее. Потому что сама способность эту печаль чувствовать отменяет атрофию чувств. Это печаль существования, на которой держится экзистенция. Печаль вневременная.
Время в книге очень произвольно и направляется исключительно внутренними интенциями поэта: «бесконечный первый класс», «так продолжалось двести лет». Время можно крутить назад и вперед, как шестеренки. В одном из стихотворений время «безумное» и так далее.
И тут вспоминается Сартр: экзистенциализм – это гуманизм, познание бытия через ежедневное пограничное состояние. Поэт гибнет в стихотворении, чтобы воскреснуть в следующем. Вот его ежедневная пропасть, которая с каждым рассветом его поджидает.
Трагедия каждого человека, но только поэт над ней чутко рефлексирует. И спасением от этого экзистенциального краха является собственно Слово. В романе Сартра «Тошнота» Рокантен, который испытывает экзистенциальное поражение, спасается словом: он начинает писать книгу.
Печаль Переверзина открыта для тех, кто готов ее разделить. Она не запаяна, не герметична, направлена на сотворчество. Поэтому в книге столько вопросов. Вопросов не риторических, а подразумевающих ответ читателя. Например, на страницах 22-25, по-моему, идут чуть ли не три подряд стихотворения, насыщенные этими вопросами – как Саша пишет – смертоносными стрелами. И этот «слепой блеск смертоносных стрел» живет в читателе. Он живет как рана и одновременно обезболивающее. Это ли не показатель, что книга состоялась?
Это книга поражения, но поражения, оборачивающегося победой. А Сартр говорил: «Поэзия – это когда выигрывает тот, кто проигрывает. И подлинный поэт – это человек, выбирающий проигрыш (вплоть до крайней его формы – смерти) за тем, чтобы выиграть».
С этой победой я Сашу поздравляю.
Мария Тухватулина: Я хотела бы отметить, что в книге много отсылок, и это не прямые цитаты, а несколько видоизмененные. Например, «В поэзии должна быть стекловата» – параллельно к «Поэзия должна быть глуповата»: так начинается полемика. Или в последнем стихотворении сборника, заканчивающемся строками:
Там в квадратном окне
будет виден тебе кран подъемный и страшный,
Здесь же упоминается фигура отца, и, мне кажется, это отсылка к стихотворению Юрия Кузнецова, которое заканчивается:
Столб клубящейся пыли бредет,
одинокий и страшный.
Так Переверзин ведёт диалог, в том числе с поэзией поствоенного времени.
Константин упоминал определение лирики по Гинзбург, в связи с чем создается эпический контекст: говоря о личных событиях и переживаниях, Переверзин говорит о жизни всей России в определенный период. При этом сохраняется некая романтическая позиция, потому что это взгляд поэта, взгляд индивидуальности, и на это место становится и читатель.
Еще мне стал интересен омограф в названии, то есть, если бы не прилагательное, то «прóпасть» читается и как «пропáсть». Такая интересная двусмысленность.
Поэзии Переверзина присуща документальность. Тут и откровение сумасшедшего попутчика в электричке, и хроники тревожного лета – отдых на даче, конкретный маршрут на велосипеде, «дети мучили крота». Не всегда, но достаточно часто у лирического высказывания есть какая-то конкретная отправная точка: мать увидела в оконном проеме шмеля, высказывание деда о домашней скотине, фотография убитого на дереве. И это уже дает повод для глубокого высказывания.
Время в книге очень произвольно и направляется исключительно внутренними интенциями поэта: «бесконечный первый класс», «так продолжалось двести лет». Время можно крутить назад и вперед, как шестеренки. В одном из стихотворений время «безумное» и так далее.
И тут вспоминается Сартр: экзистенциализм – это гуманизм, познание бытия через ежедневное пограничное состояние. Поэт гибнет в стихотворении, чтобы воскреснуть в следующем. Вот его ежедневная пропасть, которая с каждым рассветом его поджидает.
Трагедия каждого человека, но только поэт над ней чутко рефлексирует. И спасением от этого экзистенциального краха является собственно Слово. В романе Сартра «Тошнота» Рокантен, который испытывает экзистенциальное поражение, спасается словом: он начинает писать книгу.
Печаль Переверзина открыта для тех, кто готов ее разделить. Она не запаяна, не герметична, направлена на сотворчество. Поэтому в книге столько вопросов. Вопросов не риторических, а подразумевающих ответ читателя. Например, на страницах 22-25, по-моему, идут чуть ли не три подряд стихотворения, насыщенные этими вопросами – как Саша пишет – смертоносными стрелами. И этот «слепой блеск смертоносных стрел» живет в читателе. Он живет как рана и одновременно обезболивающее. Это ли не показатель, что книга состоялась?
Это книга поражения, но поражения, оборачивающегося победой. А Сартр говорил: «Поэзия – это когда выигрывает тот, кто проигрывает. И подлинный поэт – это человек, выбирающий проигрыш (вплоть до крайней его формы – смерти) за тем, чтобы выиграть».
С этой победой я Сашу поздравляю.
Мария Тухватулина: Я хотела бы отметить, что в книге много отсылок, и это не прямые цитаты, а несколько видоизмененные. Например, «В поэзии должна быть стекловата» – параллельно к «Поэзия должна быть глуповата»: так начинается полемика. Или в последнем стихотворении сборника, заканчивающемся строками:
Там в квадратном окне
будет виден тебе кран подъемный и страшный,
Здесь же упоминается фигура отца, и, мне кажется, это отсылка к стихотворению Юрия Кузнецова, которое заканчивается:
Столб клубящейся пыли бредет,
одинокий и страшный.
Так Переверзин ведёт диалог, в том числе с поэзией поствоенного времени.
Константин упоминал определение лирики по Гинзбург, в связи с чем создается эпический контекст: говоря о личных событиях и переживаниях, Переверзин говорит о жизни всей России в определенный период. При этом сохраняется некая романтическая позиция, потому что это взгляд поэта, взгляд индивидуальности, и на это место становится и читатель.
Еще мне стал интересен омограф в названии, то есть, если бы не прилагательное, то «прóпасть» читается и как «пропáсть». Такая интересная двусмысленность.
Поэзии Переверзина присуща документальность. Тут и откровение сумасшедшего попутчика в электричке, и хроники тревожного лета – отдых на даче, конкретный маршрут на велосипеде, «дети мучили крота». Не всегда, но достаточно часто у лирического высказывания есть какая-то конкретная отправная точка: мать увидела в оконном проеме шмеля, высказывание деда о домашней скотине, фотография убитого на дереве. И это уже дает повод для глубокого высказывания.
Достаточно часто у лирического высказывания есть какая-то конкретная отправная точка: мать увидела в оконном проеме шмеля, высказывание деда о домашней скотине, фотография убитого на дереве. И это дает повод для глубокого высказывания.
Я согласна с тем, что Переверзин мыслит скорее стихами, а не книгами, потому что его произведения самодостаточны. Они узнаваемы и вне контекста этой книги. Читая, я вспоминала, где видела то или иное стихотворение. Или, скажем, мне не хватает стихотворений, которых в этой книге нет.
Интересна фигура автора: наблюдателя эпохи с интеллигентной позицией, ничего не навязывающего, а скорее передающего настроение созерцательности. Многое, о чем он пишет в этой книге, можно развернуть прозой в философский труд.
Мария Затонская: То есть ты хочешь сказать, что Переверзин философ и мог бы писать еще и философские трактаты?
Мария Тухватулина: Как минимум, где-то в подтексте это уже есть. В стихотворении может быть сюжет, но его смысл глубже происходящего события. Например, стихотворение про сумасшедшего: он едет в электричке и рассказывает попутчику свои безумные приключения по сливным трубам. Но дело не в конкретных воображаемых приключениях, а в том, в какие игры человеческий разум может играть. Упоминаются конкретные поэты, участники исторических коллизий, репрессированные и так далее. То есть речь идёт про мироощущение человека, как он мечется от эпохи к эпохе и как себя в этом раздраенном мире ощущает.
Мария Затонская: Мне показалась интересной реплика о трактовке названия: «прóпасть» – «пропáсть». Зачем, по-твоему, необходима такая двойственность?
Мария Тухватулина: Это передает некий пессимизм общей канвы сборника, при этом такой созерцательный пессимизм. Переверзин пишет и про разрушение привычного уклада жизни, упоминаются и больничные дни во время ковида, и обстановка вроде бы в мирной среде, но во время тревожных событий – распадается привычный мир, и все мы как будто куда-то падаем и пропадаем.
Мария Затонская: А ты разделяешь мнение Кости, что печаль эта светла?
Мария Тухватулина: Здесь пессимизм скорее объективность, автор не пытается как-то иначе взглянуть на окружающий мир, он видит его таким, какой он есть. Его позиция – это позиция такого пессимиста, но при этом не предполагающая деструктивности, то есть это созидательный пессимизм. Возможно, это попытка сохранить остатки смысла и красоты вокруг и внутри себя. Дети мучили крота: автор показывает, что у зла – очень глубокие корни, но при этом для людей – это обыденность. Дети не замечают, что причиняют страдания живому существу, для них это даже не игра, а просто случайность.
Интересна фигура автора: наблюдателя эпохи с интеллигентной позицией, ничего не навязывающего, а скорее передающего настроение созерцательности. Многое, о чем он пишет в этой книге, можно развернуть прозой в философский труд.
Мария Затонская: То есть ты хочешь сказать, что Переверзин философ и мог бы писать еще и философские трактаты?
Мария Тухватулина: Как минимум, где-то в подтексте это уже есть. В стихотворении может быть сюжет, но его смысл глубже происходящего события. Например, стихотворение про сумасшедшего: он едет в электричке и рассказывает попутчику свои безумные приключения по сливным трубам. Но дело не в конкретных воображаемых приключениях, а в том, в какие игры человеческий разум может играть. Упоминаются конкретные поэты, участники исторических коллизий, репрессированные и так далее. То есть речь идёт про мироощущение человека, как он мечется от эпохи к эпохе и как себя в этом раздраенном мире ощущает.
Мария Затонская: Мне показалась интересной реплика о трактовке названия: «прóпасть» – «пропáсть». Зачем, по-твоему, необходима такая двойственность?
Мария Тухватулина: Это передает некий пессимизм общей канвы сборника, при этом такой созерцательный пессимизм. Переверзин пишет и про разрушение привычного уклада жизни, упоминаются и больничные дни во время ковида, и обстановка вроде бы в мирной среде, но во время тревожных событий – распадается привычный мир, и все мы как будто куда-то падаем и пропадаем.
Мария Затонская: А ты разделяешь мнение Кости, что печаль эта светла?
Мария Тухватулина: Здесь пессимизм скорее объективность, автор не пытается как-то иначе взглянуть на окружающий мир, он видит его таким, какой он есть. Его позиция – это позиция такого пессимиста, но при этом не предполагающая деструктивности, то есть это созидательный пессимизм. Возможно, это попытка сохранить остатки смысла и красоты вокруг и внутри себя. Дети мучили крота: автор показывает, что у зла – очень глубокие корни, но при этом для людей – это обыденность. Дети не замечают, что причиняют страдания живому существу, для них это даже не игра, а просто случайность.
Время шло навстречу как безумец,
нечленораздельное бубня.
В этот год уста мои сомкнулись
и стихи оставили меня.
В сад ходил. Лежал на одеяле.
В Телеграме видел трилобит.
А вокруг друг друга обвиняли
и учили Родину любить.
Мне казалось, даже солнце косо
смотрит на меня из-за листвы.
Прилетали осы, абрикосы
были сладкосочны и чисты.
Днём спускался на велосипеде
к Ахтубе, в прохладные места
и увидел: дети
мучают крота.
Тыкают в бока сучкастой веткой,
посыпают голову песком,
пробуют попасть в него монеткой
в радостном безумии людском.
Я спросил: зачем вы так жестоки?
Много в мире горя и беды.
Вы же люди. Вы не одиноки.
Вам хватает знаний и еды.
И один ответил: мы случайно.
Я к реке погнал велосипед.
Вслед кричали яростные чайки,
ожидая завтрак и обед.
нечленораздельное бубня.
В этот год уста мои сомкнулись
и стихи оставили меня.
В сад ходил. Лежал на одеяле.
В Телеграме видел трилобит.
А вокруг друг друга обвиняли
и учили Родину любить.
Мне казалось, даже солнце косо
смотрит на меня из-за листвы.
Прилетали осы, абрикосы
были сладкосочны и чисты.
Днём спускался на велосипеде
к Ахтубе, в прохладные места
и увидел: дети
мучают крота.
Тыкают в бока сучкастой веткой,
посыпают голову песком,
пробуют попасть в него монеткой
в радостном безумии людском.
Я спросил: зачем вы так жестоки?
Много в мире горя и беды.
Вы же люди. Вы не одиноки.
Вам хватает знаний и еды.
И один ответил: мы случайно.
Я к реке погнал велосипед.
Вслед кричали яростные чайки,
ожидая завтрак и обед.
Евгений Абдуллаев: Мне кажется, реплика Марии о заглавии – случай избыточной интерпретации. Это то, что называют overinterpretation: увидеть в слове «прóпасть» еще и «пропáсть». Как будто слово «прóпасть» нам показывает что-то оптимистическое. «Прóпасть» уже достаточно пессимистично само по себе, по своим символическим и прочим смыслам, оно не нуждается более ни в какой дополнительной интерпретации.
Константин Комаров: Хочу немного ещё о стихотворении про крота поговорить, мне кажется, что корни зла здесь гораздо глубже. Ответ «дядя, мы случайно» не надо за чистую монету принимать. Дети всё прекрасно понимают, в том числе что причиняют кроту боль. Корни зла в том, что оно абсолютно никак не рефлексируется. Они не понимают, что это плохо, и герой едет дальше на велике. На него тоже это зло распространяется. Он не берет этого крота, не увозит, не спасает. Хотя, скорее всего, они продолжат его мучить. Вот это вот «дядя, мы случайно», это не просто признание того, что они не понимают, а это на самом деле очень страшно. Это может быть самая страшная строчка вообще этой книги. Тотальность зла.
Мария Тухватулина: Вполне вероятно, что крот уже мертв на момент вот этих издевательств. Можно я немножко про пропасть добавлю? Я не говорю, что это категорично. К тому же есть прилагательное в другом роде, которое говорит, что это «прóпасть», а не «пропáсть». Тут у меня, скорее, некий вопрос к прилагательному «ежедневный». Потому что оно не предполагает множество синонимов, и от названия книги остаётся ощущение какой-то неокончательности. Именно слово «ежедневная», ну, лично для меня дает ощущение какой-то случайности названия, а слово «пропасть» такое более выстреливающее.
Мария Затонская: Евгений кивает, вы согласны? Насчет «ежедневная», что это недостаточное слово.
Евгений Абдуллаев: Нет, я киваю не в плане согласия с случайностью ежедневного, а в том, что да, действительно, слово «пропасть» вполне себе показательно. А что касается ежедневного, я уже сказал, что как раз в этом заключается стоицизм…
Да, я не спорю с экзистенциализмом в поэзии Александра, но экзистенциализм сам во многом вырос из стоицизма. Это такой серый, чреватый смертью и уничтожением замес, но в этом надо жить, надо существовать, да, дышать и передвигаться. Константин обратил внимание на важность образа электричек, я бы мог здесь вспомнить еще и Пастернака, у которого много о поездах, о чувствах человека в движении.
Михаил Рантович: Хорошо, что заговорили про название, именно с него я хотел начать. Вопрос был, кажется, о том, какая реплика могла бы описать книгу. Заглавие и есть та самая реплика, и она, по-моему, очень удачна. Эти существительное и прилагательное – странное сочетание, будто некоторая лексическая несочетаемость, вызывающая щекотку в мозгу. Но мне кажется, что как раз наоборот: абстрактное слово и такое конкретное – какой-то зазор между ними возникает, ощущение неполной прилаженности друг к другу. Это очень важно, мне кажется, в поэзии Переверзина – ощущение этого зазора.
Константин Комаров: Хочу немного ещё о стихотворении про крота поговорить, мне кажется, что корни зла здесь гораздо глубже. Ответ «дядя, мы случайно» не надо за чистую монету принимать. Дети всё прекрасно понимают, в том числе что причиняют кроту боль. Корни зла в том, что оно абсолютно никак не рефлексируется. Они не понимают, что это плохо, и герой едет дальше на велике. На него тоже это зло распространяется. Он не берет этого крота, не увозит, не спасает. Хотя, скорее всего, они продолжат его мучить. Вот это вот «дядя, мы случайно», это не просто признание того, что они не понимают, а это на самом деле очень страшно. Это может быть самая страшная строчка вообще этой книги. Тотальность зла.
Мария Тухватулина: Вполне вероятно, что крот уже мертв на момент вот этих издевательств. Можно я немножко про пропасть добавлю? Я не говорю, что это категорично. К тому же есть прилагательное в другом роде, которое говорит, что это «прóпасть», а не «пропáсть». Тут у меня, скорее, некий вопрос к прилагательному «ежедневный». Потому что оно не предполагает множество синонимов, и от названия книги остаётся ощущение какой-то неокончательности. Именно слово «ежедневная», ну, лично для меня дает ощущение какой-то случайности названия, а слово «пропасть» такое более выстреливающее.
Мария Затонская: Евгений кивает, вы согласны? Насчет «ежедневная», что это недостаточное слово.
Евгений Абдуллаев: Нет, я киваю не в плане согласия с случайностью ежедневного, а в том, что да, действительно, слово «пропасть» вполне себе показательно. А что касается ежедневного, я уже сказал, что как раз в этом заключается стоицизм…
Да, я не спорю с экзистенциализмом в поэзии Александра, но экзистенциализм сам во многом вырос из стоицизма. Это такой серый, чреватый смертью и уничтожением замес, но в этом надо жить, надо существовать, да, дышать и передвигаться. Константин обратил внимание на важность образа электричек, я бы мог здесь вспомнить еще и Пастернака, у которого много о поездах, о чувствах человека в движении.
Михаил Рантович: Хорошо, что заговорили про название, именно с него я хотел начать. Вопрос был, кажется, о том, какая реплика могла бы описать книгу. Заглавие и есть та самая реплика, и она, по-моему, очень удачна. Эти существительное и прилагательное – странное сочетание, будто некоторая лексическая несочетаемость, вызывающая щекотку в мозгу. Но мне кажется, что как раз наоборот: абстрактное слово и такое конкретное – какой-то зазор между ними возникает, ощущение неполной прилаженности друг к другу. Это очень важно, мне кажется, в поэзии Переверзина – ощущение этого зазора.
Эти существительное и прилагательное в заглавии – странное сочетание, будто некоторая лексическая несочетаемость, вызывающая щекотку в мозгу. Но мне кажется, что как раз наоборот: абстрактное слово и такое конкретное – какой-то зазор между ними возникает, ощущение неполной прилаженности друг к другу. Это очень важно, мне кажется, в поэзии Переверзина – ощущение этого зазора.
Понятно, что здесь есть тема смерти. Это кажется очень очевидным. Она встречается, собственно, в стихотворении, откуда взята заглавная строчка «ежедневная пропасть»: там «жизни строгость» и «смерти кротость». В другом стихотворении «жизнь и смерть сосны». Важна не просто смерть, а именно взаимоотношение смерти с жизнью. Или вот про мать, например, которая приходит из смерти, из запредельности, и начинает говорить с этой ежедневностью.
Это, я думаю, действительно поэтика, наследующая символизму. В связи с названием «ежедневная пропасть» мне вспоминается стихотворение Блока «Есть минуты, когда не тревожит/ роковая нас жизни гроза», там есть строчки:
И мгновенно житейское канет,
словно в темную пропасть без дна.
Там тоже есть это «житейское», и эта «пропасть», и взаимоотношение между ними: бытовым, ежедневным, привычным и чем-то необъяснимым.
«Пропасть», конечно, это и какая-то катастрофа, но и катастрофа, так скажем, это тоже отсвет какого-то другого мира, до которого наш лирический герой как-то может достучаться.
В статье Погорелой есть верные слова о том, что у Переверзина физика и метафизика не существуют отдельно друг от друга, а взаимопроникают, и в физике уже представлена метафизика: очень много бытовых деталей, но через них происходит переход к какому-то совершенно другому измерению.
Евгений два раза повторил слово «стоицизм», и это очень точная характеристика мироощущения поэта. В аннотации к книге говорится об аскетичности его поэтики – не только аскетизм, но и стоицизм, принятие всей этой пропасти, пребывание в этой пропасти ежедневно, каждый день приходится с этой пропастью мириться.
Собственно, и стихотворение про крота – оно, понятно, вроде как вызвано современными событиями, но сжимается до случая: «Дети мучают крота». И герой задумывается, может быть, даже не о природе зла, а о том, как вообще с этим злом жить, существовать каждый день.
Здесь важнее даже не то, что отражается современность или происходящие в ней события, – а то, как он сам взаимодействуетс происходящим. То есть именно ощущение индивидуального присутствия в этой ежедневной пропасти.
И еще мне показалось очень интересным рассуждение Кости о времени, о безвременьи. Я об этом не думал, но в этом много правды, что соединение с каким-то другим измерением действительно время будто отменяет, и оно начинает вообще странно течь.
Владимир Козлов: Несколько раз проскользнули мысли по поводу оптимизма и пессимизма. Это, конечно, плохие категории для оценки качества поэзии: оптимистичные и пессимистичные стихи одинаково неинтересны, если не содержат какой-то драматургии. А драматургия – это вещь более сложная, говорящая о переходах – где мы были и где мы оказались в итоге.
Это, я думаю, действительно поэтика, наследующая символизму. В связи с названием «ежедневная пропасть» мне вспоминается стихотворение Блока «Есть минуты, когда не тревожит/ роковая нас жизни гроза», там есть строчки:
И мгновенно житейское канет,
словно в темную пропасть без дна.
Там тоже есть это «житейское», и эта «пропасть», и взаимоотношение между ними: бытовым, ежедневным, привычным и чем-то необъяснимым.
«Пропасть», конечно, это и какая-то катастрофа, но и катастрофа, так скажем, это тоже отсвет какого-то другого мира, до которого наш лирический герой как-то может достучаться.
В статье Погорелой есть верные слова о том, что у Переверзина физика и метафизика не существуют отдельно друг от друга, а взаимопроникают, и в физике уже представлена метафизика: очень много бытовых деталей, но через них происходит переход к какому-то совершенно другому измерению.
Евгений два раза повторил слово «стоицизм», и это очень точная характеристика мироощущения поэта. В аннотации к книге говорится об аскетичности его поэтики – не только аскетизм, но и стоицизм, принятие всей этой пропасти, пребывание в этой пропасти ежедневно, каждый день приходится с этой пропастью мириться.
Собственно, и стихотворение про крота – оно, понятно, вроде как вызвано современными событиями, но сжимается до случая: «Дети мучают крота». И герой задумывается, может быть, даже не о природе зла, а о том, как вообще с этим злом жить, существовать каждый день.
Здесь важнее даже не то, что отражается современность или происходящие в ней события, – а то, как он сам взаимодействуетс происходящим. То есть именно ощущение индивидуального присутствия в этой ежедневной пропасти.
И еще мне показалось очень интересным рассуждение Кости о времени, о безвременьи. Я об этом не думал, но в этом много правды, что соединение с каким-то другим измерением действительно время будто отменяет, и оно начинает вообще странно течь.
Владимир Козлов: Несколько раз проскользнули мысли по поводу оптимизма и пессимизма. Это, конечно, плохие категории для оценки качества поэзии: оптимистичные и пессимистичные стихи одинаково неинтересны, если не содержат какой-то драматургии. А драматургия – это вещь более сложная, говорящая о переходах – где мы были и где мы оказались в итоге.
Оптимистичные и пессимистичные стихи одинаково неинтересны, если не содержат какой-то драматургии. А драматургия – это вещь более сложная. Она про переходы: где мы были и где мы оказались в итоге.
И в этом смысле лирика нас в какой-то точке берет и в какую-то точку выводит. Это же не картина, которая про один момент. Лирика нас проводит через что-то. И если это проведение лишено драматургии, и мы можем просто сказать «оптимист», «пессимист», тогда, в принципе, смысла читать уже нет.
И ещё прозвучала мысль про экзистенциализм Переверзина. Понимаете, экзистенциализм все-таки вещь, не предполагающая двоемирия. То есть нет заглядывания туда, на тот свет, а только сосредоточенность на переживании абсурда собственного существования ввиду неизбежности человеческой смерти.
И в этом смысле Саша, конечно, не экзистенциалист, поскольку он отчетливо двоемирен. Более того, если мы посмотрим, в чем главное событие целого ряда стихотворений, то мы увидим, что это столкновение двух миров. И в этом есть что-то балладное, когда в мир обыденного проникает некий посланец инобытия. Он проникает, он пугает, он ужасает. Столкновение с ним всегда поразительно, и как-то меняет жизнь того человека, с которым произошла эта встреча. И если мы посмотрим этот сюжет у Саши, то обратите внимание: медицинская палата, подходит медсестра, которая по мере разворачивания стихотворения превращается в образ смерти. Это прямо средневековая аллегория смерти.
Вот этот ветер, гуляющий в соснах, – пейзаж, несущий балладную сюжетику. Казалось бы, самый невинный жанр – зарисовка, но даже туда проникает инобытийная струя, и она обеспечивает драматургию этого пейзажа.
Это ключевая вещь для творчества Переверзина – столкновение с посланцами инобытия. Иногда этим инобытием оказывается какое-то большое время, в котором ничего пугающего нет, а иногда это инобытие оказывается вообще идиллическим.
У него, например, целый ряд стихотворений про поэтов: про Мандельштама и даже Наймана. Заметьте, «Найман» рифмуется с «тайной», и я думаю, он ему только ради тайны и понадобился. То есть стихи про поэтов – это вообще стихи про некий элизиум, который уже существует где-то там, в инобытии. Они уже причастны к этой тайне. И нельзя сказать, что существование рядом с тайной «оптимистично» или «пессимистично». Потому что это просто существование рядом с тайной.
Константин Комаров: Интересная мысль про балладность и двоемирие. Но не могу с ней согласиться, потому что мне кажется, что двоемирие – это признак вообще романтизма. Так и говорят: романтическое двоемирие. А Переверзин поэт подчеркнуто антиромантичный. Мне кажется, даже символизм, как наследующий романтизму, он преодолел. То есть ему близок, допустим, Блок постсимволистский уже, Блок, оставшийся наедине вот с этим своим блоковским отчаянием.
И это инобытие здесь действительно есть, но мне кажется, оно не на правах второго мира, а оно уже существует в этом, данном нам мире, в мире существования. И дихотомия противоречия не «этот мир» и «тот мир», а совершенно экзистенциалистская дихотомия «существование» и «бытие». В этом есть что-то такое ходасевическое. Это безумие, это инобытие, оно прорастает буквально из плоти, из почвы обыденности: «Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи».
И ещё прозвучала мысль про экзистенциализм Переверзина. Понимаете, экзистенциализм все-таки вещь, не предполагающая двоемирия. То есть нет заглядывания туда, на тот свет, а только сосредоточенность на переживании абсурда собственного существования ввиду неизбежности человеческой смерти.
И в этом смысле Саша, конечно, не экзистенциалист, поскольку он отчетливо двоемирен. Более того, если мы посмотрим, в чем главное событие целого ряда стихотворений, то мы увидим, что это столкновение двух миров. И в этом есть что-то балладное, когда в мир обыденного проникает некий посланец инобытия. Он проникает, он пугает, он ужасает. Столкновение с ним всегда поразительно, и как-то меняет жизнь того человека, с которым произошла эта встреча. И если мы посмотрим этот сюжет у Саши, то обратите внимание: медицинская палата, подходит медсестра, которая по мере разворачивания стихотворения превращается в образ смерти. Это прямо средневековая аллегория смерти.
Вот этот ветер, гуляющий в соснах, – пейзаж, несущий балладную сюжетику. Казалось бы, самый невинный жанр – зарисовка, но даже туда проникает инобытийная струя, и она обеспечивает драматургию этого пейзажа.
Это ключевая вещь для творчества Переверзина – столкновение с посланцами инобытия. Иногда этим инобытием оказывается какое-то большое время, в котором ничего пугающего нет, а иногда это инобытие оказывается вообще идиллическим.
У него, например, целый ряд стихотворений про поэтов: про Мандельштама и даже Наймана. Заметьте, «Найман» рифмуется с «тайной», и я думаю, он ему только ради тайны и понадобился. То есть стихи про поэтов – это вообще стихи про некий элизиум, который уже существует где-то там, в инобытии. Они уже причастны к этой тайне. И нельзя сказать, что существование рядом с тайной «оптимистично» или «пессимистично». Потому что это просто существование рядом с тайной.
Константин Комаров: Интересная мысль про балладность и двоемирие. Но не могу с ней согласиться, потому что мне кажется, что двоемирие – это признак вообще романтизма. Так и говорят: романтическое двоемирие. А Переверзин поэт подчеркнуто антиромантичный. Мне кажется, даже символизм, как наследующий романтизму, он преодолел. То есть ему близок, допустим, Блок постсимволистский уже, Блок, оставшийся наедине вот с этим своим блоковским отчаянием.
И это инобытие здесь действительно есть, но мне кажется, оно не на правах второго мира, а оно уже существует в этом, данном нам мире, в мире существования. И дихотомия противоречия не «этот мир» и «тот мир», а совершенно экзистенциалистская дихотомия «существование» и «бытие». В этом есть что-то такое ходасевическое. Это безумие, это инобытие, оно прорастает буквально из плоти, из почвы обыденности: «Бог знает, что себе бормочешь, ища пенсне или ключи».
Инобытие здесь действительно есть, но мне кажется, оно не на правах второго мира, а оно уже существует в этом, данном нам мире, в мире существования. И дихотомия противоречия не «этот мир» и «тот мир», а совершенно экзистенциалистская дихотомия «существование» и «бытие».
Оно уже как бы вшито, встроено, поэт на то и поэт, что он его замечает. И вот это замечание, конечно, очень болезненно. И это чувство инобытия во многом и создает опыт пограничных ситуаций. А в экзистенциализме через пограничные ситуации, собственно, и открывается все.
И раз уж я об этом заговорил, пару слов еще скажу про оптику, потому что мне кажется, что эта философия важна не просто как философия, как мысли (совершенно согласен, что пессимизм, оптимизм – это не для оценки стихов). Она, мне кажется, важна как философия, формирующая оптику. Потому что эта пограничность реализуется в двух сюжетах. Недаром так важны электрички и пересечения границы, во-первых, и ситуации «человек в пейзаже», во-вторых. Эта пограничность не только между жизнью и смертью, это уловление самого перехода, диалектика внешнего и внутреннего. Реальность у Саши все время мерцающая, все время в ней просвечивает подноготная ее оборотная сторона. Этот момент взаимопроницаемости реальности очень важен.
Есть у него в книжке довольно показательное стихотворение «Влетает ворон нелюбви».
И раз уж я об этом заговорил, пару слов еще скажу про оптику, потому что мне кажется, что эта философия важна не просто как философия, как мысли (совершенно согласен, что пессимизм, оптимизм – это не для оценки стихов). Она, мне кажется, важна как философия, формирующая оптику. Потому что эта пограничность реализуется в двух сюжетах. Недаром так важны электрички и пересечения границы, во-первых, и ситуации «человек в пейзаже», во-вторых. Эта пограничность не только между жизнью и смертью, это уловление самого перехода, диалектика внешнего и внутреннего. Реальность у Саши все время мерцающая, все время в ней просвечивает подноготная ее оборотная сторона. Этот момент взаимопроницаемости реальности очень важен.
Есть у него в книжке довольно показательное стихотворение «Влетает ворон нелюбви».
влетает ворон нелюбви
распахивает ад
железом бей огнем трави
не улетит назад
не улетит пока в груди
есть мясо для страстей
но вот насытился гляди
не трогает костей
он ворон больше ничего —
клюв лапы пара крыл
я видел изнутри его
я им однажды был
распахивает ад
железом бей огнем трави
не улетит назад
не улетит пока в груди
есть мясо для страстей
но вот насытился гляди
не трогает костей
он ворон больше ничего —
клюв лапы пара крыл
я видел изнутри его
я им однажды был
Да, можно его прочесть как балладное, но вообще оно напоминает о Владимире Соловьеве, с его пародиями на русских символистов: «леопарды мщения», «гиены тоски». Но это тот случай, когда вообще не хочется иронизировать. Потому что ирония уже в достаточной мере есть. И это как раз, кстати, романтическая, трансцендентальная ирония, которая подсвечивает ужас бытия. Тут согласен.
Но всё-таки здесь иронии и пародийности нет, хотя, казалось бы, она напрашивается. Ну, ворон нелюбви. Что это такое? Важно, как лирический герой на него смотрит: сначала извне, а потом – уже не на самого ворона, а на его образ. И дальше начинает этот образ обживать изнутри, появляется внутреннее зрение.
То есть это еще и метапоэзия, анатомирование поэтической оптики, метареалистический взгляд, когда важны не столько объекты, а само пространство – сравнения и сращения. И неслучайно завершается книга аллюзией на Еременко. Потому что это чистый метареализм – «густые металлургические леса». И лейтмотив электричек – еще и пересечение границ взгляда. Взгляд все время переворачивается внутрь себя, как переворачивается глазное яблоко.
В книге много имен, топонимов. Мне кажется, они важны не столько шлейфом историко-литературным, который за собой тянут, сколько вот этой мерцательностью смысла. Уже в первом стихотворении важнейший ключевой образ книги задан – алфавит, мерцающий в стеклах, из которого надо что-то сложить, иначе ты умрешь.
А вокруг резиновая тьма,
«Перекрёсток», длинные дома,
искры, озаряющие рань, —
электричка острая скользит
на Шатуру или на Рязань,
и мелькает в стёклах алфавит.
У Саши много таких образов: незримая завеса, невидимый мост, граница. И финальное стихотворение: «Мы поедем на А и на Б» – аллюзия на Еременко и посвящение дочери. Вот это, мне кажется, словом «оптимизм» никак не опишешь, но это можно описать словом стоицизм. Это воля, готовность принять и переварить эту чреватую катастрофой ежедневную действительность. Это кьеркегоровское отчаяние, принятие, мужество, свобода, и завершается книга распахнутостью в будущее, как бы плохо ни было. И открытостью навстречу будущему, даже если оно сокрушительное: «И вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», – если Брюсова вспоминать. И эта эмоция очень острая, ей очень трудно не сопереживать.
Но всё-таки здесь иронии и пародийности нет, хотя, казалось бы, она напрашивается. Ну, ворон нелюбви. Что это такое? Важно, как лирический герой на него смотрит: сначала извне, а потом – уже не на самого ворона, а на его образ. И дальше начинает этот образ обживать изнутри, появляется внутреннее зрение.
То есть это еще и метапоэзия, анатомирование поэтической оптики, метареалистический взгляд, когда важны не столько объекты, а само пространство – сравнения и сращения. И неслучайно завершается книга аллюзией на Еременко. Потому что это чистый метареализм – «густые металлургические леса». И лейтмотив электричек – еще и пересечение границ взгляда. Взгляд все время переворачивается внутрь себя, как переворачивается глазное яблоко.
В книге много имен, топонимов. Мне кажется, они важны не столько шлейфом историко-литературным, который за собой тянут, сколько вот этой мерцательностью смысла. Уже в первом стихотворении важнейший ключевой образ книги задан – алфавит, мерцающий в стеклах, из которого надо что-то сложить, иначе ты умрешь.
А вокруг резиновая тьма,
«Перекрёсток», длинные дома,
искры, озаряющие рань, —
электричка острая скользит
на Шатуру или на Рязань,
и мелькает в стёклах алфавит.
У Саши много таких образов: незримая завеса, невидимый мост, граница. И финальное стихотворение: «Мы поедем на А и на Б» – аллюзия на Еременко и посвящение дочери. Вот это, мне кажется, словом «оптимизм» никак не опишешь, но это можно описать словом стоицизм. Это воля, готовность принять и переварить эту чреватую катастрофой ежедневную действительность. Это кьеркегоровское отчаяние, принятие, мужество, свобода, и завершается книга распахнутостью в будущее, как бы плохо ни было. И открытостью навстречу будущему, даже если оно сокрушительное: «И вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном», – если Брюсова вспоминать. И эта эмоция очень острая, ей очень трудно не сопереживать.
Это воля, готовность принять и переварить эту чреватую катастрофой ежедневную действительность. Это кьеркегоровское отчаяние, принятие, мужество свобода, и завершается книга распахнутостью в будущее, как бы плохо ни было. И открытостью навстречу будущему, даже если оно сокрушительное.
Владимир Козлов: Я, пожалуй, соглашусь с тем, что есть такой экзистенциальный субъект, как вы его описали. Но если мы откажемся видеть двоемирие в художественном мире Переверзина, мы потеряем вообще его балладность. А эмоции, связанные со столкновением с чем-то инобытийным, это главные эмоции в этой книге – то есть это балладное начало. Если мы его теряем, мы чего-то существенного про поэтику Переверзина не понимаем.
Слова «романтизм» и «символизм» более устаревшие, чем то, что мы имеем у Переверзина. Его символизм, к тому же, опирается на религиозное мышление – про это еще сегодня не сказали. В этом смысле, конечно, традиционный романтизм – это не столько религиозное мышление, сколько чувство религиозного или чувство какого-то двоемирия. У Саши все-таки есть религиозная основа. И тем не менее, несмотря на эту религиозную основу, переживаются довольно классические сюжеты в современных условиях, с современной атрибутикой, с современным цитатным мышлением. То есть базовый сюжет гораздо более архаичен. Даже, я думаю, намеренно архаичен.
Еще раз. Если мы потеряем двоемирие, мы потеряем Сашину балладность. Если мы потеряем Сашину балладность, мы про Сашу мало что поймем. Вот такая мысль.
Константин Комаров: Действительно, «измы» условны. Это очень интересная мысль, о двоемирии. Но всё же это совсем другое, не классическое романтическое, а усложненное двоемирие, усовершенствованное – скажем так, прокачанное.
Мария Затонская: Друзья, а какое стихотворение для вас выделяется в книге?
Владимир Козлов: Я не люблю выделять одно стихотворение, потому что разные дни – это разные стихи. Мне показалось по тому, как о Саше говорили, что он превратился в философа, а я думаю, что он поэт как раз антифилософский — в том смысле, что он избегает критериев, категорий. Это не тот поэт, который философствует в поэзии, как делает довольно большое количество поэтов. Он скорее мыслит картинами, которые потом переводятся в другой план. И на мой взгляд, это нежелание философствовать тоже у него имеет традицию, укорененную в русской поэзии. Есть условно пушкинская, светлая, абсолютно про все умеющая говорить традиция. Для Пушкина и вообще поэтов пушкинского типа не существует понятия невыразимого, тайного — то есть все выразимо. А вот для поэтов типа Жуковского невыразимое – это ключевая категория. Саша из второго типа поэтов.
Слова «романтизм» и «символизм» более устаревшие, чем то, что мы имеем у Переверзина. Его символизм, к тому же, опирается на религиозное мышление – про это еще сегодня не сказали. В этом смысле, конечно, традиционный романтизм – это не столько религиозное мышление, сколько чувство религиозного или чувство какого-то двоемирия. У Саши все-таки есть религиозная основа. И тем не менее, несмотря на эту религиозную основу, переживаются довольно классические сюжеты в современных условиях, с современной атрибутикой, с современным цитатным мышлением. То есть базовый сюжет гораздо более архаичен. Даже, я думаю, намеренно архаичен.
Еще раз. Если мы потеряем двоемирие, мы потеряем Сашину балладность. Если мы потеряем Сашину балладность, мы про Сашу мало что поймем. Вот такая мысль.
Константин Комаров: Действительно, «измы» условны. Это очень интересная мысль, о двоемирии. Но всё же это совсем другое, не классическое романтическое, а усложненное двоемирие, усовершенствованное – скажем так, прокачанное.
Мария Затонская: Друзья, а какое стихотворение для вас выделяется в книге?
Владимир Козлов: Я не люблю выделять одно стихотворение, потому что разные дни – это разные стихи. Мне показалось по тому, как о Саше говорили, что он превратился в философа, а я думаю, что он поэт как раз антифилософский — в том смысле, что он избегает критериев, категорий. Это не тот поэт, который философствует в поэзии, как делает довольно большое количество поэтов. Он скорее мыслит картинами, которые потом переводятся в другой план. И на мой взгляд, это нежелание философствовать тоже у него имеет традицию, укорененную в русской поэзии. Есть условно пушкинская, светлая, абсолютно про все умеющая говорить традиция. Для Пушкина и вообще поэтов пушкинского типа не существует понятия невыразимого, тайного — то есть все выразимо. А вот для поэтов типа Жуковского невыразимое – это ключевая категория. Саша из второго типа поэтов.
Есть условно пушкинская, светлая, абсолютно про все умеющая говорить традиция. Для Пушкина и вообще поэтов пушкинского типа не существует понятия невыразимого, тайного – то есть все выразимо. А вот для поэтов типа Жуковского невыразимое – это ключевая категория. Саша из второго типа поэтов.
Мы всегда это невыразимое хватаем только как какую-то тень в его картинах, пейзажах, ситуациях. Или вдруг – прямо аллегорическая фигура смерти, ворона, откровенный архаизм, который дает пищу для философских размышлений, это безусловно. Но даже в этом смысле он ни в коем случае не поэт-философ, он – лирик, правда, с сильным повествовательным началом.
Повествовательное начало – это, пожалуй, его отличие. Такое необычное сочетание: откровенной лиричности и повествовательности. Повествовательное начало тоже, кстати говоря, один из вариантов развития балладного мышления. Потому что баллада – это, как правило, что-то сюжетное.
Константин Комаров: Что интересно, Саша не страдает над этой невыразимостью невыразимого. Он просто оставляет невыразимое невыразимым. Спокойно, в отличие от Жуковского и Тютчева.
Владимир Козлов: Да, он не воспевает это. Оно не является предметом отдельного осмысления, но оно работает, безусловно.
Мария Тухватуллина: Что касается одного стихотворения для меня – было бы логично назвать одно из самых здесь обсуждаемых: про крота, в котором, собственно, кратко вся книга пересказывается. Или мной уже отмеченное про рассказ попутчика в электричке Москва-Черусти. Оно еще выделяется стилистически из всего сборника.
Ещё я обратила внимание на стихотворение «В идеальном мире без страданий…», где в одном из немногих идет речь о позиции автора. И я по структуре его поставила бы даже не предпоследним, а завершающим. У него нет четкой композиции с сюжетным началом, с развитием мысли в экзистенциализм. Оно похоже на заметку на полях, на ремарку. И поэтому, по-моему, хорошо бы завершило сборник. Ну и практически завершает.
Константин Комаров: Вообще, любимым стихотворением Саши Переверзина у меня остается и после этой книги стихотворение про чайник, которого нет в книге. А выбор мой основан на том, что Саша Переверзин, как поэт и как опытный издатель, прекрасно понимает элементарные правила составления поэтических книг. А элементарные эти правила гласят, что первое и последнее стихотворение книги несут особую смысловую нагрузку. И в этом смысле, конечно, однозначно первое стихотворение задает всё для этой книги: импульс, основную мысль, интонацию, фирменные переверзинские образы и ключевой, центрирующий книгу образ мелькающего в стеклах алфавита.
В первую субботу февраля
мать в окне увидела шмеля
и сказала, встав в дверной проём:
Пашей или Сашей назовём. <…>
В этом стихотворении свернуто всё, что дальше будет разворачиваться на протяжении всей книги. В этом смысле оно, может быть, не лучшее, но концептуально ключевое в этой книге.
Мария Затонская: Костя, я тоже первое для себя выделила, оно прямо сразу приковывает к себе, согласна. И последний вопрос: можно ли Переверзина назвать современным классиком?
Владимир Козлов: Я бы сказал, что Саша очень возражал бы самой постановке вопроса. Ну, просто потому, что он еще довольно молодой человек. У нас в культуре про живых так не принято. Для нас живой классик – это человек, который уже по большому счету отошел от дел, но еще жив. А Саша в этом смысле ещё, может быть, нас удивит, он – ещё живое, развивающееся явление, хотя и очень состоявшееся.
Михаил Рантович: Я как раз вчера показывал книжку знакомым, они прочитали одно стихотворение и сказали, что им стало очень печально. Так что, можно сказать, Переверзин пошел в народ. Я потом сказал им, что не сомневаюсь: Переверзин как поэт останется, останутся стихи, и какой-то будущий человек будет их читать, как мы сейчас с любовью читаем стихи давно ушедших поэтов.
Повествовательное начало – это, пожалуй, его отличие. Такое необычное сочетание: откровенной лиричности и повествовательности. Повествовательное начало тоже, кстати говоря, один из вариантов развития балладного мышления. Потому что баллада – это, как правило, что-то сюжетное.
Константин Комаров: Что интересно, Саша не страдает над этой невыразимостью невыразимого. Он просто оставляет невыразимое невыразимым. Спокойно, в отличие от Жуковского и Тютчева.
Владимир Козлов: Да, он не воспевает это. Оно не является предметом отдельного осмысления, но оно работает, безусловно.
Мария Тухватуллина: Что касается одного стихотворения для меня – было бы логично назвать одно из самых здесь обсуждаемых: про крота, в котором, собственно, кратко вся книга пересказывается. Или мной уже отмеченное про рассказ попутчика в электричке Москва-Черусти. Оно еще выделяется стилистически из всего сборника.
Ещё я обратила внимание на стихотворение «В идеальном мире без страданий…», где в одном из немногих идет речь о позиции автора. И я по структуре его поставила бы даже не предпоследним, а завершающим. У него нет четкой композиции с сюжетным началом, с развитием мысли в экзистенциализм. Оно похоже на заметку на полях, на ремарку. И поэтому, по-моему, хорошо бы завершило сборник. Ну и практически завершает.
Константин Комаров: Вообще, любимым стихотворением Саши Переверзина у меня остается и после этой книги стихотворение про чайник, которого нет в книге. А выбор мой основан на том, что Саша Переверзин, как поэт и как опытный издатель, прекрасно понимает элементарные правила составления поэтических книг. А элементарные эти правила гласят, что первое и последнее стихотворение книги несут особую смысловую нагрузку. И в этом смысле, конечно, однозначно первое стихотворение задает всё для этой книги: импульс, основную мысль, интонацию, фирменные переверзинские образы и ключевой, центрирующий книгу образ мелькающего в стеклах алфавита.
В первую субботу февраля
мать в окне увидела шмеля
и сказала, встав в дверной проём:
Пашей или Сашей назовём. <…>
В этом стихотворении свернуто всё, что дальше будет разворачиваться на протяжении всей книги. В этом смысле оно, может быть, не лучшее, но концептуально ключевое в этой книге.
Мария Затонская: Костя, я тоже первое для себя выделила, оно прямо сразу приковывает к себе, согласна. И последний вопрос: можно ли Переверзина назвать современным классиком?
Владимир Козлов: Я бы сказал, что Саша очень возражал бы самой постановке вопроса. Ну, просто потому, что он еще довольно молодой человек. У нас в культуре про живых так не принято. Для нас живой классик – это человек, который уже по большому счету отошел от дел, но еще жив. А Саша в этом смысле ещё, может быть, нас удивит, он – ещё живое, развивающееся явление, хотя и очень состоявшееся.
Михаил Рантович: Я как раз вчера показывал книжку знакомым, они прочитали одно стихотворение и сказали, что им стало очень печально. Так что, можно сказать, Переверзин пошел в народ. Я потом сказал им, что не сомневаюсь: Переверзин как поэт останется, останутся стихи, и какой-то будущий человек будет их читать, как мы сейчас с любовью читаем стихи давно ушедших поэтов.



