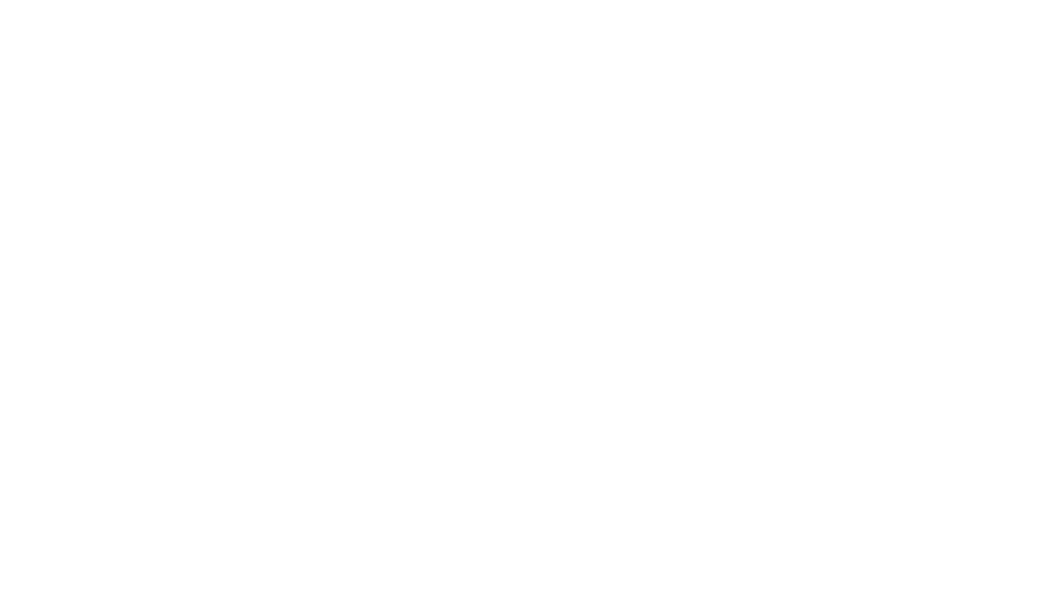
Михаил Куимов — Ничьих кровей
Михаил Куимов. Родился в 1993 году на севере Пермской области. Окончил геологический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета. По специальности — геофизик. Работает в калийной шахте. Лауреат литературной премии им. А.Л. Решетова (2020). Участник ШПМ (2019, 2021, 2022) и ФМП (2019). Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя», «Традиции и Авангард», «Вещь», Антология современной уральской поэзии (2019), сборники «Новые имена в поэзии» (2020) и «Новые писатели: Новые имена в литературе» (2020). Автор книги стихотворений «Хребет» (Пермь, 2019).
* * *
Ныряешь в лес, выныриваешь в небо,
Сквозь торфяные линзы дышишь свет:
Две вечности прожил, а кем? Ответ
Неубедителен и выглядит нелепо,
Когда парят над головою мхи,
И стланик обнимает по-отцовски,
И голос пропадает в отголоске
Ольховой и берёзовой трухи.
* * *
Товарняк стоял у леса,
Доживали лопухи,
Золотистая завеса
Завораживала мхи.
Пролетали голубые
Над полотнами поля.
Нас достаточно любили.
Всеотверженно любили.
Без причины. Только для.
* * *
Это просто история, коих немало
Я ещё не успел рассказать:
Из капустных вилков появляется мама
(Что на ортопедическом – мать),
А за ней – не отец и не голос, допустим,
А нелепый отеческий шок.
И молозиво льётся по листьям капустным,
И кричит, а не плачет, божок.
В третьем плане (отнюдь не последнем, как сталось),
Что приметно едва, – тишина.
И пытаясь её оттянуть хоть на малость,
Колыбельная воплощена.
ЁЖ
В зрачке ежа не отразился ворон.
Дорога сузилась до талии осы.
Осиновая роща детским хором
Утёрла многоточие росы.
Проникнешь внутрь, а там, гляди, такое,
Такое очень непосильное, что сам
Заплачешь от нависшего покоя
По выклеванным вороном глазам.
* * *
Дорогу не запомнишь,
Но выйдешь наугад:
Ты сам себе не помощь,
К чему весь мир ругать?
По глине поколенной
Ступай себе своей,
Совсем никем не пленный
Совсем ничьих кровей.
* * *
Когда языковой барьер пройду,
Без задних ног отправлюсь в Куеду.
А там, где площадь вымощена не,
Кто сможет отказать в покое мне?
Вползая за порог твоих татар,
Я имя их приму как божий дар.
И не заплачу, но покроюсь льдом.
Я снова дома. Я обратно дом.
Ныряешь в лес, выныриваешь в небо,
Сквозь торфяные линзы дышишь свет:
Две вечности прожил, а кем? Ответ
Неубедителен и выглядит нелепо,
Когда парят над головою мхи,
И стланик обнимает по-отцовски,
И голос пропадает в отголоске
Ольховой и берёзовой трухи.
* * *
Товарняк стоял у леса,
Доживали лопухи,
Золотистая завеса
Завораживала мхи.
Пролетали голубые
Над полотнами поля.
Нас достаточно любили.
Всеотверженно любили.
Без причины. Только для.
* * *
Это просто история, коих немало
Я ещё не успел рассказать:
Из капустных вилков появляется мама
(Что на ортопедическом – мать),
А за ней – не отец и не голос, допустим,
А нелепый отеческий шок.
И молозиво льётся по листьям капустным,
И кричит, а не плачет, божок.
В третьем плане (отнюдь не последнем, как сталось),
Что приметно едва, – тишина.
И пытаясь её оттянуть хоть на малость,
Колыбельная воплощена.
ЁЖ
В зрачке ежа не отразился ворон.
Дорога сузилась до талии осы.
Осиновая роща детским хором
Утёрла многоточие росы.
Проникнешь внутрь, а там, гляди, такое,
Такое очень непосильное, что сам
Заплачешь от нависшего покоя
По выклеванным вороном глазам.
* * *
Дорогу не запомнишь,
Но выйдешь наугад:
Ты сам себе не помощь,
К чему весь мир ругать?
По глине поколенной
Ступай себе своей,
Совсем никем не пленный
Совсем ничьих кровей.
* * *
Когда языковой барьер пройду,
Без задних ног отправлюсь в Куеду.
А там, где площадь вымощена не,
Кто сможет отказать в покое мне?
Вползая за порог твоих татар,
Я имя их приму как божий дар.
И не заплачу, но покроюсь льдом.
Я снова дома. Я обратно дом.



