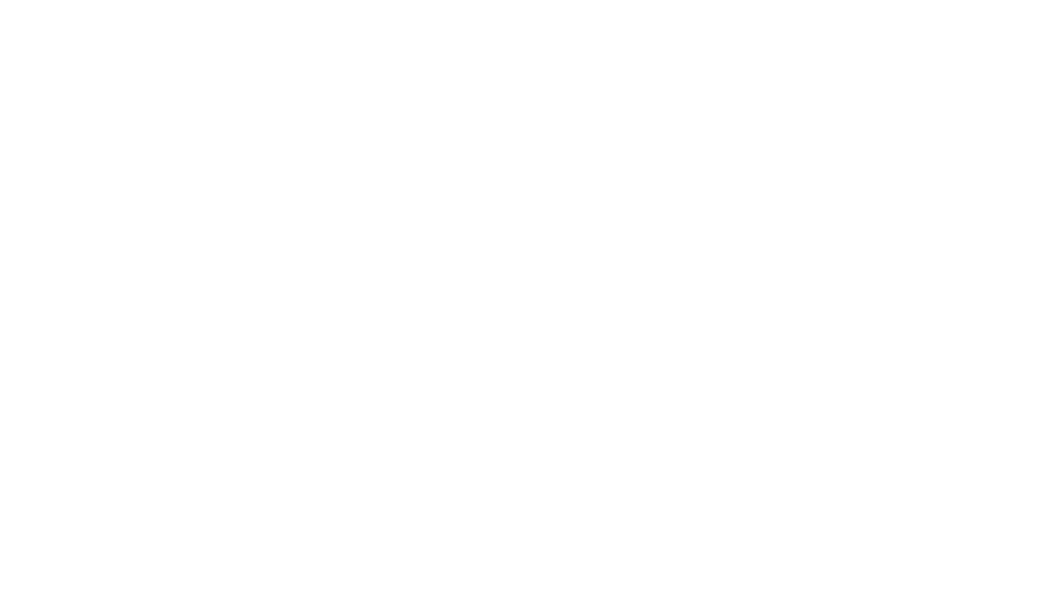
Дмитрий Лагутин — Саша
Дмитрий Лагутин — прозаик, член Союза писателей России. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «проза» (2017 и 2018 гг.), лауреат национальной премии «Русские рифмы» и др. Рассказы опубликованы в журналах «Нижний Новгород», «Волга», «Нева», «Юность», «Урал», «Дальний Восток» и др. Живет в г. Брянске.
Саша Смирнова, до замужества Камушкина, бежала вниз по ступеням собственного подъезда, дрожащими от волнения руками заматываясь в колючий шарф. Щеки её горели, глаза сверкали, причёска растрепалась. Саша перескакивала через две ступени за раз, оступалась, бормотала что-то возмущённо.
— Скатертью дорога! — услышала она сквозь грохот сердца и стук каблуков далекий голос мужа.
Она запрокинула голову, всмотрелась в щель между пролетами, но разглядеть ничего не смогла — на глаза навернулись слёзы, подъезд задрожал и поплыл. Саша что было сил прикусила губу, одолела последние ступени и ударилась плечом в тёмную пахнущую краской дверь.
Тут же на неё обрушился всей своей белизной снегопад — волосы взметнулись, в рукава, под шарф хлынул ледяной воздух. Саша зажмурилась, запахнула пальто, на ощупь застегнула пуговицы и заспешила по узкому скользкому тротуару к арке.
Стоял густой декабрьский вечер — снегопад разыгрался не на шутку, кружился, рассыпал во все стороны крупные пушистые хлопья, искрился в свете фонарей. Снег лип к волосам, колол щёки, цеплялся за ресницы, Саша почти бежала — не поднимая головы, глядя под ноги, на то, как вспенивают белизну тротуара блестящие носы её сапожек.
Она не могла отдышаться, в горле стоял ком.
У самой арки она обернулась и разглядела сквозь белое марево светящийся прямоугольник — дверь в подъезд была открыта — а на фоне прямоугольника силуэт мужа. Он был без куртки, но почему-то в шапке — стоял, подперев дверь рукой, и всматривался в метель.
Саша развернулась и побежала.
Миновав соседний двор, поскользнувшись и с трудом удержав равновесие, она остановилась под сводами очередной арки, чтобы перевести дух. Сердце громыхало, заходилось, и даже в затылок коротко стреляло болью. Саша с минуту стояла, закрыв глаза, стараясь ни о чём не думать, потом отряхнула пальто, провела ладонью по мокрым от снега волосам, пожалела, что не успела схватить со столика перчатки. Глубоко вздохнула и выпрямилась, глядя перед собой.
Арка сияла, по обе стороны мельтешил в тёмных проёмах снег, сквозь него проступали цветные квадратики окон. Во многих квартирах уже мигали гирлянды.
Саша достала из кармана телефон.
— Раньше надо было думать, — бормотала она, одно за другим смахивая сообщения с экрана. — Лопнуло моё терпение.
Горячая волна негодования пробежала по её телу от пяток до макушки, и последнее сообщение она едва не смахнула вместе с телефоном. В арке гудел ветер — низким, трубным звуком. Снег влетал под самый свод и долго рисовал вензеля, не опускаясь. Саша подышала на успевшие замёрзнуть руки, подтянула шарф к носу, шагнула из арки в снежную круговерть.
Со всех сторон её обступали новостройки — от девяти до шестнадцати этажей — людей во дворах было мало, а те, кто был, спешили к подъездам с огромными продуктовыми пакетами. Плотными рядами стояли автомобили — и у каждого на крыше красовалось по сугробу.
В углах свистел ветер.
Саша шла, спрятав руки в карманы, но они всё равно мёрзли.
«Сколько гирлянд», — думала она, оглядывая дома.
Вокруг окон с гирляндами клубились облака разноцветного снега. В глубине одного из них Саша рассмотрела макушку ёлки в мишуре — и ей стало обидно за себя.
Затанцевал в кармане телефон. Саша нащупала кнопку, сбросила. Через секунду телефон танцевал снова. Саша остановилась, выудила его, приложила — ледяной! — к щеке и проговорила, выдерживая после каждого слова паузу:
— Оставь. Меня. В покое.
И всю дорогу, пока она шла дворами — маленькая, совсем крошечная по сравнению с вытягивающимися до облаков домами — пока ныряла из одной арки в другую, перешагивала пятна белого света под фонарями — всё это время телефон в её кармане выделывал кульбиты и дрожал, а она раз за разом сбрасывала на ощупь. Лицо её горело от возмущения.
— Ты подумай… — бормотала она. — Хватает совести…
В последнем дворе она увидела мужа — тот сидел в Опеле, купленном в прошлом году в кредит, держался за руль обеими руками и медленно катился вдоль тротуара, вытягивая шею и осматриваясь. Саша дёрнулась в сторону, пригнулась, спряталась за взобравшимся на бордюр внедорожником, осторожно выглянула и сквозь затемненные окна смотрела, как Опель делает по двору круг и исчезает в арке. Тогда она выпрямилась, заспешила в противоположную сторону, обогнула дом — и прорвалась к проспекту, за которым темнел сквер.
В сквере было удивительно тихо — еще мелькали позади огни фар, но рев моторов превратился в мягкий ровный гул, путающийся в ветвях и тающий в снегу. И ветра совсем не было — мерцающая стена снегопада медленно текла сверху вниз.
Каждый Сашин шаг отзывался приятным скрипом.
Телефон перестал биться и оттягивал карман холодным безжизненным бруском.
В этом году зима долго не наступала — всё стояло серое, угрюмое, ветер таскал по тротуарам и газонам слипшуюся бесцветную листву. Высыпал вдруг сухонький снежок, жался к обочинам, прятался под кустами — и тут же таял, а на смену ему приходили совсем уж неуместные косые дожди, дороги размокали, повсюду хлюпала грязь; и вдруг упал на город настоящий декабрь, и мело, заметало уже с неделю, и казалось, что не перестанет мести никогда.
Как из-под земли встали разом пухлые сугробы, всё заискрилось и задышало.
Вдоль дорожки, рассекавшей сквер надвое, стояли фонари — и казалось, что сквозь снегопад плывут одна за другой дюжина сияющих лун.
Саша шла от луны к луне и невольно любовалась сквером — и даже обида как будто отступила, осталась позади, у ревущего проспекта, а её место заняла тихая молчаливая грусть. Темно-фиолетовое, почти черное, небо уходило ввысь, рябило, смешивалось со снегом. Под каждым фонарём стояло по скамейке — и все пустовали. Саша огляделась — кроме неё в сквере никого не было.
Долетел издалека, скользнул по белым кронам, растворился гудок поезда.
У очередной скамейки Саша остановилась, долго стряхивала с краешка снег, но присесть так и не решилась — опустила влажный от дыхания шарф к подбородку и дышала на руки, окутывая их теплыми облачками. Потом вернула шарф к носу, втянула голову в плечи и зашагала вперёд. В кармане коротко пискнуло, Саша достала телефон — на экране тут же заблестели снежинки — прочла сообщение и фыркнула.
— Камушек! Хватает наглости!
Она ускорила шаг. Впереди, за деревьями, светилась уже центральная улица, тишина отступала, гул усиливался.
Саша шла и бормотала в шарф:
— Камушек! Камушек ему! Хватает же наглости.
Последняя луна нырнула за плечо, сквер расступился, и Саша оказалась в хороводе огней и музыки. Горели, переливаясь, витрины, сновали взад-вперёд автомобили, моргали светофоры. Повсюду были гирлянды, ёлки — от каждого крыльца играла музыка. Люди шли навстречу по двое, по трое, семьями, то и дело щебетали тоненько звонки — двери открывались и закрывались, выпуская наружу клубы ароматного пара.
Саша прошла улицу от начала до конца, свернула, срезала через двор — здесь уже не было высоток, дворы были тихие, уютные, не выше пяти этажей — свернула ещё раз и оказалась у родительского подъезда.
И у родителей в каждом окне горело по гирлянде.
Саша ввела не менявшийся уже лет десять код, домофон крякнул, дверь отклеилась от замка. Саша потянула на себя холодную, круглую, в забитых снегом трещинах, ручку и шагнула внутрь.
Она поднялась, остановилась перед дверью и прислушалась — у родителей, как всегда, кричал что есть мочи телевизор.
Пахло ужином.
Стремительно таяли снежинки на волосах, волосы тяжелели, на пальто блестели капли.
Саша стояла перед дверью, но звонить не решалась.
Вместо этого она встряхнула волосами — во все стороны полетели брызги — поправила шарф и спустилась на первый этаж.
Под потолком горела круглая белая лампа, от неё тянулась сияющая паутинка. Побелка в некоторых местах растрескалась и топорщилась лоскутами. Саша вынула руки из карманов — руки были красные, ледяные — и положила ладони на пыльную трубу, выгибающуюся английской S на стене, в метре от входной двери.
По рукам побежало сладкое тепло. Саша, только сейчас осознавшая, как сильно на самом деле замёрзла, закрыла глаза от удовольствия и какое-то время не могла думать ни о чём, кроме восхитительного, давно забытого, ощущения. А потом — именно определив ощущение как давно забытое — вспомнила, как грелась у этой самой трубы в детстве, совсем ребёнком, как вбегала в подъезд вся в снегу — снег был и за шиворотом, и в сапогах, и в рукавах — стягивала мохнатые, мокрые насквозь варежки и обхватывала трубу красными ладошками. Как вбегали следом за ней подружки — хохочущие, визжащие, толпились у трубы, тянули руки, толкались. А в медленно закрывающуюся дверь продолжали лететь снежки. Вокруг сапог натекали лужи, щёки у всех были точно свеклой натертые, под носами блестело, глаза горели. Звонкий смех эхом рассыпался от первого этажа до четвертого — дробился, переливался. Щёлкали замки, из квартир выглядывали встревоженные соседи.
Обогревшись, девочки осторожно приоткрывали дверь — а потом распахивали во всю ширь и с визгом бежали на площадку в центре двора, уворачиваясь от снежков и на бегу загребая варежками податливый липкий снег. Все окна горели, над двором вставало чистое вечернее небо — звёздное, глубокое — над площадкой клонил голову фонарь.
Дети устраивали «кучу-малу» — вспомнив это слово, Саша улыбнулась — сбивали друг друга с ног, катались в сугробах, и не разобрать было кто где — стоял невообразимый гвалт, шум, крик. А потом опять в подъезд — к трубе. И так до позднего вечера, почти ночи — пока не откроется на третьем этаже окно и не позовет домой мама. Но и перед тем, как подняться, надо обязательно задержаться у трубы и согреть руки.
Вспомнив всё это, Саша почувствовала, как в груди разливается пронзительная щемящая тоска. Нестерпимо захотелось заплакать; и в то же время откуда-то из глубины зазвенело тоненько, озорным колокольчиком, веселье — захотелось приоткрыть дверь и посмотреть в щелочку: не стоит ли у подъезда купленный в кредит Опель? не тянутся ли по снегу узкие полосы света от фар?
«Какая глупость», — думала Саша, не в силах сдержать улыбку.
Ладоням было совсем горячо — до покалывания — но отпускать трубу Саша не хотела, словно боялась, что вместе с ощущением тепла исчезнет и удивительное переполнявшее её чувство.
«Камушек! — вспомнила она и фыркнула. — Набрался же наглости! И шарф этот… — она замотала головой, позволяя шарфу ослабить хватку. — Сколько он в него одеколона льет? Это задохнуться можно…»
Она осторожно освободила одну руку и развязала шарф.
Потом освободила вторую, прислушалась к ощущениям — ничего не исчезло.
«Точно приехал, — думала она, подходя к двери и прикладывая к ней ухо. — Вот и двигатель шумит».
И она не знала — правда ли шумит двигатель или ей только кажется? Не терпелось убедиться — но как? Не открывать же в самом-то деле дверь? Не выглядывать же?
Она на цыпочках поднялась на второй этаж, к почтовым ящикам. Вытянула шею, посмотрела в широкое, витражом, окно, но стекло было толстое, выгибалось волнами, и сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Тогда она поднялась на третий и осторожно приблизилась к балконной двери.
Перед подъездом Опеля не было. На двор сыпался по-прежнему снег, несколько автомобилей сонно моргали огоньками сигнализации, ровная белоснежная площадка сияла под фонарем.
Озорной колокольчик зазвенел тише — едва слышно.
Саша повернула ручку, приоткрыла дверь — в подъезд посыпался снег.
Саша высунулась, посмотрела в сторону, вглубь двора, и тут же со смехом спряталась, хлопнула дверью — но Опель уже снялся с укромного места, зажёг фары и покатился к подъезду.
За Сашиной спиной щёлкнул замок, скрипнула, открываясь, дверь.
— Саша, — позвал отец, выглядывая в подъезд. — Это ты? Ты чего здесь?
Саша обернулась, прижала руку к сердцу.
— Папа! Нельзя так пугать!
Отец смотрел удивленно, из квартиры пел телевизор.
— Мы мимо ехали, — сказала Саша, косясь на Опель. — Подумали, вдруг вы не спите ещё… Чаю, может, попить…
Отец обернулся, позвал через плечо:
— Нина, сделай потише! Саша с Андреем приехали!
Телевизор смолк, послышался мамин голос:
— А чего не заходят-то?
Отец посмотрел на Сашу.
— Заходите, конечно! А где Андрей?
— Паркуется.
Саша дёрнула балконную дверь и крикнула сквозь ворвавшийся вихрь:
— Андрей, ты чего там возишься?
И замахала вышедшему из Опеля мужу — без куртки, но в шапке — изображая на лице крайнее негодование — чтобы не решил, что она отступила.
— Поднимайся уже!
Саша Смирнова, до замужества Камушкина, бежала вниз по ступеням собственного подъезда, дрожащими от волнения руками заматываясь в колючий шарф. Щеки её горели, глаза сверкали, причёска растрепалась. Саша перескакивала через две ступени за раз, оступалась, бормотала что-то возмущённо.
— Скатертью дорога! — услышала она сквозь грохот сердца и стук каблуков далекий голос мужа.
Она запрокинула голову, всмотрелась в щель между пролетами, но разглядеть ничего не смогла — на глаза навернулись слёзы, подъезд задрожал и поплыл. Саша что было сил прикусила губу, одолела последние ступени и ударилась плечом в тёмную пахнущую краской дверь.
Тут же на неё обрушился всей своей белизной снегопад — волосы взметнулись, в рукава, под шарф хлынул ледяной воздух. Саша зажмурилась, запахнула пальто, на ощупь застегнула пуговицы и заспешила по узкому скользкому тротуару к арке.
Стоял густой декабрьский вечер — снегопад разыгрался не на шутку, кружился, рассыпал во все стороны крупные пушистые хлопья, искрился в свете фонарей. Снег лип к волосам, колол щёки, цеплялся за ресницы, Саша почти бежала — не поднимая головы, глядя под ноги, на то, как вспенивают белизну тротуара блестящие носы её сапожек.
Она не могла отдышаться, в горле стоял ком.
У самой арки она обернулась и разглядела сквозь белое марево светящийся прямоугольник — дверь в подъезд была открыта — а на фоне прямоугольника силуэт мужа. Он был без куртки, но почему-то в шапке — стоял, подперев дверь рукой, и всматривался в метель.
Саша развернулась и побежала.
Миновав соседний двор, поскользнувшись и с трудом удержав равновесие, она остановилась под сводами очередной арки, чтобы перевести дух. Сердце громыхало, заходилось, и даже в затылок коротко стреляло болью. Саша с минуту стояла, закрыв глаза, стараясь ни о чём не думать, потом отряхнула пальто, провела ладонью по мокрым от снега волосам, пожалела, что не успела схватить со столика перчатки. Глубоко вздохнула и выпрямилась, глядя перед собой.
Арка сияла, по обе стороны мельтешил в тёмных проёмах снег, сквозь него проступали цветные квадратики окон. Во многих квартирах уже мигали гирлянды.
Саша достала из кармана телефон.
— Раньше надо было думать, — бормотала она, одно за другим смахивая сообщения с экрана. — Лопнуло моё терпение.
Горячая волна негодования пробежала по её телу от пяток до макушки, и последнее сообщение она едва не смахнула вместе с телефоном. В арке гудел ветер — низким, трубным звуком. Снег влетал под самый свод и долго рисовал вензеля, не опускаясь. Саша подышала на успевшие замёрзнуть руки, подтянула шарф к носу, шагнула из арки в снежную круговерть.
Со всех сторон её обступали новостройки — от девяти до шестнадцати этажей — людей во дворах было мало, а те, кто был, спешили к подъездам с огромными продуктовыми пакетами. Плотными рядами стояли автомобили — и у каждого на крыше красовалось по сугробу.
В углах свистел ветер.
Саша шла, спрятав руки в карманы, но они всё равно мёрзли.
«Сколько гирлянд», — думала она, оглядывая дома.
Вокруг окон с гирляндами клубились облака разноцветного снега. В глубине одного из них Саша рассмотрела макушку ёлки в мишуре — и ей стало обидно за себя.
Затанцевал в кармане телефон. Саша нащупала кнопку, сбросила. Через секунду телефон танцевал снова. Саша остановилась, выудила его, приложила — ледяной! — к щеке и проговорила, выдерживая после каждого слова паузу:
— Оставь. Меня. В покое.
И всю дорогу, пока она шла дворами — маленькая, совсем крошечная по сравнению с вытягивающимися до облаков домами — пока ныряла из одной арки в другую, перешагивала пятна белого света под фонарями — всё это время телефон в её кармане выделывал кульбиты и дрожал, а она раз за разом сбрасывала на ощупь. Лицо её горело от возмущения.
— Ты подумай… — бормотала она. — Хватает совести…
В последнем дворе она увидела мужа — тот сидел в Опеле, купленном в прошлом году в кредит, держался за руль обеими руками и медленно катился вдоль тротуара, вытягивая шею и осматриваясь. Саша дёрнулась в сторону, пригнулась, спряталась за взобравшимся на бордюр внедорожником, осторожно выглянула и сквозь затемненные окна смотрела, как Опель делает по двору круг и исчезает в арке. Тогда она выпрямилась, заспешила в противоположную сторону, обогнула дом — и прорвалась к проспекту, за которым темнел сквер.
В сквере было удивительно тихо — еще мелькали позади огни фар, но рев моторов превратился в мягкий ровный гул, путающийся в ветвях и тающий в снегу. И ветра совсем не было — мерцающая стена снегопада медленно текла сверху вниз.
Каждый Сашин шаг отзывался приятным скрипом.
Телефон перестал биться и оттягивал карман холодным безжизненным бруском.
В этом году зима долго не наступала — всё стояло серое, угрюмое, ветер таскал по тротуарам и газонам слипшуюся бесцветную листву. Высыпал вдруг сухонький снежок, жался к обочинам, прятался под кустами — и тут же таял, а на смену ему приходили совсем уж неуместные косые дожди, дороги размокали, повсюду хлюпала грязь; и вдруг упал на город настоящий декабрь, и мело, заметало уже с неделю, и казалось, что не перестанет мести никогда.
Как из-под земли встали разом пухлые сугробы, всё заискрилось и задышало.
Вдоль дорожки, рассекавшей сквер надвое, стояли фонари — и казалось, что сквозь снегопад плывут одна за другой дюжина сияющих лун.
Саша шла от луны к луне и невольно любовалась сквером — и даже обида как будто отступила, осталась позади, у ревущего проспекта, а её место заняла тихая молчаливая грусть. Темно-фиолетовое, почти черное, небо уходило ввысь, рябило, смешивалось со снегом. Под каждым фонарём стояло по скамейке — и все пустовали. Саша огляделась — кроме неё в сквере никого не было.
Долетел издалека, скользнул по белым кронам, растворился гудок поезда.
У очередной скамейки Саша остановилась, долго стряхивала с краешка снег, но присесть так и не решилась — опустила влажный от дыхания шарф к подбородку и дышала на руки, окутывая их теплыми облачками. Потом вернула шарф к носу, втянула голову в плечи и зашагала вперёд. В кармане коротко пискнуло, Саша достала телефон — на экране тут же заблестели снежинки — прочла сообщение и фыркнула.
— Камушек! Хватает наглости!
Она ускорила шаг. Впереди, за деревьями, светилась уже центральная улица, тишина отступала, гул усиливался.
Саша шла и бормотала в шарф:
— Камушек! Камушек ему! Хватает же наглости.
Последняя луна нырнула за плечо, сквер расступился, и Саша оказалась в хороводе огней и музыки. Горели, переливаясь, витрины, сновали взад-вперёд автомобили, моргали светофоры. Повсюду были гирлянды, ёлки — от каждого крыльца играла музыка. Люди шли навстречу по двое, по трое, семьями, то и дело щебетали тоненько звонки — двери открывались и закрывались, выпуская наружу клубы ароматного пара.
Саша прошла улицу от начала до конца, свернула, срезала через двор — здесь уже не было высоток, дворы были тихие, уютные, не выше пяти этажей — свернула ещё раз и оказалась у родительского подъезда.
И у родителей в каждом окне горело по гирлянде.
Саша ввела не менявшийся уже лет десять код, домофон крякнул, дверь отклеилась от замка. Саша потянула на себя холодную, круглую, в забитых снегом трещинах, ручку и шагнула внутрь.
Она поднялась, остановилась перед дверью и прислушалась — у родителей, как всегда, кричал что есть мочи телевизор.
Пахло ужином.
Стремительно таяли снежинки на волосах, волосы тяжелели, на пальто блестели капли.
Саша стояла перед дверью, но звонить не решалась.
Вместо этого она встряхнула волосами — во все стороны полетели брызги — поправила шарф и спустилась на первый этаж.
Под потолком горела круглая белая лампа, от неё тянулась сияющая паутинка. Побелка в некоторых местах растрескалась и топорщилась лоскутами. Саша вынула руки из карманов — руки были красные, ледяные — и положила ладони на пыльную трубу, выгибающуюся английской S на стене, в метре от входной двери.
По рукам побежало сладкое тепло. Саша, только сейчас осознавшая, как сильно на самом деле замёрзла, закрыла глаза от удовольствия и какое-то время не могла думать ни о чём, кроме восхитительного, давно забытого, ощущения. А потом — именно определив ощущение как давно забытое — вспомнила, как грелась у этой самой трубы в детстве, совсем ребёнком, как вбегала в подъезд вся в снегу — снег был и за шиворотом, и в сапогах, и в рукавах — стягивала мохнатые, мокрые насквозь варежки и обхватывала трубу красными ладошками. Как вбегали следом за ней подружки — хохочущие, визжащие, толпились у трубы, тянули руки, толкались. А в медленно закрывающуюся дверь продолжали лететь снежки. Вокруг сапог натекали лужи, щёки у всех были точно свеклой натертые, под носами блестело, глаза горели. Звонкий смех эхом рассыпался от первого этажа до четвертого — дробился, переливался. Щёлкали замки, из квартир выглядывали встревоженные соседи.
Обогревшись, девочки осторожно приоткрывали дверь — а потом распахивали во всю ширь и с визгом бежали на площадку в центре двора, уворачиваясь от снежков и на бегу загребая варежками податливый липкий снег. Все окна горели, над двором вставало чистое вечернее небо — звёздное, глубокое — над площадкой клонил голову фонарь.
Дети устраивали «кучу-малу» — вспомнив это слово, Саша улыбнулась — сбивали друг друга с ног, катались в сугробах, и не разобрать было кто где — стоял невообразимый гвалт, шум, крик. А потом опять в подъезд — к трубе. И так до позднего вечера, почти ночи — пока не откроется на третьем этаже окно и не позовет домой мама. Но и перед тем, как подняться, надо обязательно задержаться у трубы и согреть руки.
Вспомнив всё это, Саша почувствовала, как в груди разливается пронзительная щемящая тоска. Нестерпимо захотелось заплакать; и в то же время откуда-то из глубины зазвенело тоненько, озорным колокольчиком, веселье — захотелось приоткрыть дверь и посмотреть в щелочку: не стоит ли у подъезда купленный в кредит Опель? не тянутся ли по снегу узкие полосы света от фар?
«Какая глупость», — думала Саша, не в силах сдержать улыбку.
Ладоням было совсем горячо — до покалывания — но отпускать трубу Саша не хотела, словно боялась, что вместе с ощущением тепла исчезнет и удивительное переполнявшее её чувство.
«Камушек! — вспомнила она и фыркнула. — Набрался же наглости! И шарф этот… — она замотала головой, позволяя шарфу ослабить хватку. — Сколько он в него одеколона льет? Это задохнуться можно…»
Она осторожно освободила одну руку и развязала шарф.
Потом освободила вторую, прислушалась к ощущениям — ничего не исчезло.
«Точно приехал, — думала она, подходя к двери и прикладывая к ней ухо. — Вот и двигатель шумит».
И она не знала — правда ли шумит двигатель или ей только кажется? Не терпелось убедиться — но как? Не открывать же в самом-то деле дверь? Не выглядывать же?
Она на цыпочках поднялась на второй этаж, к почтовым ящикам. Вытянула шею, посмотрела в широкое, витражом, окно, но стекло было толстое, выгибалось волнами, и сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Тогда она поднялась на третий и осторожно приблизилась к балконной двери.
Перед подъездом Опеля не было. На двор сыпался по-прежнему снег, несколько автомобилей сонно моргали огоньками сигнализации, ровная белоснежная площадка сияла под фонарем.
Озорной колокольчик зазвенел тише — едва слышно.
Саша повернула ручку, приоткрыла дверь — в подъезд посыпался снег.
Саша высунулась, посмотрела в сторону, вглубь двора, и тут же со смехом спряталась, хлопнула дверью — но Опель уже снялся с укромного места, зажёг фары и покатился к подъезду.
За Сашиной спиной щёлкнул замок, скрипнула, открываясь, дверь.
— Саша, — позвал отец, выглядывая в подъезд. — Это ты? Ты чего здесь?
Саша обернулась, прижала руку к сердцу.
— Папа! Нельзя так пугать!
Отец смотрел удивленно, из квартиры пел телевизор.
— Мы мимо ехали, — сказала Саша, косясь на Опель. — Подумали, вдруг вы не спите ещё… Чаю, может, попить…
Отец обернулся, позвал через плечо:
— Нина, сделай потише! Саша с Андреем приехали!
Телевизор смолк, послышался мамин голос:
— А чего не заходят-то?
Отец посмотрел на Сашу.
— Заходите, конечно! А где Андрей?
— Паркуется.
Саша дёрнула балконную дверь и крикнула сквозь ворвавшийся вихрь:
— Андрей, ты чего там возишься?
И замахала вышедшему из Опеля мужу — без куртки, но в шапке — изображая на лице крайнее негодование — чтобы не решил, что она отступила.
— Поднимайся уже!



