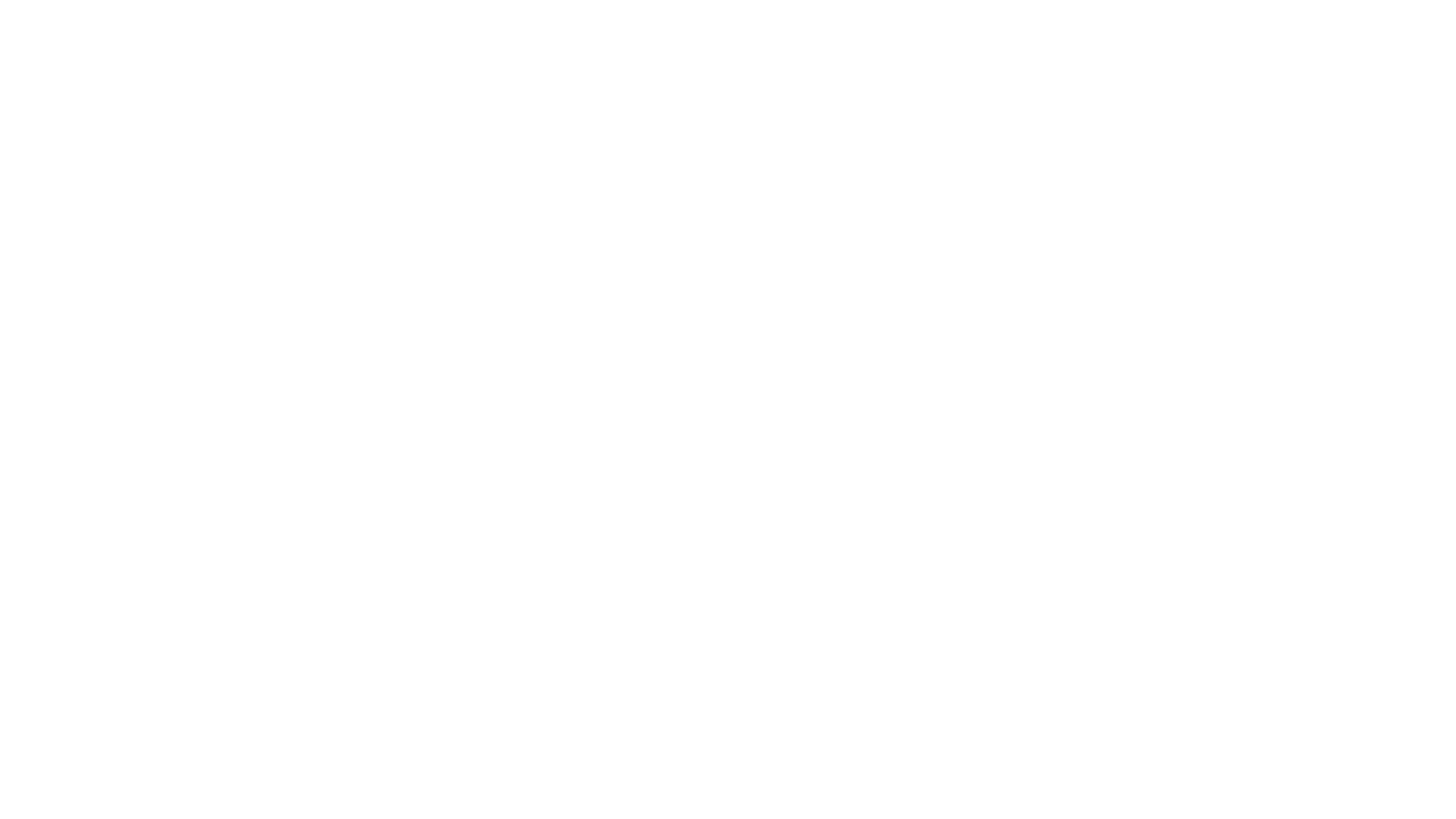
Денис Липатов - Михал Михалыч съел бумажку…
Липатов Денис Вячеславович родился в 1978 году в Нижнем Новгороде (тогда – Горьком), в 2001 году окончил инженерный физико-химический факультет Нижегородского Государственного Технического Университета им. Р.Е.Алексеева.
Публикации в журналах: «Нева», «Континент», «День и Ночь», «Крещатик», «Волга», «Урал», «Звезда», «Интерпоэзия», «Новая Юность», и др. Автор книги стихов «Другое лето» (издательство «Литера», Нижний Новгород, 2015), книги рассказов «Науки юношей» (издательство «ДЕКОМ», Нижний Новгород, 2018).
Публикации в журналах: «Нева», «Континент», «День и Ночь», «Крещатик», «Волга», «Урал», «Звезда», «Интерпоэзия», «Новая Юность», и др. Автор книги стихов «Другое лето» (издательство «Литера», Нижний Новгород, 2015), книги рассказов «Науки юношей» (издательство «ДЕКОМ», Нижний Новгород, 2018).
Михал Михалыч съел бумажку. Представляете? Ну, то есть, разумеется, не вот просто так, сидел, сидел и вдруг ни с того ни с сего взял да и съел. Нет, конечно. Что он, дурачок, что ли? Всё-таки старший лаборант-электротехник на кафедре физики. Перед этим он ещё кое-чем удивил… Ну, во-первых, когда на Горького половина автобуса вышла, а другая половина зашла, а потом другая снова вышла, он неожиданно проворно и даже нахально для такого «обсоса», каким выглядел, занял самое козырное освободившееся место – у окошка, да ещё и над печкой. Продышал в замёрзшем стекле проталинку, протёр её перчаткой и стал что-то там высматривать. Ну, а уж потом, ближе к Политеху, когда проехали и Острожную площадь, и Варварку и стали выруливать уже на Минина, а в автобусе осталось совсем мало пассажиров – в основном только мы, студенты, – он удивил второй раз. Видимо, отогревшись и насмотревшись в проталинку, Михал Михалыч решил отобедать и, ничуть никого не смущаясь, извлёк откуда-то из бездонных подкладок и карманов своей куртки довольно-таки массивную жестяную консервную банку, из другого кармана также невозмутимо выудил складной консервный нож и, даже не сняв перчаток, принялся эту банку этим самым ножом остервенело вскрывать. Тут же выяснялось, что это была тушёнка. Выяснялось также, что на обратной стороне ножа, в рукоятке, была спрятана ещё и маленькая вилочка, которую Михал Михалыч виртуозно высвободил, просто тряхнув ножом в воздухе, как будто сбивал температуру в ртутном термометре. Совершив все эти манипуляции, – весьма ловко и быстро, надо сказать, что, безусловно, требовало некоторой тренировки, учитывая, что совершались они всё же в движущемся транспорте, – Михал Михалыч принялся эту самую тушёнку с аппетитом, и даже не особенно торопясь, поедать. В смысле вкушать, есть, пережёвывать и поглощать. Здесь он, правда, проявил меньше ловкости и сноровки: умудрился расцарапать об острые края банки свой длинный, похожий на клюв, нос, заляпать в желе запотевшие линзы очков. Мы только присвистнули от удивления и с интересом на него уставились: успеет ли он всё доесть до своей остановки, то есть до Политеха, то есть и до нашей тоже. Ведь как раз на лабораторные по электротехнике мы и ехали, то есть и к нему, значит, ехали, потому что он там – старший лаборант, а мы – студенты. Кажется, теперь уже все пассажиры, кто ещё оставался в салоне, смотрели на него, нисколько этого не скрывая. Даже водитель, и тот заметил его в зеркало и даже сбавил скорость. Другой бы подавился. А этот нет, ничего, сидит себе – ест.
Мало ли чудаков на свете?
А Михал Михалыч, и правда не обращая ни на кого внимания, сидел себе, ел тушёнку из банки, поглядывал в окно, в ту самую проталинку, которую он прежде продышал, иногда о чём-то вздыхал, посматривал снова в банку, выуживал оттуда ещё один кусок мяса, отправлял его в рот, снова жевал, снова вздыхал, снова смотрел в проталинку.
Смотрел и думал… Думал, что он, наверное, похож на старого воробья или подбитого камнем галчонка-переростка, что ему уже сорок три года, что он неказист, не женат, беден, почти нищ, жалок и убог, что жизнь вообще пошла кое-как наперекосяк, что в свои сорок три он всего лишь старший лаборант, что студенты над ним смеются, если вообще замечают, что из общежития его, наверное, скоро попрут, и что придётся тогда возвращаться в Урень, а там никого, все уже умерли, а работа только в леспромхозе, а он такую, наверное, уже и не сдюжит, и что хорошо бы тогда вот так ехать и ехать в полусне, в полупустом автобусе, на тёплой печке, словно Емеля, смотреть в окошко, есть тушёнку, снова смотреть в окошко, снова о чём-то думать, наверное, о том, что похож на старого воробья, что неказист, одинок и беден, и никому до тебя нет дела, никто в целом свете о тебе не беспокоится, ни у кого за тебя не болит сердце, никто не будет тебя провожать во тьму или встречать на шумном вокзале, и что до чего же это на самом-то деле хорошо, что всегда так и хотел, так и мечтал жить, и вообще глупо жалеть, глупо оглядываться, что всё идёт, как надо, как и должно было быть, что есть в этом его одиночестве и в этой его бедности и своя прелесть, и своя свобода, и даже своя поэзия. Он даже вообразил себя на минуту пушкинским Евгением из «Медного всадника», хотя кому здесь грозить? Разве что мухинскому Буревестнику, даром что тот пеший, но уж если погонится, то шажищи у него такие, что догонит в два счёта. Погонит на север, нагонит бурю, Волгу перешагнёт как ручеёк, догонит до самого Уреня, загонит в гроб, в медвежий угол, в леспромхоз этот, будь он неладен.
Погрузившись в эти свои размышления, Михал Михалыч и не заметил, как доел уже всю банку, и теперь вилочкой, зачем-то обернув её салфеткой, выуживал последние остатки желе и жира.
– Ой, мама, смотри: дяденька бумажку съел! – восхищённо сообщил на весь автобус чей-то ребёнок.
Михал Михалыч вздрогнул, испуганно взглянул сначала в салон, а потом на свою вилку, на которой и правда салфетки уже не было. Он даже не поверил с первого раза и, сняв очки, снова принялся с интересом её разглядывать. Нет, не было салфетки. Зачем-то он даже спрятал вилку в рукоятку ножа, потом снова достал её оттуда, на этот раз сняв и перчатки, вертел и так и эдак, смотрел со всех сторон: салфетки всё равно – как не бывало. Видимо, задумавшись, он и не заметил, как проглотил её, всю уже пропитавшуюся жиром, а все, наверное, подумали, что он специально, от жадности или бедности, чтобы и тот жир, которым салфетка пропиталась, не пропадал. И что теперь? Половина автобуса – его студенты, которые сейчас к нему же и придут. Хоть на работу не ходи. Засмеют.
Вздохнув, Михал Михалыч спрятал в карман свой складной ножик, пустую банку тоже сунул куда-то в куртку и стал пробираться к выходу – автобус подъезжал уже к Политеху. Здесь только он заметил, что расцарапал до крови нос об острые края банки, и стал теперь тереть его платком, которым до этого протирал заляпанные жиром очки.
В дверях он поравнялся с мамашей того самого ребёнка, который так радостно сообщил на весь салон об его конфузе. Мальчишка смотрел на Михал Михалыча с нескрываемым восхищением: ещё бы – такого фокуса он никогда не видел – чтобы человек прямо в автобусе, как у себя дома, ел из банки тушёнку, а потом ещё съел и бумажку! И хотя мальчишка и был восхищён, но всё же немного стеснялся и прятал половину лица за материной рукой. В его мамаше Михал Михалыч признал одну из студенток с кораблестроительного факультета, у которых тоже были сегодня лабораторные по электротехнике, а значит, и она ехала к нему, а ребёнка оставить не с кем, и выходит, хочешь – не хочешь, а придётся с ним познакомиться. Знакомство Михал Михалыч решил отложить до лабораторных работ, на тот момент, когда студенты соберут уже все цепи, разобравшись, наконец, со всеми амперметрами и вольтметрами, а он, проверив, правильно ли они их собрали, сможет спокойно попить чаю у себя в лаборантской. Ах да, спокойно не сможет: вот же, сегодня он ещё и нянька. Михал Михалыч состроил гримасу и показал мальчишке «козу». Тот, однако, совсем не испугался, а наоборот, засмеялся.
– Здравствуйте, Михал Михалыч, – сказала его мамаша и посмотрела заискивающе.
Михал Михалыч что-то буркнул в ответ. Тут автобус подъехал к остановке и, ещё даже не успев до конца остановиться, распахнул двери.
Ступив на ступеньку, Михал Михалыч почувствовал, что нога его предательски подвернулась и заскользила куда-то в сторону и вверх. «Этого ещё не хватало», – только и успел подумать он, замахав в разные стороны руками, ища опоры, и хлопая ими, словно крыльями.
Все мы посмотрели на него с испугом, потому что автобус ещё двигался, пусть и замедляясь, а Михал Михалыч уже вылетал в открытые двери.
Но, против ожидания, Михал Михалыч полетел не вниз, под колёса, а и правда обратившись то ли в галчонка, то ли в воронёнка, вверх на дерево, на огромный и разлапистый клён, который, весь запорошенный снегом, рос тут же, на остановке. Видимо для галчонка и даже для воронёнка Михал Михалыч был всё же ещё тяжеловат, потому что клён слегка встрепенулся и просыпал часть снега со своих веток вниз, на разинувших рты прохожих и прочий люд, собравшийся на остановке. Но больше всех такого поворота не ожидал, похоже, сам Михал Михалыч и теперь, усевшись на ветке, он с удивлением разглядывал себя. Достав из кармана свой складной нож и повертев его в лапке и так и сяк, он всё же выкинул его в снег: теперь, когда у него такие острые когти и клюв, он ему был ни к чему. Пустую банку решил всё-таки оставить: вдруг пригодится что-нибудь спрятать. Очки. Очки вещь полезная: тоже повертев их в лапке, Михал Михалыч водрузил их обратно на клюв и посмотрел вниз. Внизу столпились все мы: пассажиры, студенты, те, кто был в это время на остановке, и даже те, кто ещё не доехал до своей, тоже вышли из автобуса и собрались внизу у клёна, задрав головы. Даже водитель, и тот вышел и с удивлением смотрел то под колёса, то на дерево. Наконец кто-то, набравшись смелости, крикнул:
– Михал Михалыч, а как же лабораторные?
В ответ Михал Михалыч издал какой-то странный звук, что-то среднее между клёкотом и карканьем, при этом из горла у него вылетела та самая скомканная салфетка, которую он нечаянно проглотил в автобусе. Прочистив таким образом горло и набрав в лёгкие побольше воздуха, Михал Михалыч радостно гаркнул ещё раз:
– Идите к чёррррту! – и, высвободившись из своей, теперь такой необъятной и ненужной ему куртки, захлопав крыльями, полетел прочь.
Мало ли чудаков на свете?
А Михал Михалыч, и правда не обращая ни на кого внимания, сидел себе, ел тушёнку из банки, поглядывал в окно, в ту самую проталинку, которую он прежде продышал, иногда о чём-то вздыхал, посматривал снова в банку, выуживал оттуда ещё один кусок мяса, отправлял его в рот, снова жевал, снова вздыхал, снова смотрел в проталинку.
Смотрел и думал… Думал, что он, наверное, похож на старого воробья или подбитого камнем галчонка-переростка, что ему уже сорок три года, что он неказист, не женат, беден, почти нищ, жалок и убог, что жизнь вообще пошла кое-как наперекосяк, что в свои сорок три он всего лишь старший лаборант, что студенты над ним смеются, если вообще замечают, что из общежития его, наверное, скоро попрут, и что придётся тогда возвращаться в Урень, а там никого, все уже умерли, а работа только в леспромхозе, а он такую, наверное, уже и не сдюжит, и что хорошо бы тогда вот так ехать и ехать в полусне, в полупустом автобусе, на тёплой печке, словно Емеля, смотреть в окошко, есть тушёнку, снова смотреть в окошко, снова о чём-то думать, наверное, о том, что похож на старого воробья, что неказист, одинок и беден, и никому до тебя нет дела, никто в целом свете о тебе не беспокоится, ни у кого за тебя не болит сердце, никто не будет тебя провожать во тьму или встречать на шумном вокзале, и что до чего же это на самом-то деле хорошо, что всегда так и хотел, так и мечтал жить, и вообще глупо жалеть, глупо оглядываться, что всё идёт, как надо, как и должно было быть, что есть в этом его одиночестве и в этой его бедности и своя прелесть, и своя свобода, и даже своя поэзия. Он даже вообразил себя на минуту пушкинским Евгением из «Медного всадника», хотя кому здесь грозить? Разве что мухинскому Буревестнику, даром что тот пеший, но уж если погонится, то шажищи у него такие, что догонит в два счёта. Погонит на север, нагонит бурю, Волгу перешагнёт как ручеёк, догонит до самого Уреня, загонит в гроб, в медвежий угол, в леспромхоз этот, будь он неладен.
Погрузившись в эти свои размышления, Михал Михалыч и не заметил, как доел уже всю банку, и теперь вилочкой, зачем-то обернув её салфеткой, выуживал последние остатки желе и жира.
– Ой, мама, смотри: дяденька бумажку съел! – восхищённо сообщил на весь автобус чей-то ребёнок.
Михал Михалыч вздрогнул, испуганно взглянул сначала в салон, а потом на свою вилку, на которой и правда салфетки уже не было. Он даже не поверил с первого раза и, сняв очки, снова принялся с интересом её разглядывать. Нет, не было салфетки. Зачем-то он даже спрятал вилку в рукоятку ножа, потом снова достал её оттуда, на этот раз сняв и перчатки, вертел и так и эдак, смотрел со всех сторон: салфетки всё равно – как не бывало. Видимо, задумавшись, он и не заметил, как проглотил её, всю уже пропитавшуюся жиром, а все, наверное, подумали, что он специально, от жадности или бедности, чтобы и тот жир, которым салфетка пропиталась, не пропадал. И что теперь? Половина автобуса – его студенты, которые сейчас к нему же и придут. Хоть на работу не ходи. Засмеют.
Вздохнув, Михал Михалыч спрятал в карман свой складной ножик, пустую банку тоже сунул куда-то в куртку и стал пробираться к выходу – автобус подъезжал уже к Политеху. Здесь только он заметил, что расцарапал до крови нос об острые края банки, и стал теперь тереть его платком, которым до этого протирал заляпанные жиром очки.
В дверях он поравнялся с мамашей того самого ребёнка, который так радостно сообщил на весь салон об его конфузе. Мальчишка смотрел на Михал Михалыча с нескрываемым восхищением: ещё бы – такого фокуса он никогда не видел – чтобы человек прямо в автобусе, как у себя дома, ел из банки тушёнку, а потом ещё съел и бумажку! И хотя мальчишка и был восхищён, но всё же немного стеснялся и прятал половину лица за материной рукой. В его мамаше Михал Михалыч признал одну из студенток с кораблестроительного факультета, у которых тоже были сегодня лабораторные по электротехнике, а значит, и она ехала к нему, а ребёнка оставить не с кем, и выходит, хочешь – не хочешь, а придётся с ним познакомиться. Знакомство Михал Михалыч решил отложить до лабораторных работ, на тот момент, когда студенты соберут уже все цепи, разобравшись, наконец, со всеми амперметрами и вольтметрами, а он, проверив, правильно ли они их собрали, сможет спокойно попить чаю у себя в лаборантской. Ах да, спокойно не сможет: вот же, сегодня он ещё и нянька. Михал Михалыч состроил гримасу и показал мальчишке «козу». Тот, однако, совсем не испугался, а наоборот, засмеялся.
– Здравствуйте, Михал Михалыч, – сказала его мамаша и посмотрела заискивающе.
Михал Михалыч что-то буркнул в ответ. Тут автобус подъехал к остановке и, ещё даже не успев до конца остановиться, распахнул двери.
Ступив на ступеньку, Михал Михалыч почувствовал, что нога его предательски подвернулась и заскользила куда-то в сторону и вверх. «Этого ещё не хватало», – только и успел подумать он, замахав в разные стороны руками, ища опоры, и хлопая ими, словно крыльями.
Все мы посмотрели на него с испугом, потому что автобус ещё двигался, пусть и замедляясь, а Михал Михалыч уже вылетал в открытые двери.
Но, против ожидания, Михал Михалыч полетел не вниз, под колёса, а и правда обратившись то ли в галчонка, то ли в воронёнка, вверх на дерево, на огромный и разлапистый клён, который, весь запорошенный снегом, рос тут же, на остановке. Видимо для галчонка и даже для воронёнка Михал Михалыч был всё же ещё тяжеловат, потому что клён слегка встрепенулся и просыпал часть снега со своих веток вниз, на разинувших рты прохожих и прочий люд, собравшийся на остановке. Но больше всех такого поворота не ожидал, похоже, сам Михал Михалыч и теперь, усевшись на ветке, он с удивлением разглядывал себя. Достав из кармана свой складной нож и повертев его в лапке и так и сяк, он всё же выкинул его в снег: теперь, когда у него такие острые когти и клюв, он ему был ни к чему. Пустую банку решил всё-таки оставить: вдруг пригодится что-нибудь спрятать. Очки. Очки вещь полезная: тоже повертев их в лапке, Михал Михалыч водрузил их обратно на клюв и посмотрел вниз. Внизу столпились все мы: пассажиры, студенты, те, кто был в это время на остановке, и даже те, кто ещё не доехал до своей, тоже вышли из автобуса и собрались внизу у клёна, задрав головы. Даже водитель, и тот вышел и с удивлением смотрел то под колёса, то на дерево. Наконец кто-то, набравшись смелости, крикнул:
– Михал Михалыч, а как же лабораторные?
В ответ Михал Михалыч издал какой-то странный звук, что-то среднее между клёкотом и карканьем, при этом из горла у него вылетела та самая скомканная салфетка, которую он нечаянно проглотил в автобусе. Прочистив таким образом горло и набрав в лёгкие побольше воздуха, Михал Михалыч радостно гаркнул ещё раз:
– Идите к чёррррту! – и, высвободившись из своей, теперь такой необъятной и ненужной ему куртки, захлопав крыльями, полетел прочь.



