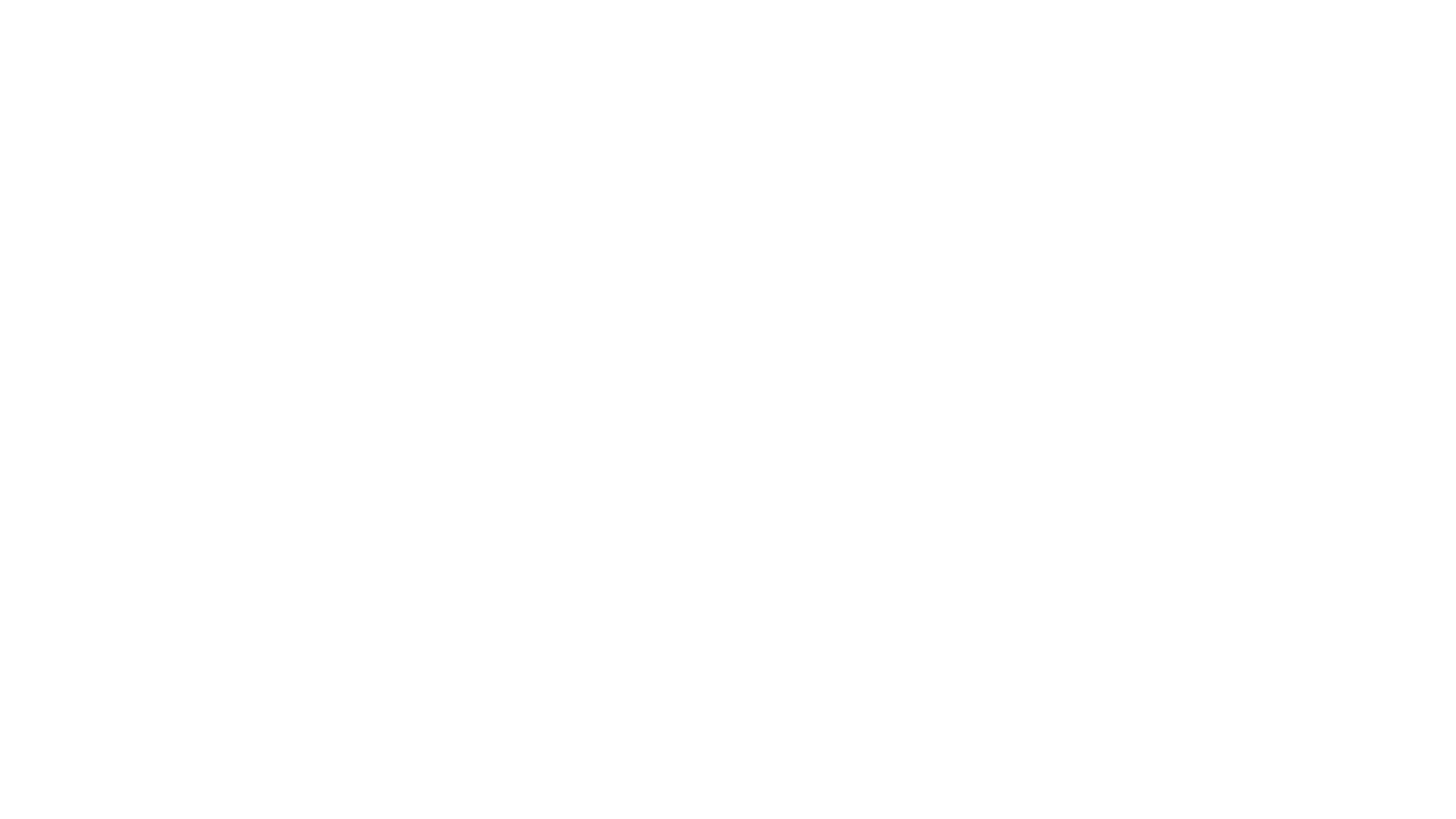
Александр Ломтев – Мимолётное
Александр Ломтев – писатель, журналист, путешественник. Родился в 1956 году. Лауреат премии СП России «Имперская культура» 2006 г., премии им.А.Куприна 2015 г., финалист Бунинской премии 2008 года в номинации «Открытие года» и ряда других. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд», «Пепел памяти», «Шёпот неба», «Лента Мёбиуса», «Финский дом», «Ичкериада», «Не бойся», «Однажды я не умер» и др.Член Союза писателей России, а также Союза журналистов России. Живет и работает в Сарове.
НОЧНОЙ ЗВОНОК
Мама позвонила среди ночи, Боже, ну вот всегда она так! Что ей приспичило?!- У тебя всё нормально?
- Да всё хорошо, что ты вдруг?
- Ну как же хорошо, если ты тревожишься? У тебя же на душе кошки скребут.
- С чего ты взяла? Никаких кошек, всё хорошо, нет никаких проблем.
- Ой, сынок, от меня-то уж ты ничего не скроешь. Ты будь поосторожнее, не лезь на рожон-то. Береги себя всё-таки, у тебя же семья…
- Ладно, ладно… Погоди, мам, а как же ты звонишь, ты же умерла!
- Ну вот так вот… Какая разница, умерла - не умерла, сердце то за вас, детей, всё равно болит…
УТРО
Он шелестел газетой над пустой ещё тарелкой, перед ней шкворчала на плите яичница. Свет из-за окна лился бледный, немощный, совсем не утренний, плоский. Зима всё не уходила и не уходила. Сразу было ясно, что солнца снова не будет, и даже герань на окне выглядела грустной, словно спрашивала: когда же, наконец, настоящая весна, когда – солнце?Он перевернул страницу. Она сняла сковородку с огня, подошла к столу и тонкой лопаточкой ловко подтолкнула белый блин с жёлтыми глазами так, что он съехал в тарелку. Потом опустилась на табурет и задумчиво уставилась в его газету.
Не зря они прожили вместе столько лет. Он почувствовал, отодвинул газету. Посмотрел ей в глаза. Потом положил газету на стол, а локти на газету, серьёзно спросил:
- Что?
Она опустила глаза – словно переглянулась с глазуньей, потом подняла взгляд и очень тихо и серьёзно спросила:
- Ты меня больше не любишь?
Он посмотрел, помолчал, потом, как бы в недоумении, развёл руки и, сделав обиженно-удивлённое лицо, сказал:
- Милая, ну, куда уж больше-то?!
Секунду они смотрели друг на друга, а потом тихо рассмеялись. Он довольный собой, она – просто довольная. Им, в общем-то, было всё равно, какой там свет лился сегодня из-за окна…
РАЗЛУКА
И зачем он поехал один. Лучше бы сидел дома. За долгие годы он так привык к ней…Странно, отчего так бывает, возьмёшь да и накричишь на любимого человека.
И самому потом станет стыдно и нехорошо на душе.
И дался ему этот санаторий…
Он шел в ночном тумане, на краю ойкумены; мир исчезал в десяти шагах бесповоротно – ни огонька, ни движения, только лягушки орали откуда-то из небытия…
В санатории танцы, дамы с удовольствием приглашают кавалеров… И его обязательно кто-нибудь пригласил бы…
Но желания видеть кого-либо не было. Он вспомнил, как однажды она сказала ему:
- Ты моя птичка!
- Я лев! - не согласился он.
- Ты моя птичка-лев, - засмеялась она.
И вот впервые за многие годы он уехал один… Что она сейчас делает?
Тихонько заверещал мобильный. Он вынул его из кармана, нажал нужную кнопку. На экране высветилась эсэмэска: «Я жду тебя, птичка-лев…»
ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ
А время идёт, идёт, идёт… И уходит навсегда.Как много его в пятнадцать. Как жалко его в шестьдесят. Утром, когда дяде Васе стукнуло шестьдесят лет и один день, он собрал все часы, висевшие, стоявшие или лежавшие в квартире, аккуратно сложил их в мусорное ведро и, несмотря на причитания жены, отнес на помойку. Не оставил даже те, что накануне с большой помпой ему подарили сослуживцы, провожая на пенсию. Звякнуло тоненько и жалобно в зеленом контейнере, и время остановилось.
Дядя Вася мечтал об этом мгновении последние пять лет. Мечтал, когда часы подгоняли его при утреннем бритье, когда гнали к убегающему автобусу, когда торопился, злясь и на самого себя, и на обстоятельства, выполнить в срок никому не нужную именно к этому сроку работу. Когда чувствовал, что время, словно шагреневая кожа, сокращается, с каждым годом ускоряя и ускоряя свой бег, а жизни остается все меньше и меньше «Ничего, – говорил он сам себе, – вот выйду на пенсию и выведу время за скобки. Обману его, оно перестанет для меня существовать…»
И, наконец, последнее «тик-так» затихло в зеленом вонючем контейнере.
«Ну вот, теперь я существо вне времени, человек без возраста», – вздохнул про себя дядя Вася и бодро поднялся в квартиру. Однако в душе бодрости не было.
Весь вечер он старался не думать о времени и, как назло, чувствовал каждую протекающую через него минуту. Да что там – секунду. Ночью он лежал без сна и слышал, как стучат часы, – то ли за стеной у соседа, то ли в соседнем доме, то ли на всех часовых башнях всех городов мира… И словно живые часы, сбивчиво и громко стучало его обманутое сердце…
Утром я столкнулся с ним в подъезде:
– Ну, как пенсионерская свобода, дядь Вась? Как проводишь время?
– Время? – дядя Вася обреченно вздохнул. – Время не проведешь…
ГОЛОС
- Саша!Я открыл глаза. Голос, разбудивший меня, еще звучал в ушах. Но в квартире я был один. Некому было сказать мне «Саша!» Но это был не сон, не галлюцинация – с чего бы! Голос и разбудил меня за три секунды до звонка будильника на мобильном. Мама в детстве таким голосом будила в школу – одновременно и деловито-будничным, и по-домашнему тёплым. Но мама давно уже не будит меня по утрам, поскольку покинула нас навсегда, а, может быть, - хотелось бы верить, - до всеобщего воскресенья.
Кто же позвал меня этим ранним утром? И зачем? Что должен был услышать я и понять в этом голосе? Над чем задуматься? Что сделать?
Я проделал всё положенное утреннее – бритва, зубная щетка, чай, галстук… Стал жить, как всегда – машина, светофор, компьютер, заметенная жёлтой листвой вечерняя дорожка в сквере…
Но весь день, а потом еще несколько дней кряду всё нет-нет, да и звучал в ушах тревожащий душу и отчего-то волнующий сердце голос:
- Саша!
ЗУБИК
Старую плиту убирали заранее. Когда её отключили и сдвинули с места, Екатерине Александровне сделалось несколько даже неловко. У неё, чистоплотной домовитой хозяйки за плитой оказался, надо сказать, необъяснимый бардак. Как это всё туда попало?! Ну, пыль-паутина – ладно, ни веником, ни пылесосом туда не проберёшься, вот и скопилось. Но там оказалась ещё масса разнообразного мусора: несколько монет ещё советских времён, спичечный коробок, оловянный солдатик, почерневшая вилка, салфетка, большая красная пуговица (не помнила Екатерина Александровна этой пуговицы, хоть убей, не было в этом доме вещей с такими пуговицами). Приклеилось к линолеуму до последней степени проржавленное лезвие бритвы «Нева» (отец брился такими когда-то). Новогодняя открытка (надпись выцвела и едва просматривалась). Комочек бумаги.Нет, не просто комочек, Екатерина Александровна развернула его и увидела, что это записка, и в записку эту был завёрнут зуб. Детский молочный. «Первый молочный Катенинкин зубик…» - прочитала Екатерина Александровна едва заметную карандашную строчку и присела на табурет.
…Зуб шатался, цеплялся за язык и побаливал. Мешал, в общем. Пока родители у себя в комнате рассуждали кому из них удобнее вести дочь к дантисту, бабушка взяла черную толстую нитку, сделала петельку и, накинув её на больной зуб, другой конец нити привязала к ручке кухонной двери. Посадив внучку на колени, и прижав её голову к груди, позвала сына. Катин папа открыл дверь, зуб вылетел изо рта и с костяным звуком стукнулся о косяк.
Все принялись рассматривать зуб. Мама проворчала что-то про антисанитарию и заставила Катю прополоскать рот раствором марганцовки. Вечером бабушка на обрывке тетрадного листа написала записку и, завернув в него молочный зуб, научила Катю:
- Скажи: «Дедушка Домовой, возьми зубик репяной, а верни костяной…» И кинь за плиту. И зубки у тебя будут хорошие.
Катя так и сделала…
…Зубки у неё и правда получились на загляденье. Сколько лет пролетело! Папа теперь уже старше бабушки. Екатерина Александровна ещё раз прочитала бабушкины каракули: «Первый молочный Катенинкин зубик, на паску 1983 год». Она поднялась, пошла в комнату и, сняв с полки шкатулку с колечками-серёжками, аккуратно положила туда и зубик, и записку. Потом долго стояла у окна и плакала…
БАГУЛЬНИК
Дверь открыла жена, стало быть, дочка еще в школе.- Ты что такой грустный, на работе что-нибудь?
- Да нет, ерунда…
- Ну что, что, скажи, легче станет.
- Понимаешь, пожилую женщину в подземном переходе увидел, стоит с какими-то сухими букетиками и всё время повторяет: «Багульник, недорого, багульник…» Голос тонкий, просящий, но не канючащий, не нищенский, и от этого её еще жальче. А, главное, на маму очень похожа, понимаешь… И багульник этот грустный какой-то - сухие веники с какими-то бутонами…
- Что за багульник, зачем? Целебный что ли? Понятно, что не от хорошей жизни… Ну мама-то была бы жива, она бы у нас по переходам не стояла, ты же знаешь…
- Знаю, знаю, но всё же…
- Перестань… Иди мой руки, и за стол…
Не поняла, не почувствовала. Снова представилось, как она там стоит со своими букетиками… Подошел к книжному шкафу, вынул из тесного ряда том Ожегова, полистал: «Багульник - вечнозеленый болотный ядовитый кустарник с одурманивающим запахом». Лечебный или нет – не написано… Нужно было купить этот чертов багульник. Весь. Ведь наверняка копейки… Пошел в прихожую, накинул куртку, пыхтел с ботинками, когда услышал голос жены с кухни:
- Ты куда? Остынет всё, да куда ты?
- Я быстро, сейчас вернусь…
ЧУЖОЕ
Она откинулась на взъерошенную простыню и, поправив сбитую набок подушку, улыбаясь в потолок сказала:- А ты не такой уж и старый.
- Да я в три раза моложе тебя.
- Как это? – удивилась она.
- Ну, вот ты прыгнешь с парашютом? На мотоцикле пролетишь со скоростью сто восемьдесят? Соберёшься в поездку на Север за пятнадцать минут?
- Хм…
- Ну вот, а я – запросто. Так кто из нас моложе?
- Ну-у, это просто всё не женское дело…
- Отговорки. Жанна д'Арктоже женщина. И Алёна Арзамасская… И Валентина Терешкова… Да мало ли. И вообще – это не гендерный вопрос.
Они долго лежали, молча, каждый по-своему, готовясь к расставанию. У неё своя жизнь, у него – своя. Они даже не знали толком, что их связывает, отчего им так важны эти краденые встрёпанные встречи. Через полчаса хлопнет дверь чужого жилья, аккуратно застеленная постель остынет…
Она, закрыв глаза, тихо сказала:
- Возьми меня в собаки.
- Зачем?
- Я буду зализывать твои раны.
ПЕРЕПЛЫВАЯ РЕКИ
Нам было по двадцать, нам хотелось приключений и испытаний духа и тела. И мы переплывали реки. Мы переплыли вольную, но медлительную Волгу, переплыли не столь широкую, но неприметно быструю Оку, холодную лесную, пропахшую смолой и дизелем Вятку, Урал мы переплыли «на одной руке», правда, в нас, как в Чапая, не стреляли с крутого берега злые белогвардейцы. Переплыв стремительную и холодную Северную Двину, мы долго не могли согреться у огромного костра из таёжного валежника, зато, переплывая в кампании веселых дельфинов Керченский пролив, мы и не устали и не замерзли.По зеленому берегу Дона отливали тусклой платиной чубы ковыля, по краю прибрежного обрыва ходили ленивые лошади, а высоко в небе кучерявились невесомые облачка. Мы знали, что Дон не доставит нам хлопот.
Сидя на горячем песке в позе лотоса, он глубоким и ровным голосом Будды не сказал, а изрек:
- Преодолевая реку, ты преодолеваешь себя.
- Ты заговорил афоризмами. Но я бы тогда обобщил: преодолевая любое препятствие – ты преодолеваешь себя.
- А может быть еще глобальнее: преодолевая самого себя, как одно из главных препятствий, ты преодолеваешь жизнь!
- Тогда уж: преодолевая жизнь, ты преодолеваешь смерть!
- Аминь!
Мы еще не готовы были задуматься о том, что можно преодолеть всё, кроме Леты; мы вошли в прохладную воду Дона и поплыли. До другого берега жизни плыть мне было еще очень далеко. А его берег был совсем близко. Но мы тогда об этом еще не знали…
ПОЗДНО
Поздно. Первый час ночи, конечно, поздно, и в библиотеку, и в бассейн, и в ЗАГС. В ЗАГС тем более поздно. Поздно жениться – возраст давно уже не тот; смысла уже нет никакого жениться. Поздно сажать огурцы, какие огурцы – осень на дворе. Мог бы посадить, но не посадил, а теперь – поздно. Поздно приучать внука к правильной литературной речи. Поздняк метаться, блин! Ему уж двадцать пять стукнуло! Поздно у Степаныча прощения попросить, помер Степаныч. Надо было попросить прощения-то, надо было, но – поздно. Учительнице первой, Марьиванне, спасибо сказать тем более поздно, она когда еще умерла, задолго до Степаныча. На комету Галлея мог посмотреть, да не посмотрел, футбол, что ли, по телеку шел? Теперь поздно. Теперь она к Земле лет через сто прилетит, так что конкретно поздно, окончательно. Все поздно! Как в песне поется: какая боль, какая боль, «Кайф» что ли? Нет, «Чайф». Какая тоска – это безнадежное «поздно»…О! Кругосветное путешествие не поздно совершить! Мечтал же, с детства мечтал – вокруг света… А что, денег на третий класс в простенькой каютке, на авиакресло эконом-класса, на плацкарту и поесть кое-что хватит; загранпаспорт есть, туроператоры помогут. За пару месяцев, не торопясь, по Европе на автобусе, сейчас модно, дальше теплоходом, самолетом… А? Ну?! Где атлас? А завтра в турфирму! А?
Да ладно тебе, не ерепенься, понимаешь же, что поздно! Ну, почему? Да потому, что привык уже, что все – поздно. И вообще поздно – почти час ночи! В твоем возрасте вредно так поздно не спать. Да и волноваться вредно, не мальчик уже… Кругосветное путешествие, понимаешь, запрыгал, понимаешь, заегозил… не мальчик уже… Отьегозился, поздно…
Ну, ладно комета, ладно кругосветка; но огурцы-то посадить еще не поздно, до весны-то авось доживем?! Огурцы? Ну, ладно, огурцы не поздно, не поздно… Может быть…
ВСЁ НЕ ТАК!
Двое брели по тротуару и беседовали. Первый увлечённо втолковывал второму:- Понимаешь, что меня больше всего беспокоит: мы всё видим не так, как есть на самом деле!
- Как это, что ты имеешь в виду?
- Ну вот, нам кажется, что солнце восходит над горизонтом, да? А на самом деле – это земля вращается вокруг солнца и солнце ниоткуда не восходит! И так во всём. Нам кажется, что мы делаем что-то по собственной воле, а в реальности нами манипулируют. А мы даже не замечаем. Кто-то откуда-то дёргает нас за ниточки. Про нейролингвистическое программирование слыхал?
- Да брось ты, наплюй! Нашёл о чём думать! Кто начинает верить в теорию заговора – с ума сходит…
- Да? А, может, наоборот, кто сошёл с ума – тот и понял этот обман. Понял, что всё вокруг не то, чем кажется.
- Может, тебе увлечься чем-нибудь? Боулингом, например. Или футболом…
- Не-ет, этого от меня и хотят! Это же всё для того, чтобы человек себя чем-то занял и ни о чём серьёзном не думал, понимаешь? Ведь и боулинг, и футбол, и филателия – бессмысленны.
- Скажи ещё, что землёй давно управляют инопланетяне.
- Вот! Вот именно! Ты это сам сказал. И не просто так сказал, ты это чувствуешь, только сам себе не хочешь признаться. Потому что знание страшная сила – она заставляет действовать.
Второй криво усмехнулся и потянул первого в тёмный пустой переулок:
- Давай здесь пройдём, тут ближе.
Они свернули за угол, и в переулке тут же что-то негромко хлопнуло, и обшарпанные стены на мгновенье озарило фиолетовым светом.
Через минуту второй выглянул из-за угла и, убедившись, что поблизости никого нет, вышел на улицу. Он неторопливо спрятал миниатюрный аннигиляционный бластер за пазуху и пробормотал:
- Надо же, догадался, кто бы мог подумать…
ОДНАЖДЫ В ЧЕЧНЕ
Колонну обстреляли на полпути между Ханкалой и Аргуном. Ехали быстро, и когда на обочине неожиданно взорвался фугас, почти все соколки просвистели уже за кузовом. На "Урал" тут же полились автоматные очереди. Сыпался песок из пробитых мешков, летела щепа от деревянных бортов машины, с треском рвался брезент, с дребезгом разлетелось зеркало заднего вида. Все бросились на дно кузова. Откуда бьют – непонятно, кажется, из зарослей вдоль недальнего оврага. По броне шедшего следом БТРа гулко бумкнула гаранта из «подствольника», но, видимо, без ущерба для машины и экипажа, поскольку БТР, наконец, ответил огнём пулемёта. А через минуту низко над дорогой пронёсся вертолёт, стреляя по зарослям и оврагу.И вдруг всё стихло. Вертолёт кружил над оврагом. Все молча поднялись с пола кузова. Водитель проверил двигатель, тормоза, всё оказалось целым, и через минуту колонна тронулась дальше. В Аргуне возбуждённый прапорщик всё время повторял:
- Ни одного убитого, представляешь? Ни одного убитого! И даже не ранило никого!
ЧЕ!
На свете был только один настоящий человек. Человек с большой буквы. Во всяком случае, я так думаю. И мне очень, очень, очень жаль, что это не кто-то из моих родителей. Что это не мой первый учитель и не классный руководитель. Что это не мой тренер. Что это не один из моих друзей. Может быть, таким был мой дедушка, но он пропал на войне, и я даже его не видела и не знала. А по фотографии да по рассказам родителей разве что-нибудь поймёшь?Изо дня в день я внимательно присматриваюсь к людям и вижу, что все они с изъяном, с червоточиной – или трусы, или эгоисты, или стяжатели, или лжецы. Лишь один человек кристально чист. И его внутренняя красота отражается в красоте внешней. Стоит только взглянуть на его лицо, и сразу станет ясно – он честен, бескорыстен, он хочет счастья для всех! Этот человек давно погиб, но светлая память о нем жива в моем сердце. Эрнесто Че Гевара. Просыпаясь, я смотрю на его портрет в красно-черных тонах, висящий над моей постелью, и сердце моё наполняется надеждой и верой в то, что у человечества есть будущее.
Тебя нет, пламенный Че, и мне не пробираться с тобой колумбийскими джунглями, не делить с тобой скудную партизанскую пищу, не отбиваться от подлой засады, не защитить тебя от предательской пули.
Я плачу по тебе, мой Че, я шепчу твое имя, и я тоже хочу счастья для всех! И пусть не собран еще где-то в горячем цеху для меня Калашников, знай, я не дрогну! Я плачу по тебе, мой несгибаемый Гевара, но взгляд твой наполняет мое сердце теплом и твердой надеждой. Патриа о муэрте!
БЫВАЕТ…
Было морозное мартовское утро. Кот сидел у дверей магазина и поджимал озябшие лапы. Рыжий, таких в новой России любят называть Чубайсами, пушистый, хоть и явно ничей, но не отощавший, видно продавщицы из магазина подкармливали. Большой красивый рыжий – мартовский, подумалось – кот; я полюбовался и пошел своей дорогой.Через пару часов, на другом конце города я подходил к редакции, когда дорогу мне перебежал еще один рыжий; на первый взгляд – копия утрешнего. Я удивился.
В редакции я рылся в старых журналах, один упал, и с раскрывшейся страницы на меня посмотрел шикарный кот – рыжий. Я задумался…
Вечером я шел домой и все вспоминал об этих рыжих котах. Конечно же, этого никак не должно было случиться, но случилось. У подъезда сидел громадный рыжий котище. Да что же это такое?!
Был у меня такой случай. Ехал я вечером на машине с друзьями по крымскому шоссе в районе Коктебеля. Пассажиры в салоне завели разговор о том, как несколько лет назад охотились в этих краях на зайцев. Зайцев тогда в Крыму действительно было море! Но потом, в результате бесконтрольной охоты, сильно поубавилось. И вот друзья болтают про охоту, а я мечтаю про себя: вот, мол, сейчас проезжаем мы этот поворот, смотрим – а через дорогу не торопясь, идет заяц! И, думаю, я спокойно так скажу: да вот вам и заяц. И посигналю. А заяц естественно перепугается и метнется в кусты!
Так вот: проезжаем мы поворот и, к своему огромному удивлению, я вижу на дороге зайца! Прыгает себе, не торопясь. Я притормозил и посигналил, но от удивления не сказал ни слова, но все в машине и так заорали: «Заяц, заяц!»
Заяц, естественно, перепугался и метнулся с дороги в кусты, только его и видели…
В общем, ужиная, разговаривая с домашними, отвечая на телефонные звонки, я как-то отвлекся. Но когда подошел к телевизору, вдруг вздрогнул: нажимая на кнопку пульта, я уже почти наверняка знал, что увижу. И не ошибся: транслировали выставку кошек, и с экрана на меня нагло глазел красивый котяра. Рыжий…
Вот что бывает на белом свете…
В СИНЕМ МОРЕ
Мимо плыл бюстгальтер. Судя по размеру, хозяйка его была некрупной женщиной. Ярко-синий, он хорошо был виден в прозрачной бирюзовой воде.«Чего только не встретишь в море, - подумал пловец, - даже так далеко от берега. Всё, что угодно можно встретить».
Он вспомнил, как ныряя в одном из заливов греческого острова Лесбос, наткнулся в подводном гроте на большой зелёный мусорный контейнер.
Бюстгальтер медленно несло лёгким течением, и бретельки его свисали словно щупальца медузы. Правда медуза это была с двумя куполами. «Как сиамские близнецы, - усмехнулся про себя пловец, - сросшиеся синие медузы…»
Тут он увидел просверк косяка быстрых кефалей, перехватил поудобнее подводное ружьё, глубоко вдохнул и нырнул. Кефаль была крупная, и её было много…
Только вечером, сидя у мангала, на котором шипела и покрывалась желтовато-коричневой корочкой рыба, он вспомнил про бюстгальтер. Хотел рассказать приятелям. Но не стал. Сидел, смотрел на огонь и думал о той женщине, которая его носила…
ЧЕБУРЕКИ
Поезд стучал колёсами. Во тьме за окном мелькали огоньки, время от времени заполошно и нервно проносился встречный состав. Если грузовой – с грохотом и лязгом, если пассажирский – ещё и с ослепительным мельканием окон. Очень хотелось спать, но сосед рылся в чемодане, доставал и перекладывал свёртки, пакеты; потом принялся ужинать.Он заказал четыре стакана чая, громко прихлёбывая, кусал масляные чебуреки и бубнил:
- Нет, это разве чебурек? Его есть можно только наполовину, а остальное на выброс. Мяса на два воробьиных клевка. Безобразие! А всё эти ребята с юга. Не-е-е, я не националист, но это же… Ни в какие ворота! За кого они нас принимают?! За такие чебуреки, я не знаю… Я бы… десяток другой черноглазых красавцев к стенке и расстрелять. Продал вот такой чебурек – и к стенке! Вот тогда мяса в чебуреках станет больше, чем теста. Тогда чебурек будет чебуреком.
Сосед бубнил про чебуреки, соседние купе уже давно угомонились, звякала чайная ложечка в стакане. Звяканье чайной ложечке в стакане в купе всё равно, что сверчок за печкой в избе. Умиротворяет и создаёт своего рода уют. Под это звяканье всё же удалось задремать.
Утром солнце отражалось в пустых стаканах, в чайной ложечке и бегало зайчиками по купе. Поезд по-прежнему стучал колёсами. Соседа с его чемоданами и свёртками не было, глубокой ночью он сошёл на одной из станций. На столе на промасленной бумаге коробились присохшие останки чебуреков.
ВРЕМЯ ТАКОЕ
Когда двигатель неожиданно заглох, и машина встала, я пошёл пешком. Дорога была знакомой, и довольно быстро я вышел к селу. Однако, выйдя на слободу, я вдруг понял, что не очень представляю себе, где нахожусь. Это было довольно странно, мне казалось, что я знаю село, где родился, как говорится, как свои пять пальцев. Дома по сторонам улицы были совершенно другими, не теми, что я запомнил, да и люди встречались совсем не знакомые. И всё же это было моё село, ошибки быть не могло. Но как всё изменилось! Я даже не уверен был, что иду в правильном направлении.Остановив встречного, я спросил:
- Где Выселки?
- Там! – махнул он рукой, и оказалось, что шёл я всё-таки в правильном направлении.
А вот и дом, где я когда-то родился. Теперь тут живут совершенно чужие люди. Я смотрю на дом, и тоска разрывает мне сердце. Дом перестроен и совсем не похож на тот, что я помню, возле которого когда-то играл на зелёной лужайке.
Мимо проходила какая-то полузнакомая тётка, и я сказал ей:
- Что с домом сделали!
Но она безразлично пожала плечами:
- Теперь везде так. Время такое…
И я понял, что она, конечно, права: время такое. Но дома-то всё равно было жаль.
Переполненный печалью, отправился на трассу, на автобусную остановку. Со мной увязался какой-то сельский паренёк. Мне он показался знакомым, очень похож на моего дружка детства Ваську. Только было это сто лет назад, и Васька недавно умер; так что это мог быть разве что внук Васьки. Чтобы выйти к трассе, нужно было пройти по довольно сырой и грязной лощинке. Странно, подумалось мне, раньше ведь здесь была нормальная сухая дорога. Перескакивая с одного сухого пятачка на другой, мы выбрались к обочине, и тут меня ждал новый сюрприз – забор, которого сроду здесь не было! Да и зачем он здесь нужен?
Обходить далеко, да и судя по толпе на остановке, автобус вот-вот должен подойти. Пришлось лезть через забор. На него уже забралось несколько человек, и я подумал, как бы мы его не свалили. И забор тут же начал заваливаться. Я не мог разжать ладоней, чтобы выставить руки вперёд, и понял, что упаду лицом прямо в грязь. Но мальчишка сказал:
- Нет, здесь сухо.
Действительно, я совсем не испачкался, только пыль пришлось с брюк отряхнуть. Я подошёл к остановке и тут увидел участкового в милицейской форме. Он улыбнулся, протянул мне руку и, с энтузиазмом потряхивая её, сказал:
- Ну вот, ваша угнанная машина нашлась! Её сейчас пригонят сюда, и вы сможете спокойно уехать.
«Слава те, Господи!» – с большим облегчением подумал я и с чувством кипящей радости проснулся.
ОДНАЖДЫ Я ОСЛЕП
Однажды я ослеп, но не отчаялся, а стал жить дальше. Причем с удивлением обнаружил, что существование мое опирается отныне не на осязание, а на обоняние. Жизнь моя поплыла из запаха в запах. Только теперь я понял, что мир переполнен запахами. Изумительными и противными, радующими и пугающими, напоминающими, будоражащими, зовущими, нежными и острыми, дикими и едва уловимыми, родными и неведомыми. Запахи – мой календарь. Если всюду витает мандариновый дух – Новый год. Если поплыла в воздухе терпкая черемуха и сладковатая сирень – май на дворе. Лето вплывает в мир медовым запахом липы. Август пахнет сеном. Осень – грибным духом. Ноябрь – палыми листьями и завтрашним снегом.Если пахнет страхом – рядом недруг. Дома пахнет уютом и защитой, в гостях – теплом и дружбой, на улицах большого города – безразличием, в деревне – детством…
Придет время, и я узнаю, как пахнет смерть…
ФОТО НА ПАМЯТЬ
Старая фотография. Крым. Евпатория. Детский санаторий. Так бывает. Вдруг невесть откуда выскользнет старая, казалось бы, уже безвозвратно потерянная фотография, и запнешься, остановишься, впадешь в легкий ступор. Забудешь на время, что искал и для чего полез в эти коробки… Это я?! Это я. А это Наташка, а это Колька, а имена этих детей память уже потеряла…Синее море оказалось вовсе не синим. Скорее – зеленым. И пахло не солью. И не йодом. А чем-то, для чего не придумано еще точного названия; какой-то романтической тухлецой, но и без названия этот запах будоражил и навевал сладкую тоску. Примерно такую же, какую приносит терпкий, горький запах мелкого коричневого шлака, рассыпанного между железнодорожными шпалами – так пахнет расставание, надежда на дальнее путешествие со счастливым возвращением, надежда на будущее счастье, которое наступит после того, как отстучат по стыкам рельс вагонные колеса и поезд привезет тебя туда, куда ты по-настоящему всю жизнь стремишься… И прибой шумел, и кричали чайки, и ракушки светлой полосой белели после шторма, и белый пароход дымил трубой почти на самом горизонте… И все впервые. И первая любовь…
Наташка, украиночка: щечки пухленькие, с ямочками, губки – вишенки, глаза – черешни, темные, влажные и зовущие… Смешливая. Ох, и дрались же мы из-за нее отчаянно с нечаянным другом Колькой из Днепропетровска. Дружили и дрались. На снимке она стоит между нами, но руку положила на Колькино плечо. Вид у меня безмятежный, почти веселый, но как же мне было обидно…
В тот день одна девочка из нашего отряда впала в истерический припадок. Мы бродили по пляжу, собирали красивые камушки, облизанные прибоем монпансье бутылочных стеклышек и ракушки, и кто-то ее задел, уже не помню чем. Она кричала, брызгала слюной и страшно кусала себя за руку. А дети, пока не подоспели воспитатели, смеялись над ней и дразнили. И Колька кричал ей: «Фас! Фас! Укуси себя за нос!» Тогда мы первый и единственный раз подрались не из-за Наташки. Нас обоих наказали, и мы как-то незаметно помирились. А Наташка обиделась, что я заступился «за припадочную», ведь она смеялась вместе со всеми. Девочку положили в изолятор, а после обеда пришел фотограф делать общий снимок «на память».
Нас поставили «группой», и Наташка положила руку на Колькино плечо; фотограф покомандовал, пощелкал затвором, и наши лица навеки отпечатались в серебре негатива… И навеки Наташкина рука застыла не на моем плече.
Жизнь завертела, закружила, развела… Только эта фотография да тоска о чем-то безвозвратно потерянном – вот и все, что осталось от того солнечного времени в жестокой памяти. А в зачерствевшей, заскорузлой от долгого употребления душе, до сих пор нет-нет да и заплещется то детское евпаторийское море, омывая её житейские раны и трещины; хотя на фотографии моря нет.
ДЕТСТВО
Были каникулы. Было лето. Был день Ивана Купалы. Мы бегали вдоль пруда, и сикАли в прохожих водой из любых подручных ёмкостей – из «клизьмы», из велосипедного насоса, из водяных пистолетиков; а если заставали кого-то из сверстников на узком в три доски мостике через пруд, то сталкивали его в воду. Мы брызгали в тёток, идущих по мостику на обеденную дойку за околицу, в визжавших в притворном ужасе старшеклассниц, бежавших с тока домой пообедать, в старого почтальона, закрывавшего руками свою сумку, в юродивого, который смеялся беззубым ртом и грозил нам самодельным кнутом из размочаленной верёвки, в деда, гнавшего по берегу пруда норовистую козу. И никто не обижался; в жаркий летний день даже приятно, когда на потное, горячее тело брызгают прохладной водицей. А если людей по близости не было, мы сикАли друг в друга, в собаку Шарика, носившуюся с нами как угорелая, сбивали водяными струйками быстрых стрекоз и оводов… Воду мы набирали прямо из пруда, тут же с шаткого, низкого мостика.Иногда, утомившись от необузданного смеха и погони за жертвами, мы ложились голыми животами на горячие шершавые доски и всматривались в мутноватую воду пруда, пугая друг друга:
- А вот сейчас русалка тебя за волосы – хвать!
- Утопленник!
- Водяной!
Мир мирно и солнечно плавал вокруг нас бездумным сонным цветочным, сенным и молочным духом.
А кругом было лето и свет, и свобода двенадцати лет…
А вечером из-под мостика вытащили утопленницу. Семнадцатилетняя девушка утопилась ночью «от несчастной любви». Она весь день была там, под мостиком. И, может быть, безмятежно лёжа на теплых досках и глядя в воду, мы смотрели прямо в ее печальные глаза…
НАКАНУНЕ
Паром уходил утром, и весь вечер допоздна они сидели на берегу у большого костра, разожженного из плавника и сухого саксаула. Жарили на прутиках куски лепешки, пили портвейн и болтали о том – о сём. Все, конечно, завидовали Белле. Кто больше, кто меньше, но все. Белла уезжала в Москву. Сначала на пароме в Баку, а оттуда самолетом в столицу. У Беллы в Москве дядя, и он обещал пристроить племянницу в институт.Костер отгонял ночную прохладу пустыни, портвейн грел изнутри, ветерок с Каспия нес знакомые запахи подгнивших водорослей, сырого песка и дизельный дух порта. Сбоку отсвечивал тусклым электрическим заревом Красноводск.
Белла была рядом, мелкими глоточками пила вино, закусывала подгоревшей лепешкой, но смотрела на всех как будто уже издалека. И вроде даже несколько снисходительно, как коренная москвичка на провинциальных родственников. Это было обидно, но никто не показывал виду. Из Красноводска редко кому выпадало уехать так далеко; поступить в вуз в Ашхабаде уже считалось большой удачей, а тут - Москва. И если уж кому и должно было повезти, то, конечно, Белле. Отличнице и красавице, да еще и с таким именем. Поэтому завидовали по-хорошему. И каждый втайне думал, что это даже неплохо, что в столице обоснуется свой человек, будет к кому прийти в гости, а то и переночевать, подвернись случай оказаться в Москве. Мало ли – командировка, туристская путевка, мало ли…
Костер рдел в ночи горячими рубинами, тявкали из темноты шакалы, ночная птица кричала со стороны скал, нависших над засыпающим городом, Каспий мерно дышал и шелестел волной. У них был дружный класс, и всем было грустно. Скоро почти каждому предстояло уехать, но первой – и так далеко! – предстояло уехать Белле. Она грустила вместе со всеми, но легкое нетерпенье уже волновало сердце, что там, как там… Москва, все новое, большое, настоящее…
Через два года Советского Союза не станет, Москва окажется в другом государстве, русские из Красноводска будут уезжать, и вскоре и родители Беллы, продав по дешевке квартиру, уедут в Россию. Про тот вечер как-то быстро забудется; жизнь пойдет такая, что станет не до сентиментальных воспоминаний; Беллу, впрочем, иногда будут вспоминать в поредевшей компании одноклассников, но где она, закончила ли институт, вышла ли замуж, нарожала ли детей, - никто уже не узнает...
А Белла тот вечер отчего-то будет вспоминать всю жизнь. И костер, и прохладу, подступающую из весенней пустыни, и плеск невидимого в ночи Каспия, и подгоревший на огне кусок лепешки. И блестящие то ли от бликов костра, то ли от игры портвейна в молодой крови глаза одноклассников. И те надежды, которые волновали тогда душу, независимо от того, сбылись они или нет…
О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕШЬ
Жарко. Очень жарко. Нет и семи утра, а уже нечем дышать! И чего его понесло на эту Кубу. Ну, пальмы, ну океан, ну Гавана… Сидел бы сейчас в тенёчке на бережку родного Черного моря, потягивал бы красное винцо только из холодильника. Василий Иванович шёл по песку, даже сквозь подошвы сандалий ощущая, как тот наливается жаром. Нет, потом, дома в компании за пивком забавно будет похвалиться, что вот, мол… Можно даже приврать, что самого Фиделя видел… Но эта жара! Василий Иванович оплывал потом и чувствовал себя скользким обмылком в горячей сауне.На окраине посёлка было посвежее, с океана дул бриз и жара была не так тягостна. Ветерок трепал лохматые головы пальм, шелестели невысокие апельсиновые деревца, несильный прибой лизал длинный белый пляж. Позади остались и белые бунгало турцентра, и обшарпанные домишки обслуги; на самом краю посёлка, совсем недалеко от берега шелестела сухим пальмовым листом на пологой крыше старая деревянная хижина.
Увидев удобно гнутый океанскими ветрами ствол неведомого дерева, Василий Иванович присел на него передохнуть и невольно залюбовался. Океан блестел из края в край, над горизонтом стояли огромные башни облаков, далеко за хижиной тянулась тёмно-зеленая гряда вычурных, словно слепленных по эскизам Сальвадора Дали холмов Пинар-дель-Рио, да и сама хижина была тут так к месту, так хорошо вписывалась в пейзаж, что Василий Иванович забыл про жару, и всё смотрел, смотрел, не мог насмотреться. Понимаю Хемингуэя, - пробормотал он про себя и устыдился, такой надуманной и ненужной показалась собственная мысль.
Неожиданно дверь домишка отворилась и на широкий, выбеленный солнцем и морским ветром порог вышли двое. Молодой темнокожий парень и темнокожая, но ближе к цвету кофе с молоком девушка. Хижина была такая дряхлая, что трудно было предположить, что она жилая, скорее уж для антуража, для туристов сохраненная тут, на берегу. Но двое, похоже, здесь жили. Василия Ивановича они за изогнутой веткой не видели, он же их видел очень ясно. Пара была хороша! Стройные, высокие, гибкие… Василий Иванович хотел встать и потихоньку уйти – и не смог. Прикипел взглядом. Парень в шортах и драной майке сел, улыбаясь, на крыльцо, опершись мускулистым плечом о столбик, поддерживающий навес, а девушка в просторном цветастом балахоне, смеясь что-то говорила ему и ерошила кудрявую голову. Вдруг девушка скрылась в тёмном дверном проёме, потом появилась вновь и, протянув парню вынесенный флакон, сбросила балахон. У Василия Ивановича остановилось дыхание. Чёрт, как хороша! – стиснул он зубы. А парень, плеснув из флакона в ладони, принялся натирать девушке ноги, отчего те заблестели и залоснились. Он натирал молодое упругое тело, болтал что-то, блестя белыми зубами, а девушка весело смеялась, закидывая пышно кудрявую голову.
Василий Иванович весь как-то отсырел изнутри, сердце сладко заныло, невыразимая грусть вперемежку с чем-то томительно-тянущим стала заполнять его большое грузное тело. Отчего-то вспомнилась жена, но не такой, которую он оставил час назад в бунгало спящей и во сне похрапывающей с открытым ртом, а молодой студенткой, смеющейся вот так же беспечно и легко с запрокидыванием головы.
Парень, в конце концов, шлёпнул девушку по попке, поднялся и, подобрав цветастый балахон, скрылся в темноте хижины, девушка потянулась, крикнула ему что-то в дверной проем и всё еще посмеиваясь, ушла за ним.
Василий Иванович медленно поднялся со ствола и побрёл к турцентру. Весь день он был так тих и задумчив, что жена забеспокоилась – не заболел ли? Но рассказать он ей ничего не мог. Разве такое расскажешь?
БАЛАЛАЙКА
Меня мучает одно обстоятельство. Человек умирает и всё, что ему было дорого, теряет ценность. Поскольку, как правило, никому не нужно. Вы видели семейные фотоальбомы на помойке? Жуткое дело…На днях иду мимо мусорного бака, а в нём на горе отходов – балалайка. Фёдора Ивановича балалайка.
Тихий был человек, как раньше говорили – мямля и подкаблучник. Сейчас сказали бы лузер, кажется? Незаметный такой, но симпатичный был, улыбчивый, никогда ни в чём не откажет.
Была у него одна радость. По праздникам брал бутылочку и напивался. И тут уж даже жена его не трогала. Видно как-то раз попробовала и ей не понравилось. Она в такие дни весь вечер у телевизора сидела, а Фёдор Иванович мучил на кухне балалайку. Он терзал балалайку, и она скулила, плакала, стонала. И вместе с ней плакал и стонал Фёдор Иванович.
Идут мужики мимо окна, а за занавесками балалайка и – «Ой, да ты кали-и-ну-ушка, ой, да размали-и-ину-ушка, ой, да ты не сто-о-ой не стой, на горе-е-е круто-о-ой…»
Улыбнутся мужики: «Фёдор Иваныч гуляет…»
Ни у кого не было во всей округе балалайки, а у него была. Гармошки ещё кое у кого были, гитары, естественно, а чтобы балалайка…
Пытались его в художественную самодеятельность затянуть, или хотя бы на свадьбу, но нет – ни в чём не отказывал, а тут упёрся. С улыбочкой, но категорически.
Так по праздникам и разговаривал с ней один на один; она плачет и он с ней…
И вот – умер. И балалайка на помойке.
И в чём тогда смысл жизни?
ПОЛСЕКУНДЫ
Он испугался ночью. Вдруг проснулся, не помня сна; сердце билось, выскакивало из груди, дыхания не хватало; и ужас, ужас раздергивал сознание как старую тряпку на ветошь. Надо же, подумал он, днем не испугался, а сейчас накатило. Он дотянулся до пачки сигарет, чиркнул зажигалкой, в отблеске огонька было видно, что пальцы дрожат.Вспомнилось всё до малейшей мелочи…
Дорога весело, быстро и плавно бежала навстречу, подкатывалась под колеса и выплывала в зеркале заднего вида. Журчала магнитола «я не буду, я не буду целовать холодных рук…», щебетали женщины о чем-то своем женском. Еще час и шоссе приведет их к дому….
Дальняя встречная фура плавно выползла сначала на прерывистую белую линию на середине дороги. Потом снова вернулась в свой ряд и стала не такой уж и дальней. И снова начала выползать на встречную полосу. Что за черт, подумал он, заснули они там что ли?! А дальше – мгновения. Фура идет прямо им лоб в лоб. Ближе, ближе, совсем близко! Он прижимается к правой обочине, но и фура, не сбавляя скорости, съезжает на его обочину. Он почти съезжает в кювет и тормозит, но и фура упрямо уходит вправо и прёт лоб в лоб. Камни из-под колес. Гравий пулеметной очередью по днищу. Крик одной из пассажирок. Руки других, хватающиеся за подголовники, за ремни, мельком – глаза, полные ужаса в зеркале заднего вида. Вот! Сейчас! Боже, за что?! Как во сне, руль резко влево, мощно мелькнула громада фуры справа. Словно локомотив просвистел. Занос! Встречная? Нет! Руль в сторону заноса. Противоположная обочина, снова дробь гравия по днищу; на свою полосу, к обочине, тормоз; остановка. Живы! В зеркало заднего вида: громадина завалилась в кювет и уткнулась издыхающим бизоном в лесополосу. Уффффф…
Так, посмотреть, что там, кто там, как там? Водитель выбрался сам. Не ранен. Молодой, совсем пацан. Руки трясутся, глаза по восемь копеек: закурить дайте! Заснул? Заснул…
Дальше поехали возбужденные, болтали без умолку: в последнюю секунду разминулись! По-настоящему и не испугались…
Не испугался. Ехал, вспоминал с усмешкой, вечером чай пил усмехался, спать лег счастливый…
Ночью внезапный ужас. Вспышка: до смерти была всего одна секунда! Полсекунды. До утра лежал, время от времени курил, не спал, думал, не думая; лежал и ужасался…



