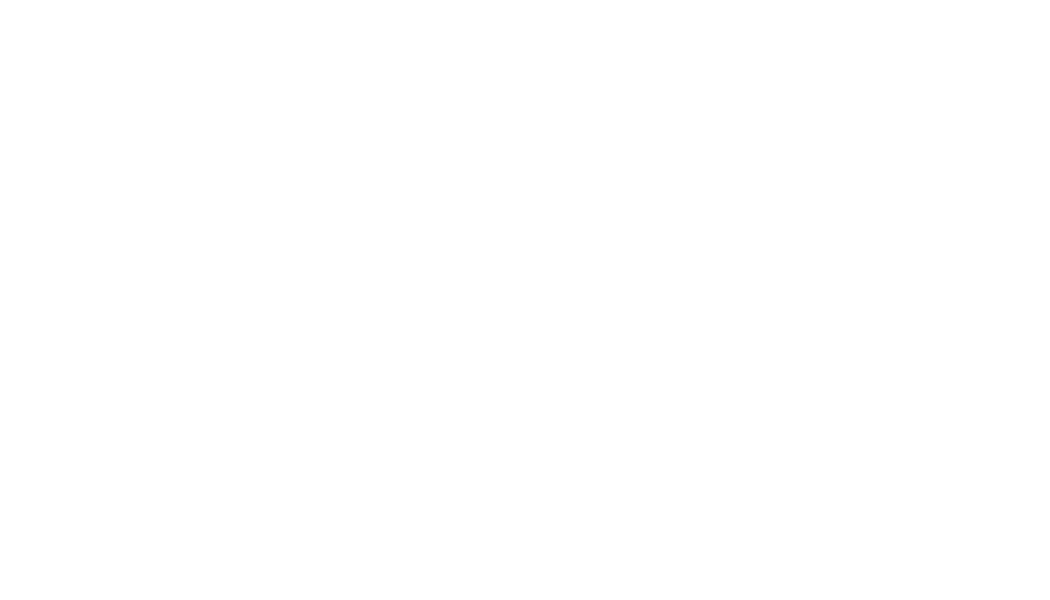
Юрий Лунин — Голуби
Юрий Лунин (род. в 1984 г) – прозаик, член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Наш современник», «Волга», «Дон» и др., а также в различных сетевых изданиях. Лауреат премии им.Ивана Гончарова (за книгу рассказов «Святой день»), лауреат русско-итальянской литературной премии «Радуга» (рассказ «Гады»), дипломант Всероссийского конкурса современной прозы им. Василия Белова «Всё впереди» (рассказ «Три века русской поэзии»). В настоящее время живёт в деревне Следово Ногинского района Московской области. Женат, отец троих детей.
Мне было тогда двадцать семь. Университет я закончил в двадцать три. Соответственно, я уже четыре года жил на земле в качестве взрослого человека, то есть такого, которому больше нечем подпитывать иллюзию, что жизнь есть нечто ожидающее его впереди, и который, таким образом, вынужден уже просто жить.
Видимо, чего-то в этой просто жизни мне очень не хватало, иначе вряд ли я записался бы в автошколу.
Это теперь я с трудом представляю себя без автомобиля, а тогда я обходился без него так же легко, как некурящий обходится без сигарет. Мир машин волновал меня в то время так мало, что если бы меня попросили составить список из тысячи предметов, которые мне интересны, то, исчерпав свои настоящие приоритеты уже на первой сотне и начав заполнять оставшиеся девятьсот позиций всем, что только взбредёт в голову, я включил бы в этот список самые ничтожные вещи, но ни за что не догадался бы включить туда автомобиль. На людей, которые с жадностью читают журнал «За рулём» и при каждом удобном случае устремляются в гараж, я всегда смотрел со смешанным чувством удивления и жалости, как на инопланетян с какой-то безотрадной планеты.
Поэтому тот факт, что я всё-таки очутился на водительских курсах, я не могу объяснить ничем иным, кроме как полуосознанной мечтой вернуться во времена студенчества; меня ведь и занесло на эти курсы в апреле — самом юном и обещающем месяце в году.
Впрочем, остаётся непонятным, что именно так привлекало меня, двадцатисемилетнего взрослого, в моих студенческих годах, вся прелесть которых, как я уже сказал, держалась на иллюзии, что всё впереди.
Видимо, надо смириться с тем, что истинные мотивы многих человеческих поступков, часто таких понятных и обыкновенных с виду, навсегда останутся в сумерках.
Как бы то ни было, одно могу сказать с уверенностью: повернуть время вспять занятия в автошколе под гордым именем «Орлан» мне не помогли. В
лучшем случае, это напоминало один из тех снов, где хорошо знакомые сцены из прошлой жизни преподносятся сознанию с какими-то нелепыми коррективами, вроде бы не особо значительными, однако способными необратимо исказить характер целого.
Да, я снова сидел на лекциях, видел преподавателя у доски, слышал дружный смех над чьими-то глупыми вопросами; «а дайте, пожалуйста, кто-нибудь листочек и ручку»; «молодые люди, если вам не интересно, выйдите за дверь, почему остальные обязаны слушать вашу болтовню?» — и так далее. Однако достаточно было одного взгляда на собравшуюся в аудитории публику, чтобы приятное чувство узнавания тут же сменилось ощущением грусти и неуюта: девочки с аккуратно заплетёнными косами, едва перешагнувшие за школьный порог, сидят вперемешку с пышногрудыми домохозяйками, звенящими бижутерией и лоснящимися от жирного крема против морщин, а анорексичные юноши с «тоннелями» в ушах рядом с угрюмыми заводскими мужиками, в чьих огромных мозолистых ладонях блокнот и ручка смотрятся как нечто хрупкое и неестественное.
Всех этих разношёрстных людей привело сюда одно общее желание — получить водительские права, но желание это или слишком приземлённое, или слишком эгоистичное, чтобы послужить основой хотя бы для маломальского человеческого сближения. За полчаса, проведённых в очереди к бесплатному стоматологу, люди умудряются установить гораздо более тёплые взаимоотношения, чем за несколько недель водительских курсов. Кажется, что между будущими водителями уже вьётся та пустота охраняемой неприкосновенности, которая впоследствии будет виться между их машинами на многополосной трассе. Когда в час пик смотришь на эти машины откуда-нибудь с высоты, расстояние между ними кажется таким ничтожным, что поневоле удивляешься: насколько напряжённой должна быть забота человека о целостности его персональной железной клети, чтобы ни один из элементов многотысячного потока ни разу не «поцеловался» с другим. И всё же иногда это происходит.
Однажды — кажется, уже в конце мая — подходя к зданию, где наряду с парикмахерской, турагентством и конторой ритуальных услуг гнездился и мой «Орлан», я увидел трёх девушек из моей группы. Они стояли у набитой мусором урны, вокруг которой было наплёвано и набросано окурков. Одна из них не очень умело затягивалась сигаретой. Она была, наверное, моего возраста, а двум другим, некурящим, я дал бы лет по двадцать, не больше. Вот уже несколько недель я видел этих девушек, но до сих пор не знал, как их зовут, и не испытывал ни малейшего желания это узнать. Честно говоря, я даже считал вполне нормальным не здороваться с ними. Разумеется, это было взаимно.
Я остановился неподалёку от них, закурил (до начала занятий оставалась ещё пара минут) и невольно подслушал их разговор. Девушки никак не могли решить, пойти им, как обычно, на лекцию или купить по банке коктейля и посидеть на лавочке в сквере, ведь сегодня такой классный день. Все аргументы за и против были названы, но девушки проговаривали их снова и снова, — наверное, затем, чтобы в какой-то момент обнаружить, что большую часть лекции они уже проболтали, и увидеть в этом решающий аргумент в пользу сквера.
Я докурил и, чтобы бросить окурок в урну, вынужден был слегка потеснить их компанию. Мой окурок не удержался на горе других и упал на заплёванный асфальт. Почему-то эта мелочь ввела меня в лёгкую растерянность, и в течение нескольких секунд я неподвижно стоял среди девушек, которые при этом стихли в ожидании моих дальнейших действий. Постояв, я кашлянул и отправился на лекцию. Тогда они продолжили свою медлительную дискуссию.
На лекции я машинально записывал что-то в тетрадь, в то время как мысли мои почему-то были с этими девушками. Сначала я каждую минуту невольно бросал взгляд на дверь аудитории, ожидая, что они вот-вот появятся, а потом, когда стало ясно, что они выбрали сквер, стал воображать, каково им сейчас там, в сквере: не жалеют ли они о сделанном выборе? не скучно ли им друг с другом? смеются ли они — или говорят о чём-то серьёзном? А ещё меня почему-то интересовало, когда они познакомились и подружились: до или после поступления в автошколу?
Незаметно все вопросы, связанные с ними, слились во мне в одно беспокойное чувство, чем-то похожее на ревность. Как будто мне открылось, что прямо в эту минуту, сидя в сквере, девушки испытывают то прекрасное, что давно мечтаю, но не могу испытать я сам.
Лекция закончилась, я вышел на улицу и пошёл в сторону дома. Правда, той весной мне ещё трудно было назвать это место своим домом. Это была первая в моей жизни съёмная квартира, в которую я переехал из родительской меньше полугода назад.
Истинный мотив этого поступка также ускользает от меня. «Уже пора», — так объяснил я родителям своё намерение жить отдельно, в соседнем городе, и теперь затрудняюсь что-нибудь к этому прибавить.
Наверное, в соседний город без видимой на то причины удаляется тот, кто в глубине души желает удалиться на край света, но почему-либо не решается этого сделать. Кого-то удерживает чувство долга, кого-то — страх неизвестности, кого-то — обстоятельства. Меня же удержала моя нелепая, раньше опыта пришедшая грустная мудрость, которая подсказывала, что для экспериментов с чужбиной вовсе не обязательно порывать с любящими тебя людьми и нашпиговывать свою биографию пёстрыми приключениями за семью морями. Она говорила, что достаточно проехать полчаса на автобусе, зайти в самый обычный дом, потом в такую же обычную квартиру — и бросить там свои вещи.
Действительно: мне вполне хватало моей съёмной однушки в соседнем промышленном городе, чтобы время от времени ощущать себя в её стенах на самом краю света — в предельной удалённости от всего родного. Это ощущение неизменно рождало во мне тоску, которая в первое время так угнетала меня, что, едва почуяв её приближение, я тут же трусливо нырял в какое-нибудь отвлекающее занятие: выполнял за компьютером работу на неделю вперёд, готовил что-нибудь изысканное к своему одинокому ужину, читал лёгкую оптимистическую литературу, смотрел мультфильмы детства; наконец, глазел, прихлёбывая пиво, в телевизор. Но в какой-то момент, которого я теперь не вспомню, я принял решение не прятаться от этой тоски, и с тех пор она стала самым важным и, пожалуй, даже самым желанным переживанием моей повседневной жизни. Отныне, ощутив её близость (обычно это происходило в час вечерних сумерек или посреди пасмурного дня), я выключал компьютер и телевизор, гасил повсюду электрический свет и ложился на кровать. Я предоставлял тоске хозяйничать во мне, а сам внимательно наблюдал за её работой. Мне казалось, что чувство вселенской чужбины, разлитое в воздухе, вот-вот сгустится до предела, станет самим воздухом, — и тогда я смогу различить в нём очертания какой-то наивысшей, навсегда спасительной человеческой родины.
Итак, я шёл после лекции на эту квартиру. Я мог пойти несколькими путями и выбрал тот, что пролегал через сквер; мне хотелось увидеть девушек. И я увидел их там.
Они сидели на скамейке и громко смеялись. Они были довольно пьяны или, по крайней мере, хотели казаться друг другу пьяными.
— Ну как? — окликнула меня старшая, когда я проходил мимо. — Интересно было?
— Я думаю, вам было интереснее, — ответил я, замедлив шаг.
— Ой, а расскажите нам, про что там говорили! — попросила одна из младших.
Я охотно проследовал к их скамейке, закурил и вкратце пересказал лекцию.
— Ой, а давайте мы все остальные лекции тоже прогуляем, а вы нам каждый раз будете так пересказывать? — сказала другая младшая.
— Ну уж нет, — сказал я. — Вы так сопьётесь, а я буду чувствовать себя виноватым.
Старшая девушка достала из сумки банку с коктейлем «Винтаж» и протянула мне.
— Давайте спиваться вместе, — сказала она, и младшие засмеялись.
Я тоже посмеялся, открыл банку и с удовольствием глотнул коктейля.
— Вообще, правильно, — сказал я. — Надо пить, а то ведь скоро все будем деловые, за рулём.
— Хорошо бы, — завздыхали девушки и дружно постучали по скамейке.
Мы чокнулись банками и снова сделали по глотку. Мне показалось, что старшая смотрит на меня по-особенному, не так, как младшие. Что она как будто приглядывается ко мне.
Эта старшая имела лёгкую склонность к полноте, но назвать её полной было нельзя; скорее подходило слово «крупная». У неё были чёрные и мелкокурчавые, как у негритянки, волосы и широкое смуглое лицо с большими широко посаженными глазами и пухлыми губами. Белки её глаз и зубы светились одной и той же голубовато-жемчужной белизной. Из-за высоко расположенных прямых плеч её облик, и без того слегка иноплеменный, приобретал уже нечто туземное и заметно терял в женственности, и в то же время было совершенно ясно, что эти плечи свидетельствуют не о животной ловкости и силе и даже не о крепком здоровье, а о чём-то другом, чего я, правда, не смог бы назвать.
Младшие вскоре ушли, и я сел на скамейку; уйти с недопитым подаренным коктейлем в руке показалось мне невежливым.
Я узнал, что девушку зовут Кристина, и сказал, что могу проводить её до дома. Кристина сказала, что не против прогуляться, но предупредила, что живёт не очень-то близко. Я сказал, что время у меня есть. Так оно, в принципе, и было.
Мы встали. Кристина, танцевально двигая бёдрами, натянула повыше джинсы, которые сильно сползли. Кажется, её фигура, на вид не такая уж экзотическая, была, однако, из тех, на которые трудно подобрать точно подходящую по размеру одежду. Я купил нам в дорогу ещё по банке коктейля, и мы пошли по городу.
Разговор не особенно клеился. Обычно, когда так говорят, имеют в виду, что собеседники испытывали некое взаимное неудобство. В нашем с Кристиной случае это было не так. Нам было вполне комфортно, потому что ничто не мешало нам в любую секунду разойтись в разные стороны; просто, говоря о каком-нибудь предмете, мы не могли быть уверены, что действительно говорим об одном и том же, и, главное, никак не пытались это исправить. Например, она к чему-то упомянула, что её мама стопроцентная сова, а сама она скорее жаворонок, и ничто не подсказывало мне, как лучше отреагировать на эту информацию: сообщить в ответ, какими из этих птиц являемся, по моему представлению, моя мама и я, или просто промолчать. В результате я зачем-то сказал, что не особенно верю в эту птичью классификацию, и тут же почувствовал, как моя реплика улетела куда-то в «молоко».
Мы проходили мимо заброшенной железнодорожной станции. Кристина озабоченно огляделась по сторонам и сказала:
— Извиняюсь, конечно, но мой мочевой пузырь сейчас лопнет.
Она вручила мне свою сумку и банку с недопитым коктейлем, отбежала и, ловко пригнувшись, скрылась в темноте под перроном. Я из пустой деликатности отвернулся, выждал с полминуты и повернулся обратно. Кристина шагала в мою сторону, так же танцевально подтягивая на ходу джинсы и улыбаясь.
— Как мало человеку надо для счастья! — сказала она.
Мне представилось на мгновение, что это начало нашего свидания: я заранее пришёл сюда, подождал её, как положено, несколько минут — и вот она, моя любимая девушка, идёт ко мне со словами: «Как мало человеку надо для счастья!»
Я вернул ей сумку и коктейль, и мы пошли дальше, продолжая беседовать в прежнем духе, но почему-то наш путь стал казаться мне приятнее. Может быть, дело было в том, что наступал вечер — моё любимое время.
Мы подошли к её подъезду. Кристина остановилась напротив меня и сказала:
— Спасибо, добрый человек, что проводил даму до дома. Дай, что ли, я тебя за это поцелую.
Она обвила мою шею руками, и мы несколько минут целовались.
— Пока, — сказала она и, показав мне ладонь, скрылась в черноте подъезда.
Я пошёл домой, не вытирая рукавом губ, очень влажных от её поцелуя. От моих губ пахло её дыханием.
«Странно, — думал я. — Можно вести с человеком пустой разговор и ничего о нём толком не узнать — а потом сразу узнать его дыхание».
Через день была очередная лекция. Я немного опаздывал, поэтому на лестнице, по которой я поднимался, никого не было. Вдруг я услышал за собой шаги. Я обернулся и увидел Кристину.
— Привет, — сказал я.
Мы остановились посреди лестницы и снова целовались. В этот раз во время поцелуя мы почему-то начали шумно, взволнованно дышать; позавчера, у подъезда, мы так не дышали. Мне до сих пор непонятно, является такое дыхание бессознательным проявлением страсти, или же это, наоборот, осознанный сигнал, свидетельствующий о том, что оба согласны дать страсти место.
Мы услышали, что по лестнице кто-то спускается.
— Можем сейчас поехать ко мне, — сказала Кристина шёпотом.
— Поехали, — сказал я.
Мы очень быстро (не помню теперь, держась или не держась за руки) достигли стоянки такси, спросили первую на очереди машину и уселись позади шофёра. Кристина назвала адрес, машина тронулась.
Всю дорогу я внимательно наблюдал за тем, как необщительный шофёр орудует коробкой передач.
«Когда-нибудь, — говорил я себе, — я буду так же уверенно водить машину».
Не то чтобы я очень об этом мечтал; я просто думал об этом, пока мы ехали.
Мой водительский опыт на тот день ограничивался занятиями на компьютерном тренажёре; все учащиеся нашей автошколы обязаны были «отъездить» на таком определённое количество часов. Тренажёр, как мог, имитировал реальную обстановку вождения: ученик пользовался настоящей коробкой передач, педалями газа, тормоза и сцепления, а на большом экране, послушная его манипуляциям, двигалась картинка условного города. Катаясь по этому городу, можно было задавить пешехода или врезаться на полном ходу в жилой дом, не испытав при этом ни страха, ни мук совести. А ещё можно было съехать с проезжей части на зелёный газон и, сбрив пару десятков кустов, прибыть в то место, где приветливый муляж мироздания внезапно обрывался и перед тобой вырастала непроницаемая стена из хаотично шевелящихся квадратов. Собственно, основную часть времени, отведённого мне на тренажёр, я посвящал именно тому, что стучался в эту стену передним бампером. В наушниках при этом раздавался звук удара о нечто твёрдое. Странно: казалось бы, ничто так не разоблачало трёхмерную фальшивку, как эта стена, однако именно в ней я чувствовал нечто наиболее подлинное, сближающее подделку с реальной жизнью…
Не помню, как мы выходили из машины, как поднимались по лестнице и входили в Кристинину квартиру. Помню, как из тёмного коридора я проследовал за ней в её светлую комнату, бо̀льшую часть которой занимал разложенный диван, кое-как накрытый пушистым бежевым пледом. Кристина закрыла за нами дверь и подошла ко мне. Целуясь, мы задышали ещё чаще, чем на лестнице в автошколе, а потом легли на диван и были вместе.
Потом мы несколько минут молча лежали. Я обратил внимание на то, что противоположная стена сплошь увешана рисунками. Я встал и, прогуливаясь голым по узкому проходу между диваном и стеной, стал разглядывать рисунки. Я чувствовал себя посетителем какой-то странной современной выставки, где от зрителей требуют быть раздетыми.
На мой взгляд, рисунки были крайне слабыми. Мне пришло на ум, что так, наверное, должно рисовать большинство взрослых людей, не имеющих ни малейшей предрасположенности к изобразительному искусству и вследствие этого берущихся за рисование лишь по необходимости, — например, когда попросит ребёнок. Так рисовала, например, моя мать.
В том, что рисунков на стене Кристининой комнаты так много, была для меня неразрешимая загадка, — ведь это означало, что человек, рисующий так же плохо, как моя мать, тем не менее, всё рисует и рисует.
Я невольно обернулся к Кристине.
— Только без комментариев, — сказала она и закрыла голое тело пледом. — Я знаю, что я бездарность. Все мне это говорят.
— Прямо так и говорят? — искренне удивился я.
— Да, — сказала она. — Мама. Отчим. Подруга, которая закончила художку…
Я внимательно посмотрел на Кристину. Я всё ещё не мог ощутить, что мы говорим об одном и том же. Мама, отчим, подруга, их беспощадная критика — всё это по-прежнему казалось мне чужим и непонятным, и я подумал о том, что, ничего не зная о человеке, можно, оказывается, не только узнать его дыхание, но и познать всю близость его тела.
— Здесь есть один-единственный рисунок, — сказала Кристина, — который я считаю удачным.
— Давай я попробую его найти, — предложил я и снова повернулся к стене.
Я сразу догадался, что искать надо либо в центре стены, либо над письменным столом. В центре стены ничего примечательного я не обнаружил: корягообразные человеческие фигуры, скучные и явно без особой охоты нанесённые на бумагу деревья и здания. А из тех рисунков, что были над столом, моё внимание привлёк один, на котором было изображено несколько голубей, клюющих на асфальте крошки.
Голуби были разные — каждый в особенной позе, каждый, если можно так сказать, со своим характером. Один, к примеру, одноногий, а другой — с большим уродливым наростом на лапе. Если все остальные рисунки Кристины отражали одно лишь стремление научиться наконец прилично рисовать, то в этом читался порыв искреннего интереса к простой уличной сценке.
Особенно мне понравилось, как художница передала разобщённость голубей. Они были заняты крошками, а друг на друга им было абсолютно плевать. Их фигурки располагались на листе в приятном ритме, как бы составляя единый узор картины, но от этого реальное равнодушие птиц друг к другу становилось лишь очевиднее. Может быть, конечно, передать разобщённость голубей не представляет на самом деле никакой сложности; может быть, их и невозможно изобразить иначе как разобщёнными, — и всё же в рисунке ощущалась творческая находка. Даже та самая топорность линий, которая на остальных работах Кристины обезображивала натуру, здесь могла сойти за осознанный и уместный художественный приём.
Рисунок был выполнен чёрной гелевой ручкой, но на шейках у двух или трёх птиц виднелись красные, зелёные и голубые штрихи. Этими штрихами Кристина, несомненно, пыталась передать перламутровый перелив оперения. Никакого перламутра у неё, конечно, не вышло, но и это казалось скорее удачей, чем недостатком. Всё сходилось: полная разобщённость при единстве ритма, примитивная схема перламутра вместо самого перламутра.
— Этот? — спросил я.
— Да, — кивнула Кристина. — За этот рисунок мне не стыдно. В нём я что-то уловила, — она откинула одеяло, протянула ко мне руки и пошевелила пальцами. — Не хочешь опять ко мне?..
Потом мы, всё ещё голые, сидели на кухне и пили вино, которое Кристина нашла в холодильнике. Кристина сказала, что я красиво смотрюсь на фоне окна, сходила в комнату и вернулась, вооружённая гелевой ручкой и самым обыкновенным альбомом для рисования. Она закинула ногу на ногу и, положив альбом на колено, стала энергично чиркать ручкой по бумаге. Я сидел неподвижно, изредка поднося ко рту стакан и делая глоток вина.
Внезапно Кристина издала звук, похожий одновременно на рычание и стон, и, приподняв альбом, с силой ударила им себе по колену.
— Блин, ну почему люди в жизни такие красивые, а у меня они получаются такими страшилами?! — полузаплакала-полузасмеялась она. Она по-собачьи выкатила язык, закатила глаза и, опустив руки, ссутулилась; её груди, небольшие и заострённые, принадлежащие как будто не молодой женщине, а девочке с избыточным весом, некрасиво повисли, а лицо густо покраснело.
Я подошёл к ней, чтобы посмотреть на свой недорисованный портрет и сказать что-нибудь ободряющее, но Кристина быстро перевернула альбом рисунком вниз.
— Не надо на это смотреть! — почти крикнула она и напряжённо застыла с лежащими на альбоме кистями рук, тоже, к моему удивлению, покрасневшими.
Я погладил её пружинистые волосы и наклонился, чтобы поцеловать её, но она резко отдёрнула от меня лицо.
— Не целуй меня! — сказала она отрывисто, голосом какой-то злой старухи. — Я бездарность!
Я почувствовал, что её движения и слова серьёзны не до конца, что в них есть доля игры, — но такая игра не умиляла меня, а, напротив, отталкивала. Мне даже стало вдруг стыдно нашей наготы. Из глупого приличия я постоял возле Кристины ещё с полминуты, а затем побрёл в комнату одеваться.
Одеваясь, я увидел её в дверях.
— Всё? Уходишь навсегда? — спросила она с интонацией, наполненной вместо мелодраматизма, вроде бы неизбежного для подобных фраз, чем-то другим — трудно сказать чем.
— С чего ты взяла? — ответил я. — Просто решил одеться.
Она посмотрела на меня с недоверием, которое почему-то внушило мне секундное чувство опасности, но, поразмыслив, одобрила моё решение:
— Вообще-то правильно. Маму иногда отпускают пораньше.
Она тоже стала одеваться.
В тёмном коридоре, надев ботинки, я протянул к ней руки, чтобы мы обнялись и поцеловались на прощание, но она лишь подставила мне щёку и зачем-то спросила:
— Как ты думаешь, мы получим эти дурацкие права?
— Когда-нибудь уж точно получим, — ответил я, пожав плечами. — Вон сколько машин в городе. В каждой из них сидит человек с правами.
И я ушёл.
Оставалось всего-навсего две лекции. Явившись на первую из них, я не сомневался, что теперь мы с Кристиной будем сидеть рядом, поэтому придержал для неё соседнее место. Но вышло иначе. Она появилась в аудитории с большим опозданием и, даже не взглянув в мою сторону, проследовала на громких высоких каблуках к своему обычному месту рядом с двумя младшими девушками. Я заметил, что у неё сильно накрашены губы и глаза. По-моему, до этого я ни разу не видел на её лице косметики.
Во время занятий она то и дело смешила своих приятельниц, так что получила наконец замечание от преподавателя. Когда же в аудитории начал нарастать привычный шум, призванный довести до сведения нашего наставника, что его время истекло, и, глянув на часы, он громко и бесчувственно затараторил «важную информацию организационного характера», — Кристина раньше других сорвалась с места и, на ходу забрасывая сумку на плечо, устремилась к выходу.
— Вообще-то я ещё не закончил, — сказал преподаватель, провожая Кристину недобрым взглядом, но она как будто не услышала его. Она так торопилась уйти, что даже забыла совершить своё обычное действие — подтянуть джинсы, — и, глядя ей вслед, я не мог сосредоточить внимание ни на чём другом, кроме как на её оголившейся коже с неловкой чёрточкой тени.
На заключительной лекции всё повторилось почти точь-в-точь: снова она явилась с опозданием и снова проследовала на каблуках к своим девушкам, не посмотрев в мою сторону; снова хихикала с ними и получила замечание; наконец, она снова была ярко накрашена. Разве что на этот раз вместо джинсов на ней была длинная чёрная юбка. Я впервые видел её в юбке.
Я с некоторым напряжением ожидал той минуты, когда поднимется шум и преподаватель, как обычно, перейдёт к «важной информации организационного характера». Я готовился увидеть, как, забрасывая на плечо сумку, Кристина раньше остальных выбежит из аудитории, чтобы исчезнуть из моей жизни надолго, может быть навсегда. Однако шум поднялся, преподаватель заладил своё, а Кристина осталась на месте. Тогда я понял, что нам предстоит какой-то разговор.
Я вышел из автошколы и закурил. Через минуту она появилась на улице в своей привычной компании. Все трое опять увлечённо над чем-то смеялись, но, увидев меня, младшие быстро поцеловали Кристину и удалились, довольно громко заметив напоследок, что она потрясающе выглядит.
— Хорошо, что ты не ушёл, — сказала Кристина. — Потому что у меня что-то для тебя есть.
«Голуби», — подумал я сразу, и моя догадка тут же получила частичное подтверждение: она достала из сумки и протянула мне самодельный конверт из разноцветной обёрточной бумаги.
— Вот, — сказала она. — Считай, что это подарок на память.
— Спасибо, — сказал я, стараясь сделать вид, что не имею никаких предположений насчёт содержимого конверта. — Насколько я понимаю, ты не хочешь больше общаться со мной?
— Я думала, это ты не хочешь, — сказала Кристина.
— С чего ты взяла?
— Не знаю, — сказала она. — Мне так показалось.
— Пойдём ко мне, — предложил я.
— Зачем? — спросила Кристина.
Я не ожидал такого вопроса и не сразу нашёлся с ответом.
— Не знаю, — сказал я. — Я думал, нам неплохо вместе, — и зачем-то добавил: — Я живу один.
Несколько секунд она смотрела на меня очень странно: под этим взглядом я показался самому себе тонким садистом — человеком, который при помощи какой-то подлости получил над Кристиной тайную власть; приглашая её к себе домой, я делаю вид, что она свободна отказаться, в то время как оба мы прекрасно знаем, что никакой свободы у неё нет.
— Пойдём, — сказала она.
Видимо, чего-то в этой просто жизни мне очень не хватало, иначе вряд ли я записался бы в автошколу.
Это теперь я с трудом представляю себя без автомобиля, а тогда я обходился без него так же легко, как некурящий обходится без сигарет. Мир машин волновал меня в то время так мало, что если бы меня попросили составить список из тысячи предметов, которые мне интересны, то, исчерпав свои настоящие приоритеты уже на первой сотне и начав заполнять оставшиеся девятьсот позиций всем, что только взбредёт в голову, я включил бы в этот список самые ничтожные вещи, но ни за что не догадался бы включить туда автомобиль. На людей, которые с жадностью читают журнал «За рулём» и при каждом удобном случае устремляются в гараж, я всегда смотрел со смешанным чувством удивления и жалости, как на инопланетян с какой-то безотрадной планеты.
Поэтому тот факт, что я всё-таки очутился на водительских курсах, я не могу объяснить ничем иным, кроме как полуосознанной мечтой вернуться во времена студенчества; меня ведь и занесло на эти курсы в апреле — самом юном и обещающем месяце в году.
Впрочем, остаётся непонятным, что именно так привлекало меня, двадцатисемилетнего взрослого, в моих студенческих годах, вся прелесть которых, как я уже сказал, держалась на иллюзии, что всё впереди.
Видимо, надо смириться с тем, что истинные мотивы многих человеческих поступков, часто таких понятных и обыкновенных с виду, навсегда останутся в сумерках.
Как бы то ни было, одно могу сказать с уверенностью: повернуть время вспять занятия в автошколе под гордым именем «Орлан» мне не помогли. В
лучшем случае, это напоминало один из тех снов, где хорошо знакомые сцены из прошлой жизни преподносятся сознанию с какими-то нелепыми коррективами, вроде бы не особо значительными, однако способными необратимо исказить характер целого.
Да, я снова сидел на лекциях, видел преподавателя у доски, слышал дружный смех над чьими-то глупыми вопросами; «а дайте, пожалуйста, кто-нибудь листочек и ручку»; «молодые люди, если вам не интересно, выйдите за дверь, почему остальные обязаны слушать вашу болтовню?» — и так далее. Однако достаточно было одного взгляда на собравшуюся в аудитории публику, чтобы приятное чувство узнавания тут же сменилось ощущением грусти и неуюта: девочки с аккуратно заплетёнными косами, едва перешагнувшие за школьный порог, сидят вперемешку с пышногрудыми домохозяйками, звенящими бижутерией и лоснящимися от жирного крема против морщин, а анорексичные юноши с «тоннелями» в ушах рядом с угрюмыми заводскими мужиками, в чьих огромных мозолистых ладонях блокнот и ручка смотрятся как нечто хрупкое и неестественное.
Всех этих разношёрстных людей привело сюда одно общее желание — получить водительские права, но желание это или слишком приземлённое, или слишком эгоистичное, чтобы послужить основой хотя бы для маломальского человеческого сближения. За полчаса, проведённых в очереди к бесплатному стоматологу, люди умудряются установить гораздо более тёплые взаимоотношения, чем за несколько недель водительских курсов. Кажется, что между будущими водителями уже вьётся та пустота охраняемой неприкосновенности, которая впоследствии будет виться между их машинами на многополосной трассе. Когда в час пик смотришь на эти машины откуда-нибудь с высоты, расстояние между ними кажется таким ничтожным, что поневоле удивляешься: насколько напряжённой должна быть забота человека о целостности его персональной железной клети, чтобы ни один из элементов многотысячного потока ни разу не «поцеловался» с другим. И всё же иногда это происходит.
Однажды — кажется, уже в конце мая — подходя к зданию, где наряду с парикмахерской, турагентством и конторой ритуальных услуг гнездился и мой «Орлан», я увидел трёх девушек из моей группы. Они стояли у набитой мусором урны, вокруг которой было наплёвано и набросано окурков. Одна из них не очень умело затягивалась сигаретой. Она была, наверное, моего возраста, а двум другим, некурящим, я дал бы лет по двадцать, не больше. Вот уже несколько недель я видел этих девушек, но до сих пор не знал, как их зовут, и не испытывал ни малейшего желания это узнать. Честно говоря, я даже считал вполне нормальным не здороваться с ними. Разумеется, это было взаимно.
Я остановился неподалёку от них, закурил (до начала занятий оставалась ещё пара минут) и невольно подслушал их разговор. Девушки никак не могли решить, пойти им, как обычно, на лекцию или купить по банке коктейля и посидеть на лавочке в сквере, ведь сегодня такой классный день. Все аргументы за и против были названы, но девушки проговаривали их снова и снова, — наверное, затем, чтобы в какой-то момент обнаружить, что большую часть лекции они уже проболтали, и увидеть в этом решающий аргумент в пользу сквера.
Я докурил и, чтобы бросить окурок в урну, вынужден был слегка потеснить их компанию. Мой окурок не удержался на горе других и упал на заплёванный асфальт. Почему-то эта мелочь ввела меня в лёгкую растерянность, и в течение нескольких секунд я неподвижно стоял среди девушек, которые при этом стихли в ожидании моих дальнейших действий. Постояв, я кашлянул и отправился на лекцию. Тогда они продолжили свою медлительную дискуссию.
На лекции я машинально записывал что-то в тетрадь, в то время как мысли мои почему-то были с этими девушками. Сначала я каждую минуту невольно бросал взгляд на дверь аудитории, ожидая, что они вот-вот появятся, а потом, когда стало ясно, что они выбрали сквер, стал воображать, каково им сейчас там, в сквере: не жалеют ли они о сделанном выборе? не скучно ли им друг с другом? смеются ли они — или говорят о чём-то серьёзном? А ещё меня почему-то интересовало, когда они познакомились и подружились: до или после поступления в автошколу?
Незаметно все вопросы, связанные с ними, слились во мне в одно беспокойное чувство, чем-то похожее на ревность. Как будто мне открылось, что прямо в эту минуту, сидя в сквере, девушки испытывают то прекрасное, что давно мечтаю, но не могу испытать я сам.
Лекция закончилась, я вышел на улицу и пошёл в сторону дома. Правда, той весной мне ещё трудно было назвать это место своим домом. Это была первая в моей жизни съёмная квартира, в которую я переехал из родительской меньше полугода назад.
Истинный мотив этого поступка также ускользает от меня. «Уже пора», — так объяснил я родителям своё намерение жить отдельно, в соседнем городе, и теперь затрудняюсь что-нибудь к этому прибавить.
Наверное, в соседний город без видимой на то причины удаляется тот, кто в глубине души желает удалиться на край света, но почему-либо не решается этого сделать. Кого-то удерживает чувство долга, кого-то — страх неизвестности, кого-то — обстоятельства. Меня же удержала моя нелепая, раньше опыта пришедшая грустная мудрость, которая подсказывала, что для экспериментов с чужбиной вовсе не обязательно порывать с любящими тебя людьми и нашпиговывать свою биографию пёстрыми приключениями за семью морями. Она говорила, что достаточно проехать полчаса на автобусе, зайти в самый обычный дом, потом в такую же обычную квартиру — и бросить там свои вещи.
Действительно: мне вполне хватало моей съёмной однушки в соседнем промышленном городе, чтобы время от времени ощущать себя в её стенах на самом краю света — в предельной удалённости от всего родного. Это ощущение неизменно рождало во мне тоску, которая в первое время так угнетала меня, что, едва почуяв её приближение, я тут же трусливо нырял в какое-нибудь отвлекающее занятие: выполнял за компьютером работу на неделю вперёд, готовил что-нибудь изысканное к своему одинокому ужину, читал лёгкую оптимистическую литературу, смотрел мультфильмы детства; наконец, глазел, прихлёбывая пиво, в телевизор. Но в какой-то момент, которого я теперь не вспомню, я принял решение не прятаться от этой тоски, и с тех пор она стала самым важным и, пожалуй, даже самым желанным переживанием моей повседневной жизни. Отныне, ощутив её близость (обычно это происходило в час вечерних сумерек или посреди пасмурного дня), я выключал компьютер и телевизор, гасил повсюду электрический свет и ложился на кровать. Я предоставлял тоске хозяйничать во мне, а сам внимательно наблюдал за её работой. Мне казалось, что чувство вселенской чужбины, разлитое в воздухе, вот-вот сгустится до предела, станет самим воздухом, — и тогда я смогу различить в нём очертания какой-то наивысшей, навсегда спасительной человеческой родины.
Итак, я шёл после лекции на эту квартиру. Я мог пойти несколькими путями и выбрал тот, что пролегал через сквер; мне хотелось увидеть девушек. И я увидел их там.
Они сидели на скамейке и громко смеялись. Они были довольно пьяны или, по крайней мере, хотели казаться друг другу пьяными.
— Ну как? — окликнула меня старшая, когда я проходил мимо. — Интересно было?
— Я думаю, вам было интереснее, — ответил я, замедлив шаг.
— Ой, а расскажите нам, про что там говорили! — попросила одна из младших.
Я охотно проследовал к их скамейке, закурил и вкратце пересказал лекцию.
— Ой, а давайте мы все остальные лекции тоже прогуляем, а вы нам каждый раз будете так пересказывать? — сказала другая младшая.
— Ну уж нет, — сказал я. — Вы так сопьётесь, а я буду чувствовать себя виноватым.
Старшая девушка достала из сумки банку с коктейлем «Винтаж» и протянула мне.
— Давайте спиваться вместе, — сказала она, и младшие засмеялись.
Я тоже посмеялся, открыл банку и с удовольствием глотнул коктейля.
— Вообще, правильно, — сказал я. — Надо пить, а то ведь скоро все будем деловые, за рулём.
— Хорошо бы, — завздыхали девушки и дружно постучали по скамейке.
Мы чокнулись банками и снова сделали по глотку. Мне показалось, что старшая смотрит на меня по-особенному, не так, как младшие. Что она как будто приглядывается ко мне.
Эта старшая имела лёгкую склонность к полноте, но назвать её полной было нельзя; скорее подходило слово «крупная». У неё были чёрные и мелкокурчавые, как у негритянки, волосы и широкое смуглое лицо с большими широко посаженными глазами и пухлыми губами. Белки её глаз и зубы светились одной и той же голубовато-жемчужной белизной. Из-за высоко расположенных прямых плеч её облик, и без того слегка иноплеменный, приобретал уже нечто туземное и заметно терял в женственности, и в то же время было совершенно ясно, что эти плечи свидетельствуют не о животной ловкости и силе и даже не о крепком здоровье, а о чём-то другом, чего я, правда, не смог бы назвать.
Младшие вскоре ушли, и я сел на скамейку; уйти с недопитым подаренным коктейлем в руке показалось мне невежливым.
Я узнал, что девушку зовут Кристина, и сказал, что могу проводить её до дома. Кристина сказала, что не против прогуляться, но предупредила, что живёт не очень-то близко. Я сказал, что время у меня есть. Так оно, в принципе, и было.
Мы встали. Кристина, танцевально двигая бёдрами, натянула повыше джинсы, которые сильно сползли. Кажется, её фигура, на вид не такая уж экзотическая, была, однако, из тех, на которые трудно подобрать точно подходящую по размеру одежду. Я купил нам в дорогу ещё по банке коктейля, и мы пошли по городу.
Разговор не особенно клеился. Обычно, когда так говорят, имеют в виду, что собеседники испытывали некое взаимное неудобство. В нашем с Кристиной случае это было не так. Нам было вполне комфортно, потому что ничто не мешало нам в любую секунду разойтись в разные стороны; просто, говоря о каком-нибудь предмете, мы не могли быть уверены, что действительно говорим об одном и том же, и, главное, никак не пытались это исправить. Например, она к чему-то упомянула, что её мама стопроцентная сова, а сама она скорее жаворонок, и ничто не подсказывало мне, как лучше отреагировать на эту информацию: сообщить в ответ, какими из этих птиц являемся, по моему представлению, моя мама и я, или просто промолчать. В результате я зачем-то сказал, что не особенно верю в эту птичью классификацию, и тут же почувствовал, как моя реплика улетела куда-то в «молоко».
Мы проходили мимо заброшенной железнодорожной станции. Кристина озабоченно огляделась по сторонам и сказала:
— Извиняюсь, конечно, но мой мочевой пузырь сейчас лопнет.
Она вручила мне свою сумку и банку с недопитым коктейлем, отбежала и, ловко пригнувшись, скрылась в темноте под перроном. Я из пустой деликатности отвернулся, выждал с полминуты и повернулся обратно. Кристина шагала в мою сторону, так же танцевально подтягивая на ходу джинсы и улыбаясь.
— Как мало человеку надо для счастья! — сказала она.
Мне представилось на мгновение, что это начало нашего свидания: я заранее пришёл сюда, подождал её, как положено, несколько минут — и вот она, моя любимая девушка, идёт ко мне со словами: «Как мало человеку надо для счастья!»
Я вернул ей сумку и коктейль, и мы пошли дальше, продолжая беседовать в прежнем духе, но почему-то наш путь стал казаться мне приятнее. Может быть, дело было в том, что наступал вечер — моё любимое время.
Мы подошли к её подъезду. Кристина остановилась напротив меня и сказала:
— Спасибо, добрый человек, что проводил даму до дома. Дай, что ли, я тебя за это поцелую.
Она обвила мою шею руками, и мы несколько минут целовались.
— Пока, — сказала она и, показав мне ладонь, скрылась в черноте подъезда.
Я пошёл домой, не вытирая рукавом губ, очень влажных от её поцелуя. От моих губ пахло её дыханием.
«Странно, — думал я. — Можно вести с человеком пустой разговор и ничего о нём толком не узнать — а потом сразу узнать его дыхание».
Через день была очередная лекция. Я немного опаздывал, поэтому на лестнице, по которой я поднимался, никого не было. Вдруг я услышал за собой шаги. Я обернулся и увидел Кристину.
— Привет, — сказал я.
Мы остановились посреди лестницы и снова целовались. В этот раз во время поцелуя мы почему-то начали шумно, взволнованно дышать; позавчера, у подъезда, мы так не дышали. Мне до сих пор непонятно, является такое дыхание бессознательным проявлением страсти, или же это, наоборот, осознанный сигнал, свидетельствующий о том, что оба согласны дать страсти место.
Мы услышали, что по лестнице кто-то спускается.
— Можем сейчас поехать ко мне, — сказала Кристина шёпотом.
— Поехали, — сказал я.
Мы очень быстро (не помню теперь, держась или не держась за руки) достигли стоянки такси, спросили первую на очереди машину и уселись позади шофёра. Кристина назвала адрес, машина тронулась.
Всю дорогу я внимательно наблюдал за тем, как необщительный шофёр орудует коробкой передач.
«Когда-нибудь, — говорил я себе, — я буду так же уверенно водить машину».
Не то чтобы я очень об этом мечтал; я просто думал об этом, пока мы ехали.
Мой водительский опыт на тот день ограничивался занятиями на компьютерном тренажёре; все учащиеся нашей автошколы обязаны были «отъездить» на таком определённое количество часов. Тренажёр, как мог, имитировал реальную обстановку вождения: ученик пользовался настоящей коробкой передач, педалями газа, тормоза и сцепления, а на большом экране, послушная его манипуляциям, двигалась картинка условного города. Катаясь по этому городу, можно было задавить пешехода или врезаться на полном ходу в жилой дом, не испытав при этом ни страха, ни мук совести. А ещё можно было съехать с проезжей части на зелёный газон и, сбрив пару десятков кустов, прибыть в то место, где приветливый муляж мироздания внезапно обрывался и перед тобой вырастала непроницаемая стена из хаотично шевелящихся квадратов. Собственно, основную часть времени, отведённого мне на тренажёр, я посвящал именно тому, что стучался в эту стену передним бампером. В наушниках при этом раздавался звук удара о нечто твёрдое. Странно: казалось бы, ничто так не разоблачало трёхмерную фальшивку, как эта стена, однако именно в ней я чувствовал нечто наиболее подлинное, сближающее подделку с реальной жизнью…
Не помню, как мы выходили из машины, как поднимались по лестнице и входили в Кристинину квартиру. Помню, как из тёмного коридора я проследовал за ней в её светлую комнату, бо̀льшую часть которой занимал разложенный диван, кое-как накрытый пушистым бежевым пледом. Кристина закрыла за нами дверь и подошла ко мне. Целуясь, мы задышали ещё чаще, чем на лестнице в автошколе, а потом легли на диван и были вместе.
Потом мы несколько минут молча лежали. Я обратил внимание на то, что противоположная стена сплошь увешана рисунками. Я встал и, прогуливаясь голым по узкому проходу между диваном и стеной, стал разглядывать рисунки. Я чувствовал себя посетителем какой-то странной современной выставки, где от зрителей требуют быть раздетыми.
На мой взгляд, рисунки были крайне слабыми. Мне пришло на ум, что так, наверное, должно рисовать большинство взрослых людей, не имеющих ни малейшей предрасположенности к изобразительному искусству и вследствие этого берущихся за рисование лишь по необходимости, — например, когда попросит ребёнок. Так рисовала, например, моя мать.
В том, что рисунков на стене Кристининой комнаты так много, была для меня неразрешимая загадка, — ведь это означало, что человек, рисующий так же плохо, как моя мать, тем не менее, всё рисует и рисует.
Я невольно обернулся к Кристине.
— Только без комментариев, — сказала она и закрыла голое тело пледом. — Я знаю, что я бездарность. Все мне это говорят.
— Прямо так и говорят? — искренне удивился я.
— Да, — сказала она. — Мама. Отчим. Подруга, которая закончила художку…
Я внимательно посмотрел на Кристину. Я всё ещё не мог ощутить, что мы говорим об одном и том же. Мама, отчим, подруга, их беспощадная критика — всё это по-прежнему казалось мне чужим и непонятным, и я подумал о том, что, ничего не зная о человеке, можно, оказывается, не только узнать его дыхание, но и познать всю близость его тела.
— Здесь есть один-единственный рисунок, — сказала Кристина, — который я считаю удачным.
— Давай я попробую его найти, — предложил я и снова повернулся к стене.
Я сразу догадался, что искать надо либо в центре стены, либо над письменным столом. В центре стены ничего примечательного я не обнаружил: корягообразные человеческие фигуры, скучные и явно без особой охоты нанесённые на бумагу деревья и здания. А из тех рисунков, что были над столом, моё внимание привлёк один, на котором было изображено несколько голубей, клюющих на асфальте крошки.
Голуби были разные — каждый в особенной позе, каждый, если можно так сказать, со своим характером. Один, к примеру, одноногий, а другой — с большим уродливым наростом на лапе. Если все остальные рисунки Кристины отражали одно лишь стремление научиться наконец прилично рисовать, то в этом читался порыв искреннего интереса к простой уличной сценке.
Особенно мне понравилось, как художница передала разобщённость голубей. Они были заняты крошками, а друг на друга им было абсолютно плевать. Их фигурки располагались на листе в приятном ритме, как бы составляя единый узор картины, но от этого реальное равнодушие птиц друг к другу становилось лишь очевиднее. Может быть, конечно, передать разобщённость голубей не представляет на самом деле никакой сложности; может быть, их и невозможно изобразить иначе как разобщёнными, — и всё же в рисунке ощущалась творческая находка. Даже та самая топорность линий, которая на остальных работах Кристины обезображивала натуру, здесь могла сойти за осознанный и уместный художественный приём.
Рисунок был выполнен чёрной гелевой ручкой, но на шейках у двух или трёх птиц виднелись красные, зелёные и голубые штрихи. Этими штрихами Кристина, несомненно, пыталась передать перламутровый перелив оперения. Никакого перламутра у неё, конечно, не вышло, но и это казалось скорее удачей, чем недостатком. Всё сходилось: полная разобщённость при единстве ритма, примитивная схема перламутра вместо самого перламутра.
— Этот? — спросил я.
— Да, — кивнула Кристина. — За этот рисунок мне не стыдно. В нём я что-то уловила, — она откинула одеяло, протянула ко мне руки и пошевелила пальцами. — Не хочешь опять ко мне?..
Потом мы, всё ещё голые, сидели на кухне и пили вино, которое Кристина нашла в холодильнике. Кристина сказала, что я красиво смотрюсь на фоне окна, сходила в комнату и вернулась, вооружённая гелевой ручкой и самым обыкновенным альбомом для рисования. Она закинула ногу на ногу и, положив альбом на колено, стала энергично чиркать ручкой по бумаге. Я сидел неподвижно, изредка поднося ко рту стакан и делая глоток вина.
Внезапно Кристина издала звук, похожий одновременно на рычание и стон, и, приподняв альбом, с силой ударила им себе по колену.
— Блин, ну почему люди в жизни такие красивые, а у меня они получаются такими страшилами?! — полузаплакала-полузасмеялась она. Она по-собачьи выкатила язык, закатила глаза и, опустив руки, ссутулилась; её груди, небольшие и заострённые, принадлежащие как будто не молодой женщине, а девочке с избыточным весом, некрасиво повисли, а лицо густо покраснело.
Я подошёл к ней, чтобы посмотреть на свой недорисованный портрет и сказать что-нибудь ободряющее, но Кристина быстро перевернула альбом рисунком вниз.
— Не надо на это смотреть! — почти крикнула она и напряжённо застыла с лежащими на альбоме кистями рук, тоже, к моему удивлению, покрасневшими.
Я погладил её пружинистые волосы и наклонился, чтобы поцеловать её, но она резко отдёрнула от меня лицо.
— Не целуй меня! — сказала она отрывисто, голосом какой-то злой старухи. — Я бездарность!
Я почувствовал, что её движения и слова серьёзны не до конца, что в них есть доля игры, — но такая игра не умиляла меня, а, напротив, отталкивала. Мне даже стало вдруг стыдно нашей наготы. Из глупого приличия я постоял возле Кристины ещё с полминуты, а затем побрёл в комнату одеваться.
Одеваясь, я увидел её в дверях.
— Всё? Уходишь навсегда? — спросила она с интонацией, наполненной вместо мелодраматизма, вроде бы неизбежного для подобных фраз, чем-то другим — трудно сказать чем.
— С чего ты взяла? — ответил я. — Просто решил одеться.
Она посмотрела на меня с недоверием, которое почему-то внушило мне секундное чувство опасности, но, поразмыслив, одобрила моё решение:
— Вообще-то правильно. Маму иногда отпускают пораньше.
Она тоже стала одеваться.
В тёмном коридоре, надев ботинки, я протянул к ней руки, чтобы мы обнялись и поцеловались на прощание, но она лишь подставила мне щёку и зачем-то спросила:
— Как ты думаешь, мы получим эти дурацкие права?
— Когда-нибудь уж точно получим, — ответил я, пожав плечами. — Вон сколько машин в городе. В каждой из них сидит человек с правами.
И я ушёл.
Оставалось всего-навсего две лекции. Явившись на первую из них, я не сомневался, что теперь мы с Кристиной будем сидеть рядом, поэтому придержал для неё соседнее место. Но вышло иначе. Она появилась в аудитории с большим опозданием и, даже не взглянув в мою сторону, проследовала на громких высоких каблуках к своему обычному месту рядом с двумя младшими девушками. Я заметил, что у неё сильно накрашены губы и глаза. По-моему, до этого я ни разу не видел на её лице косметики.
Во время занятий она то и дело смешила своих приятельниц, так что получила наконец замечание от преподавателя. Когда же в аудитории начал нарастать привычный шум, призванный довести до сведения нашего наставника, что его время истекло, и, глянув на часы, он громко и бесчувственно затараторил «важную информацию организационного характера», — Кристина раньше других сорвалась с места и, на ходу забрасывая сумку на плечо, устремилась к выходу.
— Вообще-то я ещё не закончил, — сказал преподаватель, провожая Кристину недобрым взглядом, но она как будто не услышала его. Она так торопилась уйти, что даже забыла совершить своё обычное действие — подтянуть джинсы, — и, глядя ей вслед, я не мог сосредоточить внимание ни на чём другом, кроме как на её оголившейся коже с неловкой чёрточкой тени.
На заключительной лекции всё повторилось почти точь-в-точь: снова она явилась с опозданием и снова проследовала на каблуках к своим девушкам, не посмотрев в мою сторону; снова хихикала с ними и получила замечание; наконец, она снова была ярко накрашена. Разве что на этот раз вместо джинсов на ней была длинная чёрная юбка. Я впервые видел её в юбке.
Я с некоторым напряжением ожидал той минуты, когда поднимется шум и преподаватель, как обычно, перейдёт к «важной информации организационного характера». Я готовился увидеть, как, забрасывая на плечо сумку, Кристина раньше остальных выбежит из аудитории, чтобы исчезнуть из моей жизни надолго, может быть навсегда. Однако шум поднялся, преподаватель заладил своё, а Кристина осталась на месте. Тогда я понял, что нам предстоит какой-то разговор.
Я вышел из автошколы и закурил. Через минуту она появилась на улице в своей привычной компании. Все трое опять увлечённо над чем-то смеялись, но, увидев меня, младшие быстро поцеловали Кристину и удалились, довольно громко заметив напоследок, что она потрясающе выглядит.
— Хорошо, что ты не ушёл, — сказала Кристина. — Потому что у меня что-то для тебя есть.
«Голуби», — подумал я сразу, и моя догадка тут же получила частичное подтверждение: она достала из сумки и протянула мне самодельный конверт из разноцветной обёрточной бумаги.
— Вот, — сказала она. — Считай, что это подарок на память.
— Спасибо, — сказал я, стараясь сделать вид, что не имею никаких предположений насчёт содержимого конверта. — Насколько я понимаю, ты не хочешь больше общаться со мной?
— Я думала, это ты не хочешь, — сказала Кристина.
— С чего ты взяла?
— Не знаю, — сказала она. — Мне так показалось.
— Пойдём ко мне, — предложил я.
— Зачем? — спросила Кристина.
Я не ожидал такого вопроса и не сразу нашёлся с ответом.
— Не знаю, — сказал я. — Я думал, нам неплохо вместе, — и зачем-то добавил: — Я живу один.
Несколько секунд она смотрела на меня очень странно: под этим взглядом я показался самому себе тонким садистом — человеком, который при помощи какой-то подлости получил над Кристиной тайную власть; приглашая её к себе домой, я делаю вид, что она свободна отказаться, в то время как оба мы прекрасно знаем, что никакой свободы у неё нет.
— Пойдём, — сказала она.
Я взял её за руку и повёл к себе.
Я жил недалеко от автошколы. Собственно говоря, я и предпочёл «Орлан» всем остальным заведениям подобного рода исключительно из-за его близости к моему месту жительства.
Как только мы зашли в квартиру, я обнял Кристину и стал её целовать, потому что не видел никакой причины не делать этого. Мы снова начали шумно дышать, как вдруг она осторожно, но убедительно отстранила меня.
— Что-то не так? — удивился я.
— Да нет, — сказала она. — Всё нормально. Просто сейчас у нас опять будет это, а потом мы снова разбежимся…
— Во-первых, — сказал я, тронув указательным пальцем её нос, — никто в этом доме не заставит тебя делать это, если ты сама не захочешь. А, во-вторых, мы не обязаны разбегаться. Ты можешь остаться у меня.
По-видимому, Кристину сильно удивили эти слова. Она неестественно долго поправляла воротник моей рубашки, и в глазах её в это время что-то несмело, застенчиво расцветало, — а потом произошло неожиданное: с оглушительным топотом она бросилась вприпрыжку ко мне в комнату. Надо сказать, что мои соседи снизу отличались настолько болезненной чувствительностью к шуму, что даже мои соседи сверху, прежде чем включить у себя электродрель, спускались за разрешением не ко мне, а к ним, причём далеко не всегда это разрешение получали, а если всё же осмеливались действовать вопреки запрету, то потом жалели об этом, — поэтому, услышав Кристинин топот, я напряжённо застыл в прихожей; я ожидал, в лучшем случае, стука по батарее, а в худшем — истеричного звонка в дверь и дальнейшего скандала. Ни того ни другого, однако, не последовало; видимо, мне повезло, соседей не было дома.
Я пошёл в комнату, размышляя, сообщить ли Кристине о соседях, чтобы она в дальнейшем вела себя тише, или не стоит.
Кристина стояла у окна и смотрела на улицу.
— Прикольный видок, — сказала она. — Такое одинокое дерево…
— Да, — сказал я и встал рядом с ней. — Это дерево часто утешает меня своей… — мне захотелось подобрать точное выражение и, подумав немного, я его подобрал: — …своей терпеливой неподвижностью, когда неохота садиться за свою нудную работу.
Я думал, сейчас она спросит меня о моей нудной работе и мы наконец-то почувствуем, что говорим об одном и том же. Но произошло другое: той же детской припрыжкой Кристина подскочила к моей кровати, прыгнула в неё рыбкой, быстро перевернулась на спину и, замерев, посмотрела на меня с игривым и каким-то животным восторгом. Я наблюдал за ней с удивлением и в то же время напряжённо слушал, как медленно стихают под ней пружины кровати.
— Если хочешь, — сказала она взволнованно, — можешь открыть конверт…
Я сделал шаг в сторону компьютерного стола, на котором лежал конверт, но она тут же остановила меня:
— Нет, не надо! Извини. Потом откроешь, когда будешь один. Иди ко мне…
Мы снова были вместе.
Потом я пригласил её на кухню выпить чаю. Я заварил чай с крымскими травами, и, когда наполнял им чашки, захотел сказать о напитке что-нибудь красивое — вроде того, что сказал про дерево.
— У тебя бывает такое, — сказал я, — что какой-нибудь вкус или запах уносит тебя куда-то?
Она посмотрела на меня стыдливо и тут же отвела взгляд, ничего не ответив. Это могло означать и «да», и «нет».
— Вот с этим чаем, — продолжал я, — у меня всегда такое происходит. Когда я его завариваю, а потом делаю первый глоток, я как будто вижу горы, сосны, слышу море и крики чаек.
Кристина покраснела. Сосредоточенно, частыми маленькими глотками она пила чай и смотрела на дно своей чашки, больше никуда.
— Подлить тебе? — спросил я, когда её чашка опустела.
Она медленно помотала головой, и на кухне воцарилась тишина.
Я смотрел за окно. Вечерело, по небу тревожно летали ласточки, где-то вдалеке смеялись и плакали дети, в щелях меж домов промелькивали машины, и мне стало странно, что время от моего рождения до моей смерти и всё то, что находится сейчас за этим окном, я называется почему-то одним и тем же словом — словом «жизнь».
— Ты какой-то потрясающий, — сказала Кристина в тишине. — Я таких раньше никогда не встречала. Правда.
Я почувствовал, как сильно забилось моё сердце.
Я не думал, что когда-нибудь услышу о себе что-то подобное. Признаться, я часто до этого задавался вопросом, наградила ли меня природа какими-нибудь необычными способностями, и, стараясь глядеть на себя как можно более беспристрастно, не обнаруживал в себе ничего сверхъестественного, за исключением разве что повышенной чувствительности к разного рода мелочам, до которых мало кому вокруг есть дело, — да и то: эту чувствительность можно было скорее записать в недостатки, потому что она нередко уводила меня от простой сути вещей.
Теперь, когда Кристина назвала меня потрясающим, я стал поспешно перебирать в памяти всё, что говорил и делал в её присутствии. Не найдя ничего примечательного, кроме пары романтичных фраз, я грешным делом подумал, что, может быть, как-то особенно хорошо проявил себя в том, что она называла это. (Как и все, наверное, мужчины, в определённые минуты я легко опускался до теории, согласно которой всё многообразие чувств, возникающих между мужчиной и женщиной, является не более чем преломлённым отражением постели). Однако, анализируя время от времени и эту сферу своей жизни (как правило за просмотром откровенных видеороликов), я чаще всего приходил к выводу, что и тут природа не наделила меня ничем сверх меры, — и у меня не было повода считать, что с Кристиной я сумел прыгнуть выше головы. К тому же, я точно знал, что это просто не может быть для неё так важно. Да: она, как и я, взволнованно при этом дышала, и движения её мало чем отличались от движений других девушек, которых я знал, — и всё же во время нашей близости меня не оставляло чувство, что кто-то однажды выдал ей это занятие за что-то совсем другое и она до сих пор верит. Так ребёнок, которому делают болезненный укол, верит, что это его «кусает комарик».
— Что же во мне потрясающего? — поинтересовался я.
— Не знаю, — сказала Кристина, пожав плечами. — Просто ты необыкновенный. Ты как будто откуда-то не отсюда.
Я видел, что она хочет сказать что-то ещё, но сомневается, нужно ли это говорить.
— У нас в городе есть один художник, — сказала она наконец. — У него ооочень классные картины. Он талантище, правда. Но ты, по-моему, круче, чем он. Не знаю почему, но ты точно круче.
Я долго глядел на неё, от растерянности не зная, что ещё спросить, и вдруг увидел, как в её взгляде и изгибе бровей появляется что-то дразнящее. Я тут же вспомнил девочку, которая лет двадцать тому назад, слегка раскрыв соединённые «лодочкой» ладони, показала мне на секунду своё самое драгоценное стёклышко. Скорее всего, это было проявлением большой симпатии, однако, убирая сокровище в кармашек платья, девочка смотрела на меня точно таким же дразнящим взглядом, который как бы говорил: «Поглядел — и хватит. Будешь со мной дружить — покажу на подольше».
— Всё, — сказала Кристина загадочно. — Мне пора…
Она закрыла руками обнажённую грудь и убежала в комнату — снова с громогласным топотом.
— Пожалуйста, не надо смотреть! — сказала она, когда я к ней подошёл, намереваясь всё же рассказывать о соседях.
— Почему не надо? — спросил я. — Я ведь всё уже видел.
— Потому что. Потому что мне надо уходить, а я не хочу.
— А кто мешает остаться? — спросил я.
— Никто, — сказала она и, встав, застегнула юбку. — Просто я знаю, что я очень быстро тебе надоем. Потому что я бездарность. Я пустота. Правда.
Мне стало грустно от её слов, но я не знал, что сказать.
Мы вышли в прихожую — она одетая, я всё ещё голый.
— Давай не будем видеться до экзаменов, — предложила она. — А то я и так туповатая, а если мы ещё и будем видеться, я даже эту дебильную теорию выучить не смогу.
— Как скажешь, — ответил я и почему-то подумал, что так действительно будет лучше. Я оглянулся на кухонное окно и обрадовался туче, которая надвигалась на город. Я уже предвкушал, как с уходом Кристины лягу на кровать и буду вглядываться в тёмный воздух своей одинокой квартиры.
Но Кристина не уходила. Она сосредоточенно смотрела мне в глаза и явно хотела найти какие-то нужные слова, после которых ей самой было бы легко и даже радостно оставить мой дом, но ей не удавалось их найти. Она была красивой в эту минуту.
— Когда я сейчас уйду, — сказала она медленно, решив, как я понял, искать нужное на ощупь, — ты только не открывай конверт сразу… Сосчитай хотя бы до ста, нет, лучше до ста пятидесяти — и только потом открывай. Хорошо?
— Хорошо, — сказал я, и мы ещё помолчали.
— А можешь вообще не открывать. Там ничего особенного.
— Да нет уж, я открою. Мне уже не терпится.
— Ты хоть догадываешься, что там?
— Думаю, письмо, или фотография, или новый рисунок.
Мы ещё помолчали.
— Ты ничего не сказал про мою юбку, — пожаловалась она нестрого. — Скажи, только честно, хорошо мне в юбке или нет?
— Я не знаю, хорошо тебе в ней или нет, но выглядишь ты в ней очень даже.
Она ненадолго задумалась, а потом её лицо устало просветлело.
— Ты по-тря-са-ю-щий, — проговорила она, на каждом слоге легонько ударяя меня в грудь макушкой, а потом опять внимательно посмотрела мне в глаза. — Знаешь, у меня дома есть куча разных юбок, которые я ещё ни разу не надевала. Они из разных стран. По-моему, они обалденные. Они должны тебе понравиться. Вот. Ну всё. Пока.
Она грустно поцеловала меня в щёку и быстро ушла.
Я стал ходить по квартире, добросовестно считая вслух. Досчитав до ста пятидесяти, я сел за компьютерный стол и распечатал конверт. Как я и ожидал, там были «голуби».
Почему-то на этот раз рисунок не показался мне таким удачным. То особенное, что я в нём обнаружил, когда он висел на стене Кристининой комнаты среди других рисунков, как будто выветрилось из него, в то время как недостатки, которые роднили его с остальными работами, казалось, проступили наружу. Я перевернул листок, чтобы «голуби» не перестали мне нравиться окончательно, и увидел на обратной стороне алый отпечаток напомаженных губ. На этот отпечаток я глядел гораздо дольше, чем на рисунок; меня завораживала точность, с которой отобразилась на бумаге каждая маленькая складка губ человека, ещё несколько минут назад бывшего у меня дома, а теперь находящегося где-то далеко, смешавшегося с тем непонятным за окном, что называется «жизнь».
Я поднёс листок к лицу и, зачарованный, соединил с отпечатком свои губы.
В комнате потемнело почти как ночью, и вскоре за окном зашумел ливень. Я лёг на кровать и внутренне затаился. Темнота сгущалась в углах комнаты, оклеенной дешёвыми бумажными обоями розового цвета; с годами обои порыжели, а сейчас, в темноте, они казались фиолетовыми. Старая деревянная хозяйская мебель — видимо из-за резкой перемены влажности воздуха — время от времени издавала слабые щелчки, словно наделённая жалкой крупицей собственной жизни. Уличный ветер касался моего обнажённого тела.
«Ты потрясающий, — звучало в моей голове. — Ты откуда-то не отсюда. Я таких раньше никогда не встречала…»
Я уснул и увидел необычный сон. Я шёл по бесплодной пустыне среди однообразных серых каменных глыб и вдруг остановился возле глыбы особой породы: она была не то бирюзового, не то изумрудного цвета, похожая скорее на живое существо, чем на камень. Я сразу откуда-то вспомнил, что эта глыба и является главной целью моего путешествия по пустыне, и тут же попробовал сдвинуть её с места. Она не поддалась, и я впал в отчаяние, как вдруг понял, вернее тоже откуда-то вспомнил, что для обладания этой глыбой достаточно всего-навсего отколоть от неё небольшой фрагмент и положить его себе в карман, что нет разницы, вся — или фрагмент. Я взял один из обычных серых булыжников, валявшихся под ногами, и ударил им по волшебной породе. Всё получилось как нельзя лучше: от глыбы тут же отделился правильный, словно уже огранённый, камень. Я повертел его в руках, положил в карман и пошёл дальше, не ощущая почему-то никакой радости. Мне страшно было посмотреть назад, потому что я знал, что, оглянувшись, увижу уже не бирюзово-изумрудную, а обычную серую глыбу.
Пару дней спустя начались практические занятия по вождению, а вместе с ними — невыносимая жара и засуха. В течение месяца я по нескольку раз в неделю, обливаясь потом, управлял настоящей машиной под руководством маленького старичка-инструктора. Реальное вождение оказалось для меня мукой: я боялся дороги, меня постоянно тянуло на обочину, машина у меня то и дело глохла. Мной овладевало уныние ребёнка, запертого в тесной кладовке, и я малодушно мечтал о скорейшем и как можно более долгом перекуре. Старичок быстро нащупал во мне эту слабость и охотно ей потворствовал, будучи не прочь сэкономить на топливе; насколько я понимаю, для него это был один из немногих источников сверхурочного дохода. Надо отдать ему должное: для перекуров он выбирал места одно другого живописнее. Мы входили в какую-нибудь тенистую рощу, он усаживался на пенёк и, запивая бутерброд чаем из термосной крышки, спокойно разглагольствовал о ничтожности моих шансов получить права, не используя взятку. Я сидел на траве у ног своего учителя и, слушая его, курил. Затем, прибегая к трогательным недомолвкам и иносказаниям, старичок пытался укоренить во мне мысль, что без дополнительных занятий (разумеется, за отдельную плату) ничего более полезного, чем возможность побыть на свежем воздухе, я из нашего с ним общения не извлеку. Я находил какое-то бестолковое удовольствие в том, чтобы строить из себя дурачка, не понимающего, на что ему намекают; старичок же, как видно, не обладал достаточной наглостью, чтобы назвать вещи своими именами, и довольно быстро отступал. Вытряхнув себе в рот последние капли чая, он привинчивал крышку обратно к термосу, и оба мы знали, что следует делать дальше: я должен тут же закурить очередную сигарету, а он — в очередной раз повторить историю о том, как он бросил курить, продымив до этого двадцать лет. В истории не было ничего необычного, за исключением того, что, бросая вредную привычку, старичок какое-то время продолжал покупать себе сигареты, просто в момент потребности не закуривал их, а потрошил и растаптывал. Закончив рассказ, старичок взглядывал на часы и говорил, что пора бы, наконец, и позаниматься. Это означало, что сейчас мне предстоит не торопясь доставить его на машине до дома и «отработать заезд в бокс», то есть припарковать машину прямо у его подъезда, после чего мы пожелаем друг другу всего хорошего.
Вообще, мне нравилось наше общение. Насколько тоскливой бывала мысль о предстоящем свидании с автомобилем, настолько же приятно было размышлять, в каком на этот раз милом местечке мы со старичком разыграем наш абсурдный спектакль. При этом я прекрасно понимал, что если бы не автошкола, ни мне до этого человека, ни ему до меня не было бы в этом мире никакого дела; по крайней мере, нам уж точно никогда бы не взбрело в голову совместно проводить время на природе. Странно, но, пожалуй, в этом-то для меня и заключалась главная прелесть нашего общения.
О Кристине я в эти дни думал очень мало — может, из-за жары, может, из-за чего-то ещё. Уже через несколько дней после нашей последней встречи я спрятал её рисунок между книгами на полке. Вместе с тем я не исключал возможности, что Кристина — моя будущая жена.
«Каким-то ведь образом люди знакомятся и женятся, — думалось мне. — Вполне возможно, что это происходит именно так. Откуда мне знать?»
За пару дней до экзамена в моей жизни произошло то, что принято называть «маленьким чудом».
Возвращаясь домой после завершающего занятия со старичком, я встретил дядю Женю — человека, с которым меня объединяло какое-то хитросплетённое многою̀родное родство.
В нашей семье дядю Женю считали чудаковатым и довольно тяжёлым человеком. Он догадывался об этом и давно уже жил своей отдельной, мало кому известной жизнью, которая протекала в одном городе с теперешней моей. Эта жизнь, по скупым свидетельствам очевидцев, была на удивление путёвой и складной — свой дом, и даже какой-то небольшой бизнес, — и всё же казалось, что от неё исходит лёгкое излучение обиды по отношению к остальной родне. Так вышло, что единственным человеком, которого это излучение всегда обходило стороной, был я. По крайней мере, каждый раз, когда дядя Женя меня встречал, он приходил в такое воодушевление, будто я давно числился без вести пропавшим или погибшим и вдруг нашёлся живым и невредимым.
Особое отношение, которым отметил меня этот человек, чем-то мне льстило и вместе с тем немного пугало — пугало, наверное, тем, что оно раз и навсегда оформилось ещё в период моего младенчества и, проходя сквозь годы, не претерпевало никаких изменений. Казалось, дядя Женя упорно отказывался видеть во мне кого бы то ни было, кроме того четырёхлетнего пупсика, который однажды сразил наповал женщину-педиатра, громко и отчётливо прочитав надпись на больничном стенде: «Детские инфекционные заболевания и средства их профилактики». Наверное, всё дело было в том, что эти легендарные, почти былинные слова, без воспоминания о которых впоследствии не обходилась ни одна общесемейная встреча, я изрёк, восседая на дяди-Жениных руках; это он принёс их в семью, вписал их золотым тиснением в книгу семейной памяти. Обстоятельства, при которых именно ему, а не кому-нибудь другому, было поручено сводить меня в детскую поликлинику, так и остаются для меня загадкой; сам факт, что такое доверительное поручение было когда-то возможным, словно запечатывал мои уста всякий раз, как выдавался случай расспросить о подробностях у родителей или у самого дяди Жени. Я знал, что мне услышать грустную историю о некогда большой, но однажды навеки утраченной близости.
Он крепко ударил меня ладонями по предплечьям, мы обнялись.
— «Детские инфекционные заболевания, — сказал он, — и их профилактика»!
Затем он сделал мне свою обычную, но как всегда внезапную и весьма болезненную «сливу», после чего спросил:
— Что, товарищ мой, невесел, буйну голову повесил? Мамка титьку не даёт? Девка замуж не берёт?
Эти вопросы, подобно английскому «How do you do?», никогда не требовали ответа по существу. Я всего лишь должен был смущённо замямлить что-то нечленораздельное, чтобы дядя Женя принялся тыкать меня пальцем в живот, приговаривая: «Что мямлишь? Что мямлишь? „Да! есть! так точно!“ Ты солдат или нет?!»
Я и теперь уже готов был замямлить, и даже напряг рефлекторно мышцы живота, ожидая тыканья, но в последний момент, — видимо, ощутив, что слишком пресытился игрой по заданному сценарию на практических занятиях со старичком, — решил озадачить дядю Женю неожиданной импровизацией. Я поведал ему о своих неудачах на водительском поприще: о страхе дороги, о довольно халатной работе старичка и его неутешительных прогнозах на мой счёт.
Неожиданная импровизация имела и неожиданные последствия. По мере приближения моего рассказа к концу, дядя Женя делался всё более мрачным; я никогда раньше не видел его таким. Когда же я замолчал, он заговорил со мной холодно, почти пренебрежительно:
— Ладно. Эту старую крысу я знаю, от неё ничему хорошему не научишься. Ты площадку-то хоть откатаешь?
— Площадку? Наверное, — удивлённо пожал я плечами.
— В общем, так, — сказал дядя Женя. — Теорию и площадку сдавай как хочешь, а с городом что-нибудь обкашляем.
— Как это? — спросил я.
— Каком кверху! — взорвался дядя Женя. — Совсем уже сдурели! По норам своим рассовались, как суслики! Забыли, что такое семья, что такое родная кровь! Дождутся, пока передавят всех поодиночке!..
С огнём в глазах он заговорил о том счастливом времени, когда все помнили, что такое семья и что такое родная кровь, когда собирались за одним столом, когда без стука входили друг к другу в дом. Наконец голос его дрогнул:
— …Они никто не знают, но я же за тебя глотку кому хочешь перегрызу, потому что я тебя вот таким вот на руках держал…
— Дядя Женя, я прямо не знаю, что бы я без вас делал. Не знаю, как мне вас отблагодарить… — залепетал я, как бы заслоняясь этим лепетом от страшного родового сияния, в котором так неожиданно преобразился мой дальний родственник.
— Отблагодарить!.. — с брезгливой скорбью передразнил он меня. — Дурачок ты — вот ты кто… Когда помру, на могилку ко мне загляни, сто грамм сам выпей, а пятьдесят под крест мне вылей. Вот и будет «отблагодарить». Всё. Бывай.
Он дал мне какой-то немощный, смазанный подзатыльник и, сморкаясь от слёз, быстро ушёл, то ли забыв, то ли не пожелав протянуть мне на прощанье руку.
Я смотрел ему вслед, и в голове у меня суетливо билась мысль: «Догнать его и попросить за Кристину. Сказать, что моя невеста, что люблю её».
Но я не побежал; мне было неловко, или страшно, или как-то ещё.
Я шёл домой, странно взволнованный встречей с родственником. Что-то похожее — хоть и в миниатюре — я испытал однажды при виде сгустка крови в желтке яйца, выбитого мной на сковородку.
Настал день экзаменов. Отделение ГИБДД, где предстояло сдавать теорию и площадку, находилось в пригороде, и маленький автобус, ехавший туда, был туго набит пожилыми дачниками и, само собой, соискателями водительских прав. Я кое-как втиснулся в заднюю дверь и сквозь трясущиеся заросли чьей-то рассады разглядел Кристинино лицо. Кристина стояла в переднем конце автобуса, её компанию составляли всё те же девушки и парень с обезображенным угрями лицом, тоже, как я вспомнил, из нашей группы. Этот парень изо всех сил старался приободрить Кристину, и она, — не столько, думаю, благодаря его усилиям, сколько из уважения к ним, — время от времени реагировала на его шутки бесцветными носовыми смешками, больше похожими на хныканья.
Сосредоточив своё внимание на её лице, я хорошо различал сквозь автобусный шум все её слова.
— Я бездарность. Я не сдам, — затягивала она свою привычную песню, без сожаления аннулируя весь объём только что проделанных парнем работ по её душевной реанимации. Парня это не обескураживало: снова и снова он принимался дурачиться, импровизировать, говорить о хорошем — и всякий раз единственной наградой за этот труд было жалкое подобие смеха, после которого всё повторялось снова. Его несгибаемое упорство, казалось, говорило о том, что ему достаточно и такой ничтожной награды, но в какой-то момент он повёл себя иначе. Он приблизился к Кристине, прижал её голову к своей груди и сказал:
— Чувак, не тоскуй. Думаешь, мне легко? Сам с утра колёс от живота наглотался…
Помню, он как-то сверх приличия долго продержал её в объятиях. Сначала он гладил её волосы быстрыми неаккуратными движениями, как бы в виде детской или клоунской игры, но потом движения стали медленнее, серьёзнее, и он прижался к макушке Кристины своей угреватой щекой. При этом его глаза, невидимые для компании, но видимые мной, замерли в каком-то блаженно-вдумчивом выражении, которое так не вязалось с его недавней шутовской энергией.
Кристина заметила меня, оторвала голову от груди парня и жалобно замахала мне рукой. Я тоже помахал — медленно, уверенно и просто. Парень от растерянности глупо оскалился и захлопал себя по карманам, как будто чего-то ища, а потом переключился на Кристининых подружек, которые тоже были не против его психологической поддержки и не избегали его прикосновений. Меня посетила неприятная мысль: эти прикосновения, совершаемые под невинным дружески-платоническим предлогом, являются для него скрытым и, возможно, единственно доступным источником интимного трепета.
Мне стало стыдно, я отвернулся.
Автобус подъехал к нужной нам остановке, соискатели прав шумно высыпали на улицу и потянулись к отделению ГИБДД. Я остановился, чтобы закурить. Кристина отделилась от своей компании, подошла ко мне и молча остановилась напротив. Я видел, что она рада мне, что она готова обнять и поцеловать меня, просто ей необходимо знать, что я тоже этого хочу. Но я не стал ни обнимать, ни целовать её. Странно: казалось, её это ничуть не удивило.
— Ну как? — спросила она. — Готов?
— Трудно сказать.
Я кивнул на здание, в котором уже скрылась толпа, и мы не торопясь пошли в его сторону.
— Та же фигня, — сказала Кристина. — Хотя мы даже скидывались на дополнительные занятия: девчонки, Виталик и я. Брали инструктора с машиной часа на два и катались по очереди на площадке. — Она помолчала. — Вообще, было прикольно. Ржали постоянно. Виталик такой парень хороший, с чувством юмора. Жалко его: видишь, какие у него проблемы с кожей.
— Ничего, — сказал я, подумав. — Когда-нибудь он встретит девушку, для которой его внутренний мир будет важнее, чем его проблемы с кожей. И это точно будет любовь.
— У тебя всё в порядке? — спросила Кристина. — Ты как будто какой-то расстроенный.
Я пожал плечами и сказал, что вроде бы всё в порядке. Мы вошли в здание.
Теорию мы сдали успешно — и я, и Кристина, и Виталик с девушками. Когда мы вышли из аудитории, Виталик обнял девушек за талии и, вытянув губы, легко получил от каждой из них звонкий поцелуй. С Кристиной он такого проделывать не стал, — видимо, из-за меня. Он ограничился тем, что пожал ей руку, причём сделал это с подчёркнутой деликатностью, почтительно пригнувшись и бережно взяв её ладонь в обе своих. Затем точно таким же способом он поздравил с успехом и меня.
Всех, кто не провалил теорию, повели сдавать площадку. Этот этап заключался в выполнении трёх заданий: «змейка», «заезд в бокс» и «въезд на эстакаду».
Первый экзаменуемый сбил один из колпачков «змейки», потом не справился с заездом в бокс и, не добравшись до эстакады, был отправлен на пересдачу. По толпе прокатился тревожный шум. Кристина закинула под язык какую-то таблетку и страдальчески выдохнула.
— Это какая-то пытка, — сказала она то ли мне, то ли Виталику, то ли просто в пространство. — Я не выдержу. Отпустите меня отсюда. У меня порок сердца.
Тут я услышал свою фамилию и направился к машине, возле которой меня безразлично поджидал мой старичок. Кристина успела дотронуться до моего плеча и, кажется, пожелала мне ни пуха ни пера, но я ничего не ответил.
Дальше всё происходило как во сне. Лишь выбравшись из машины на улицу, я понял, что сдал. Старичок тихонько мне поаплодировал и протянул:
— Не ожидаааал…
Я зашёл под большой навес, где прятались от солнца большинство экзаменуемых, и на меня посыпались преувеличенные похвалы:
— Красавец… молодчина… лучший…
Я чувствовал, что мало кто по-настоящему радуется за меня; в похвалах читалась примитивная вера в то, что, выказав даже неискреннюю радость за другого, можно вернее добиться успеха самому.
Передо мной возник Виталик с выставленным в виде микрофона кулаком.
— Вы были великолепны! скажите, как вам это удалось? откуда такое мастерство? поделитесь секретом вашего успеха! — засы̀пал он меня вопросами.
Я подыграл ему, как умел: принял солидный вид и сказал что-то про годы упорных тренировок. Слушая меня, Виталик широко улыбался, выставляя напоказ хорошие белые зубы, такие странные на фоне его ужасной кожи. Клоунада до странности затянулась: он задавал всё новые и новые вопросы, и я почему-то продолжал на них отвечать. Я делал это машинально, глядя на лицо Виталика и со страхом воображая, что̀ будет, если посреди нашего интервью я возьму и скажу: «Господин корреспондент, а почему у вас так много прыщей?» — хотя я отлично знал, что не хочу и не буду ничего такого говорить.
За время нашей беседы ещё два или три человека завалили площадку. Затем прозвучала Кристинина фамилия, и это помогло нам с Виталиком остановить, наконец, наше затянувшееся дурачество.
Кристина направилась к автомобилю, как обычно подтягивая на ходу джинсы. Копна её мелкокурчавых волос подпрыгивала при ходьбе, словно грива у маленькой лошадки. У меня болезненно забилось сердце.
Не знаю, откуда во мне возникло это чувство, вернее, нет, даже знание: что оттого, сдаст или нет Кристина площадку, зависит, будем ли мы с ней вместе или нет. Я до сих пор не вижу в этом никакой связи.
Я жил недалеко от автошколы. Собственно говоря, я и предпочёл «Орлан» всем остальным заведениям подобного рода исключительно из-за его близости к моему месту жительства.
Как только мы зашли в квартиру, я обнял Кристину и стал её целовать, потому что не видел никакой причины не делать этого. Мы снова начали шумно дышать, как вдруг она осторожно, но убедительно отстранила меня.
— Что-то не так? — удивился я.
— Да нет, — сказала она. — Всё нормально. Просто сейчас у нас опять будет это, а потом мы снова разбежимся…
— Во-первых, — сказал я, тронув указательным пальцем её нос, — никто в этом доме не заставит тебя делать это, если ты сама не захочешь. А, во-вторых, мы не обязаны разбегаться. Ты можешь остаться у меня.
По-видимому, Кристину сильно удивили эти слова. Она неестественно долго поправляла воротник моей рубашки, и в глазах её в это время что-то несмело, застенчиво расцветало, — а потом произошло неожиданное: с оглушительным топотом она бросилась вприпрыжку ко мне в комнату. Надо сказать, что мои соседи снизу отличались настолько болезненной чувствительностью к шуму, что даже мои соседи сверху, прежде чем включить у себя электродрель, спускались за разрешением не ко мне, а к ним, причём далеко не всегда это разрешение получали, а если всё же осмеливались действовать вопреки запрету, то потом жалели об этом, — поэтому, услышав Кристинин топот, я напряжённо застыл в прихожей; я ожидал, в лучшем случае, стука по батарее, а в худшем — истеричного звонка в дверь и дальнейшего скандала. Ни того ни другого, однако, не последовало; видимо, мне повезло, соседей не было дома.
Я пошёл в комнату, размышляя, сообщить ли Кристине о соседях, чтобы она в дальнейшем вела себя тише, или не стоит.
Кристина стояла у окна и смотрела на улицу.
— Прикольный видок, — сказала она. — Такое одинокое дерево…
— Да, — сказал я и встал рядом с ней. — Это дерево часто утешает меня своей… — мне захотелось подобрать точное выражение и, подумав немного, я его подобрал: — …своей терпеливой неподвижностью, когда неохота садиться за свою нудную работу.
Я думал, сейчас она спросит меня о моей нудной работе и мы наконец-то почувствуем, что говорим об одном и том же. Но произошло другое: той же детской припрыжкой Кристина подскочила к моей кровати, прыгнула в неё рыбкой, быстро перевернулась на спину и, замерев, посмотрела на меня с игривым и каким-то животным восторгом. Я наблюдал за ней с удивлением и в то же время напряжённо слушал, как медленно стихают под ней пружины кровати.
— Если хочешь, — сказала она взволнованно, — можешь открыть конверт…
Я сделал шаг в сторону компьютерного стола, на котором лежал конверт, но она тут же остановила меня:
— Нет, не надо! Извини. Потом откроешь, когда будешь один. Иди ко мне…
Мы снова были вместе.
Потом я пригласил её на кухню выпить чаю. Я заварил чай с крымскими травами, и, когда наполнял им чашки, захотел сказать о напитке что-нибудь красивое — вроде того, что сказал про дерево.
— У тебя бывает такое, — сказал я, — что какой-нибудь вкус или запах уносит тебя куда-то?
Она посмотрела на меня стыдливо и тут же отвела взгляд, ничего не ответив. Это могло означать и «да», и «нет».
— Вот с этим чаем, — продолжал я, — у меня всегда такое происходит. Когда я его завариваю, а потом делаю первый глоток, я как будто вижу горы, сосны, слышу море и крики чаек.
Кристина покраснела. Сосредоточенно, частыми маленькими глотками она пила чай и смотрела на дно своей чашки, больше никуда.
— Подлить тебе? — спросил я, когда её чашка опустела.
Она медленно помотала головой, и на кухне воцарилась тишина.
Я смотрел за окно. Вечерело, по небу тревожно летали ласточки, где-то вдалеке смеялись и плакали дети, в щелях меж домов промелькивали машины, и мне стало странно, что время от моего рождения до моей смерти и всё то, что находится сейчас за этим окном, я называется почему-то одним и тем же словом — словом «жизнь».
— Ты какой-то потрясающий, — сказала Кристина в тишине. — Я таких раньше никогда не встречала. Правда.
Я почувствовал, как сильно забилось моё сердце.
Я не думал, что когда-нибудь услышу о себе что-то подобное. Признаться, я часто до этого задавался вопросом, наградила ли меня природа какими-нибудь необычными способностями, и, стараясь глядеть на себя как можно более беспристрастно, не обнаруживал в себе ничего сверхъестественного, за исключением разве что повышенной чувствительности к разного рода мелочам, до которых мало кому вокруг есть дело, — да и то: эту чувствительность можно было скорее записать в недостатки, потому что она нередко уводила меня от простой сути вещей.
Теперь, когда Кристина назвала меня потрясающим, я стал поспешно перебирать в памяти всё, что говорил и делал в её присутствии. Не найдя ничего примечательного, кроме пары романтичных фраз, я грешным делом подумал, что, может быть, как-то особенно хорошо проявил себя в том, что она называла это. (Как и все, наверное, мужчины, в определённые минуты я легко опускался до теории, согласно которой всё многообразие чувств, возникающих между мужчиной и женщиной, является не более чем преломлённым отражением постели). Однако, анализируя время от времени и эту сферу своей жизни (как правило за просмотром откровенных видеороликов), я чаще всего приходил к выводу, что и тут природа не наделила меня ничем сверх меры, — и у меня не было повода считать, что с Кристиной я сумел прыгнуть выше головы. К тому же, я точно знал, что это просто не может быть для неё так важно. Да: она, как и я, взволнованно при этом дышала, и движения её мало чем отличались от движений других девушек, которых я знал, — и всё же во время нашей близости меня не оставляло чувство, что кто-то однажды выдал ей это занятие за что-то совсем другое и она до сих пор верит. Так ребёнок, которому делают болезненный укол, верит, что это его «кусает комарик».
— Что же во мне потрясающего? — поинтересовался я.
— Не знаю, — сказала Кристина, пожав плечами. — Просто ты необыкновенный. Ты как будто откуда-то не отсюда.
Я видел, что она хочет сказать что-то ещё, но сомневается, нужно ли это говорить.
— У нас в городе есть один художник, — сказала она наконец. — У него ооочень классные картины. Он талантище, правда. Но ты, по-моему, круче, чем он. Не знаю почему, но ты точно круче.
Я долго глядел на неё, от растерянности не зная, что ещё спросить, и вдруг увидел, как в её взгляде и изгибе бровей появляется что-то дразнящее. Я тут же вспомнил девочку, которая лет двадцать тому назад, слегка раскрыв соединённые «лодочкой» ладони, показала мне на секунду своё самое драгоценное стёклышко. Скорее всего, это было проявлением большой симпатии, однако, убирая сокровище в кармашек платья, девочка смотрела на меня точно таким же дразнящим взглядом, который как бы говорил: «Поглядел — и хватит. Будешь со мной дружить — покажу на подольше».
— Всё, — сказала Кристина загадочно. — Мне пора…
Она закрыла руками обнажённую грудь и убежала в комнату — снова с громогласным топотом.
— Пожалуйста, не надо смотреть! — сказала она, когда я к ней подошёл, намереваясь всё же рассказывать о соседях.
— Почему не надо? — спросил я. — Я ведь всё уже видел.
— Потому что. Потому что мне надо уходить, а я не хочу.
— А кто мешает остаться? — спросил я.
— Никто, — сказала она и, встав, застегнула юбку. — Просто я знаю, что я очень быстро тебе надоем. Потому что я бездарность. Я пустота. Правда.
Мне стало грустно от её слов, но я не знал, что сказать.
Мы вышли в прихожую — она одетая, я всё ещё голый.
— Давай не будем видеться до экзаменов, — предложила она. — А то я и так туповатая, а если мы ещё и будем видеться, я даже эту дебильную теорию выучить не смогу.
— Как скажешь, — ответил я и почему-то подумал, что так действительно будет лучше. Я оглянулся на кухонное окно и обрадовался туче, которая надвигалась на город. Я уже предвкушал, как с уходом Кристины лягу на кровать и буду вглядываться в тёмный воздух своей одинокой квартиры.
Но Кристина не уходила. Она сосредоточенно смотрела мне в глаза и явно хотела найти какие-то нужные слова, после которых ей самой было бы легко и даже радостно оставить мой дом, но ей не удавалось их найти. Она была красивой в эту минуту.
— Когда я сейчас уйду, — сказала она медленно, решив, как я понял, искать нужное на ощупь, — ты только не открывай конверт сразу… Сосчитай хотя бы до ста, нет, лучше до ста пятидесяти — и только потом открывай. Хорошо?
— Хорошо, — сказал я, и мы ещё помолчали.
— А можешь вообще не открывать. Там ничего особенного.
— Да нет уж, я открою. Мне уже не терпится.
— Ты хоть догадываешься, что там?
— Думаю, письмо, или фотография, или новый рисунок.
Мы ещё помолчали.
— Ты ничего не сказал про мою юбку, — пожаловалась она нестрого. — Скажи, только честно, хорошо мне в юбке или нет?
— Я не знаю, хорошо тебе в ней или нет, но выглядишь ты в ней очень даже.
Она ненадолго задумалась, а потом её лицо устало просветлело.
— Ты по-тря-са-ю-щий, — проговорила она, на каждом слоге легонько ударяя меня в грудь макушкой, а потом опять внимательно посмотрела мне в глаза. — Знаешь, у меня дома есть куча разных юбок, которые я ещё ни разу не надевала. Они из разных стран. По-моему, они обалденные. Они должны тебе понравиться. Вот. Ну всё. Пока.
Она грустно поцеловала меня в щёку и быстро ушла.
Я стал ходить по квартире, добросовестно считая вслух. Досчитав до ста пятидесяти, я сел за компьютерный стол и распечатал конверт. Как я и ожидал, там были «голуби».
Почему-то на этот раз рисунок не показался мне таким удачным. То особенное, что я в нём обнаружил, когда он висел на стене Кристининой комнаты среди других рисунков, как будто выветрилось из него, в то время как недостатки, которые роднили его с остальными работами, казалось, проступили наружу. Я перевернул листок, чтобы «голуби» не перестали мне нравиться окончательно, и увидел на обратной стороне алый отпечаток напомаженных губ. На этот отпечаток я глядел гораздо дольше, чем на рисунок; меня завораживала точность, с которой отобразилась на бумаге каждая маленькая складка губ человека, ещё несколько минут назад бывшего у меня дома, а теперь находящегося где-то далеко, смешавшегося с тем непонятным за окном, что называется «жизнь».
Я поднёс листок к лицу и, зачарованный, соединил с отпечатком свои губы.
В комнате потемнело почти как ночью, и вскоре за окном зашумел ливень. Я лёг на кровать и внутренне затаился. Темнота сгущалась в углах комнаты, оклеенной дешёвыми бумажными обоями розового цвета; с годами обои порыжели, а сейчас, в темноте, они казались фиолетовыми. Старая деревянная хозяйская мебель — видимо из-за резкой перемены влажности воздуха — время от времени издавала слабые щелчки, словно наделённая жалкой крупицей собственной жизни. Уличный ветер касался моего обнажённого тела.
«Ты потрясающий, — звучало в моей голове. — Ты откуда-то не отсюда. Я таких раньше никогда не встречала…»
Я уснул и увидел необычный сон. Я шёл по бесплодной пустыне среди однообразных серых каменных глыб и вдруг остановился возле глыбы особой породы: она была не то бирюзового, не то изумрудного цвета, похожая скорее на живое существо, чем на камень. Я сразу откуда-то вспомнил, что эта глыба и является главной целью моего путешествия по пустыне, и тут же попробовал сдвинуть её с места. Она не поддалась, и я впал в отчаяние, как вдруг понял, вернее тоже откуда-то вспомнил, что для обладания этой глыбой достаточно всего-навсего отколоть от неё небольшой фрагмент и положить его себе в карман, что нет разницы, вся — или фрагмент. Я взял один из обычных серых булыжников, валявшихся под ногами, и ударил им по волшебной породе. Всё получилось как нельзя лучше: от глыбы тут же отделился правильный, словно уже огранённый, камень. Я повертел его в руках, положил в карман и пошёл дальше, не ощущая почему-то никакой радости. Мне страшно было посмотреть назад, потому что я знал, что, оглянувшись, увижу уже не бирюзово-изумрудную, а обычную серую глыбу.
Пару дней спустя начались практические занятия по вождению, а вместе с ними — невыносимая жара и засуха. В течение месяца я по нескольку раз в неделю, обливаясь потом, управлял настоящей машиной под руководством маленького старичка-инструктора. Реальное вождение оказалось для меня мукой: я боялся дороги, меня постоянно тянуло на обочину, машина у меня то и дело глохла. Мной овладевало уныние ребёнка, запертого в тесной кладовке, и я малодушно мечтал о скорейшем и как можно более долгом перекуре. Старичок быстро нащупал во мне эту слабость и охотно ей потворствовал, будучи не прочь сэкономить на топливе; насколько я понимаю, для него это был один из немногих источников сверхурочного дохода. Надо отдать ему должное: для перекуров он выбирал места одно другого живописнее. Мы входили в какую-нибудь тенистую рощу, он усаживался на пенёк и, запивая бутерброд чаем из термосной крышки, спокойно разглагольствовал о ничтожности моих шансов получить права, не используя взятку. Я сидел на траве у ног своего учителя и, слушая его, курил. Затем, прибегая к трогательным недомолвкам и иносказаниям, старичок пытался укоренить во мне мысль, что без дополнительных занятий (разумеется, за отдельную плату) ничего более полезного, чем возможность побыть на свежем воздухе, я из нашего с ним общения не извлеку. Я находил какое-то бестолковое удовольствие в том, чтобы строить из себя дурачка, не понимающего, на что ему намекают; старичок же, как видно, не обладал достаточной наглостью, чтобы назвать вещи своими именами, и довольно быстро отступал. Вытряхнув себе в рот последние капли чая, он привинчивал крышку обратно к термосу, и оба мы знали, что следует делать дальше: я должен тут же закурить очередную сигарету, а он — в очередной раз повторить историю о том, как он бросил курить, продымив до этого двадцать лет. В истории не было ничего необычного, за исключением того, что, бросая вредную привычку, старичок какое-то время продолжал покупать себе сигареты, просто в момент потребности не закуривал их, а потрошил и растаптывал. Закончив рассказ, старичок взглядывал на часы и говорил, что пора бы, наконец, и позаниматься. Это означало, что сейчас мне предстоит не торопясь доставить его на машине до дома и «отработать заезд в бокс», то есть припарковать машину прямо у его подъезда, после чего мы пожелаем друг другу всего хорошего.
Вообще, мне нравилось наше общение. Насколько тоскливой бывала мысль о предстоящем свидании с автомобилем, настолько же приятно было размышлять, в каком на этот раз милом местечке мы со старичком разыграем наш абсурдный спектакль. При этом я прекрасно понимал, что если бы не автошкола, ни мне до этого человека, ни ему до меня не было бы в этом мире никакого дела; по крайней мере, нам уж точно никогда бы не взбрело в голову совместно проводить время на природе. Странно, но, пожалуй, в этом-то для меня и заключалась главная прелесть нашего общения.
О Кристине я в эти дни думал очень мало — может, из-за жары, может, из-за чего-то ещё. Уже через несколько дней после нашей последней встречи я спрятал её рисунок между книгами на полке. Вместе с тем я не исключал возможности, что Кристина — моя будущая жена.
«Каким-то ведь образом люди знакомятся и женятся, — думалось мне. — Вполне возможно, что это происходит именно так. Откуда мне знать?»
За пару дней до экзамена в моей жизни произошло то, что принято называть «маленьким чудом».
Возвращаясь домой после завершающего занятия со старичком, я встретил дядю Женю — человека, с которым меня объединяло какое-то хитросплетённое многою̀родное родство.
В нашей семье дядю Женю считали чудаковатым и довольно тяжёлым человеком. Он догадывался об этом и давно уже жил своей отдельной, мало кому известной жизнью, которая протекала в одном городе с теперешней моей. Эта жизнь, по скупым свидетельствам очевидцев, была на удивление путёвой и складной — свой дом, и даже какой-то небольшой бизнес, — и всё же казалось, что от неё исходит лёгкое излучение обиды по отношению к остальной родне. Так вышло, что единственным человеком, которого это излучение всегда обходило стороной, был я. По крайней мере, каждый раз, когда дядя Женя меня встречал, он приходил в такое воодушевление, будто я давно числился без вести пропавшим или погибшим и вдруг нашёлся живым и невредимым.
Особое отношение, которым отметил меня этот человек, чем-то мне льстило и вместе с тем немного пугало — пугало, наверное, тем, что оно раз и навсегда оформилось ещё в период моего младенчества и, проходя сквозь годы, не претерпевало никаких изменений. Казалось, дядя Женя упорно отказывался видеть во мне кого бы то ни было, кроме того четырёхлетнего пупсика, который однажды сразил наповал женщину-педиатра, громко и отчётливо прочитав надпись на больничном стенде: «Детские инфекционные заболевания и средства их профилактики». Наверное, всё дело было в том, что эти легендарные, почти былинные слова, без воспоминания о которых впоследствии не обходилась ни одна общесемейная встреча, я изрёк, восседая на дяди-Жениных руках; это он принёс их в семью, вписал их золотым тиснением в книгу семейной памяти. Обстоятельства, при которых именно ему, а не кому-нибудь другому, было поручено сводить меня в детскую поликлинику, так и остаются для меня загадкой; сам факт, что такое доверительное поручение было когда-то возможным, словно запечатывал мои уста всякий раз, как выдавался случай расспросить о подробностях у родителей или у самого дяди Жени. Я знал, что мне услышать грустную историю о некогда большой, но однажды навеки утраченной близости.
Он крепко ударил меня ладонями по предплечьям, мы обнялись.
— «Детские инфекционные заболевания, — сказал он, — и их профилактика»!
Затем он сделал мне свою обычную, но как всегда внезапную и весьма болезненную «сливу», после чего спросил:
— Что, товарищ мой, невесел, буйну голову повесил? Мамка титьку не даёт? Девка замуж не берёт?
Эти вопросы, подобно английскому «How do you do?», никогда не требовали ответа по существу. Я всего лишь должен был смущённо замямлить что-то нечленораздельное, чтобы дядя Женя принялся тыкать меня пальцем в живот, приговаривая: «Что мямлишь? Что мямлишь? „Да! есть! так точно!“ Ты солдат или нет?!»
Я и теперь уже готов был замямлить, и даже напряг рефлекторно мышцы живота, ожидая тыканья, но в последний момент, — видимо, ощутив, что слишком пресытился игрой по заданному сценарию на практических занятиях со старичком, — решил озадачить дядю Женю неожиданной импровизацией. Я поведал ему о своих неудачах на водительском поприще: о страхе дороги, о довольно халатной работе старичка и его неутешительных прогнозах на мой счёт.
Неожиданная импровизация имела и неожиданные последствия. По мере приближения моего рассказа к концу, дядя Женя делался всё более мрачным; я никогда раньше не видел его таким. Когда же я замолчал, он заговорил со мной холодно, почти пренебрежительно:
— Ладно. Эту старую крысу я знаю, от неё ничему хорошему не научишься. Ты площадку-то хоть откатаешь?
— Площадку? Наверное, — удивлённо пожал я плечами.
— В общем, так, — сказал дядя Женя. — Теорию и площадку сдавай как хочешь, а с городом что-нибудь обкашляем.
— Как это? — спросил я.
— Каком кверху! — взорвался дядя Женя. — Совсем уже сдурели! По норам своим рассовались, как суслики! Забыли, что такое семья, что такое родная кровь! Дождутся, пока передавят всех поодиночке!..
С огнём в глазах он заговорил о том счастливом времени, когда все помнили, что такое семья и что такое родная кровь, когда собирались за одним столом, когда без стука входили друг к другу в дом. Наконец голос его дрогнул:
— …Они никто не знают, но я же за тебя глотку кому хочешь перегрызу, потому что я тебя вот таким вот на руках держал…
— Дядя Женя, я прямо не знаю, что бы я без вас делал. Не знаю, как мне вас отблагодарить… — залепетал я, как бы заслоняясь этим лепетом от страшного родового сияния, в котором так неожиданно преобразился мой дальний родственник.
— Отблагодарить!.. — с брезгливой скорбью передразнил он меня. — Дурачок ты — вот ты кто… Когда помру, на могилку ко мне загляни, сто грамм сам выпей, а пятьдесят под крест мне вылей. Вот и будет «отблагодарить». Всё. Бывай.
Он дал мне какой-то немощный, смазанный подзатыльник и, сморкаясь от слёз, быстро ушёл, то ли забыв, то ли не пожелав протянуть мне на прощанье руку.
Я смотрел ему вслед, и в голове у меня суетливо билась мысль: «Догнать его и попросить за Кристину. Сказать, что моя невеста, что люблю её».
Но я не побежал; мне было неловко, или страшно, или как-то ещё.
Я шёл домой, странно взволнованный встречей с родственником. Что-то похожее — хоть и в миниатюре — я испытал однажды при виде сгустка крови в желтке яйца, выбитого мной на сковородку.
Настал день экзаменов. Отделение ГИБДД, где предстояло сдавать теорию и площадку, находилось в пригороде, и маленький автобус, ехавший туда, был туго набит пожилыми дачниками и, само собой, соискателями водительских прав. Я кое-как втиснулся в заднюю дверь и сквозь трясущиеся заросли чьей-то рассады разглядел Кристинино лицо. Кристина стояла в переднем конце автобуса, её компанию составляли всё те же девушки и парень с обезображенным угрями лицом, тоже, как я вспомнил, из нашей группы. Этот парень изо всех сил старался приободрить Кристину, и она, — не столько, думаю, благодаря его усилиям, сколько из уважения к ним, — время от времени реагировала на его шутки бесцветными носовыми смешками, больше похожими на хныканья.
Сосредоточив своё внимание на её лице, я хорошо различал сквозь автобусный шум все её слова.
— Я бездарность. Я не сдам, — затягивала она свою привычную песню, без сожаления аннулируя весь объём только что проделанных парнем работ по её душевной реанимации. Парня это не обескураживало: снова и снова он принимался дурачиться, импровизировать, говорить о хорошем — и всякий раз единственной наградой за этот труд было жалкое подобие смеха, после которого всё повторялось снова. Его несгибаемое упорство, казалось, говорило о том, что ему достаточно и такой ничтожной награды, но в какой-то момент он повёл себя иначе. Он приблизился к Кристине, прижал её голову к своей груди и сказал:
— Чувак, не тоскуй. Думаешь, мне легко? Сам с утра колёс от живота наглотался…
Помню, он как-то сверх приличия долго продержал её в объятиях. Сначала он гладил её волосы быстрыми неаккуратными движениями, как бы в виде детской или клоунской игры, но потом движения стали медленнее, серьёзнее, и он прижался к макушке Кристины своей угреватой щекой. При этом его глаза, невидимые для компании, но видимые мной, замерли в каком-то блаженно-вдумчивом выражении, которое так не вязалось с его недавней шутовской энергией.
Кристина заметила меня, оторвала голову от груди парня и жалобно замахала мне рукой. Я тоже помахал — медленно, уверенно и просто. Парень от растерянности глупо оскалился и захлопал себя по карманам, как будто чего-то ища, а потом переключился на Кристининых подружек, которые тоже были не против его психологической поддержки и не избегали его прикосновений. Меня посетила неприятная мысль: эти прикосновения, совершаемые под невинным дружески-платоническим предлогом, являются для него скрытым и, возможно, единственно доступным источником интимного трепета.
Мне стало стыдно, я отвернулся.
Автобус подъехал к нужной нам остановке, соискатели прав шумно высыпали на улицу и потянулись к отделению ГИБДД. Я остановился, чтобы закурить. Кристина отделилась от своей компании, подошла ко мне и молча остановилась напротив. Я видел, что она рада мне, что она готова обнять и поцеловать меня, просто ей необходимо знать, что я тоже этого хочу. Но я не стал ни обнимать, ни целовать её. Странно: казалось, её это ничуть не удивило.
— Ну как? — спросила она. — Готов?
— Трудно сказать.
Я кивнул на здание, в котором уже скрылась толпа, и мы не торопясь пошли в его сторону.
— Та же фигня, — сказала Кристина. — Хотя мы даже скидывались на дополнительные занятия: девчонки, Виталик и я. Брали инструктора с машиной часа на два и катались по очереди на площадке. — Она помолчала. — Вообще, было прикольно. Ржали постоянно. Виталик такой парень хороший, с чувством юмора. Жалко его: видишь, какие у него проблемы с кожей.
— Ничего, — сказал я, подумав. — Когда-нибудь он встретит девушку, для которой его внутренний мир будет важнее, чем его проблемы с кожей. И это точно будет любовь.
— У тебя всё в порядке? — спросила Кристина. — Ты как будто какой-то расстроенный.
Я пожал плечами и сказал, что вроде бы всё в порядке. Мы вошли в здание.
Теорию мы сдали успешно — и я, и Кристина, и Виталик с девушками. Когда мы вышли из аудитории, Виталик обнял девушек за талии и, вытянув губы, легко получил от каждой из них звонкий поцелуй. С Кристиной он такого проделывать не стал, — видимо, из-за меня. Он ограничился тем, что пожал ей руку, причём сделал это с подчёркнутой деликатностью, почтительно пригнувшись и бережно взяв её ладонь в обе своих. Затем точно таким же способом он поздравил с успехом и меня.
Всех, кто не провалил теорию, повели сдавать площадку. Этот этап заключался в выполнении трёх заданий: «змейка», «заезд в бокс» и «въезд на эстакаду».
Первый экзаменуемый сбил один из колпачков «змейки», потом не справился с заездом в бокс и, не добравшись до эстакады, был отправлен на пересдачу. По толпе прокатился тревожный шум. Кристина закинула под язык какую-то таблетку и страдальчески выдохнула.
— Это какая-то пытка, — сказала она то ли мне, то ли Виталику, то ли просто в пространство. — Я не выдержу. Отпустите меня отсюда. У меня порок сердца.
Тут я услышал свою фамилию и направился к машине, возле которой меня безразлично поджидал мой старичок. Кристина успела дотронуться до моего плеча и, кажется, пожелала мне ни пуха ни пера, но я ничего не ответил.
Дальше всё происходило как во сне. Лишь выбравшись из машины на улицу, я понял, что сдал. Старичок тихонько мне поаплодировал и протянул:
— Не ожидаааал…
Я зашёл под большой навес, где прятались от солнца большинство экзаменуемых, и на меня посыпались преувеличенные похвалы:
— Красавец… молодчина… лучший…
Я чувствовал, что мало кто по-настоящему радуется за меня; в похвалах читалась примитивная вера в то, что, выказав даже неискреннюю радость за другого, можно вернее добиться успеха самому.
Передо мной возник Виталик с выставленным в виде микрофона кулаком.
— Вы были великолепны! скажите, как вам это удалось? откуда такое мастерство? поделитесь секретом вашего успеха! — засы̀пал он меня вопросами.
Я подыграл ему, как умел: принял солидный вид и сказал что-то про годы упорных тренировок. Слушая меня, Виталик широко улыбался, выставляя напоказ хорошие белые зубы, такие странные на фоне его ужасной кожи. Клоунада до странности затянулась: он задавал всё новые и новые вопросы, и я почему-то продолжал на них отвечать. Я делал это машинально, глядя на лицо Виталика и со страхом воображая, что̀ будет, если посреди нашего интервью я возьму и скажу: «Господин корреспондент, а почему у вас так много прыщей?» — хотя я отлично знал, что не хочу и не буду ничего такого говорить.
За время нашей беседы ещё два или три человека завалили площадку. Затем прозвучала Кристинина фамилия, и это помогло нам с Виталиком остановить, наконец, наше затянувшееся дурачество.
Кристина направилась к автомобилю, как обычно подтягивая на ходу джинсы. Копна её мелкокурчавых волос подпрыгивала при ходьбе, словно грива у маленькой лошадки. У меня болезненно забилось сердце.
Не знаю, откуда во мне возникло это чувство, вернее, нет, даже знание: что оттого, сдаст или нет Кристина площадку, зависит, будем ли мы с ней вместе или нет. Я до сих пор не вижу в этом никакой связи.
Кристина неловко залезла в машину и сильно хлопнула дверью. Силуэт её головы беспомощно торчал в окне; она была похожа на зверька, которого учёные подвергали жестокому эксперименту в холодных целях науки.
— Давай, чувак, сделай это… — переживал в это время Виталик. Он сильно покраснел от волнения, и из-за этого его прыщи стали вдруг незаметными, словно их и не было.
Кристина завела машину, тронулась, проехала пару метров и, сбив первый же колпачок «змейки», заглохла. Я видел, как её голова с засверкавшим от пота лбом суетливо завертелась внутри машины, пружинистые волосы запрыгали в разные стороны.
— Чувак, соберись, ещё не всё потеряно… — шептал Виталик, скрестив пальцы.
Кристина завелась снова и, забыв нажать на сцепление, зачем-то вдавила в пол педаль газа. Двигатель отвратительно заорал, а затем что-то в нём лопнуло — и настала мёртвая тишина. Всё застыло, только позорное облако газа, извергнутое автомобилем, медленно отправилось к небу, а в салоне, будто в газовой камере, беззвучно металась тёмная человеческая фигурка.
Я увидел подъезжающий к остановке автобус и, не дав себе подумать, устремился к нему, стараясь, однако, не бежать слишком быстро, чтобы это не выглядело, как побег предателя.
Автобус вернул меня в город, и я около двух часов шатался по его раскалённым обезлюдевшим улицам с такой же раскалённой и пустой головой.
В условленное время я вышел к центральному универмагу. Возле него, на парковке, уже собралась группка людей, которые, как и я, сдали площадку и теперь ожидали последнего, самого трудного этапа. «Управление транспортным средством в реальных городских условиях», — кажется, так это называлось.
Я увидел Лену — одну из двух Кристининых подружек. Без её вечной напарницы я даже не сразу узнал её. Внутри группки не прекращалась оживлённая болтовня, разбавляемая нервными смешками; казалось, близость генерального испытания сумела немного размягчить корку всеобщего взаимного безразличия; одна только Лена стояла в стороне от всех неподвижно и молча, взявшись рукой за ручки большой кожаной сумки, висевшей у неё на плече, и устремив равнодушный взгляд в неопределённую даль. Лена была маленького роста, с почти отсутствующей грудью и худыми, не самыми стройными ногами, которые торчали из её короткого платья подобно цветочным тычинкам.
Я видел, что Лена заметила меня, но, кажется, она была вполне готова к тому, чтобы мы проигнорировали друг друга; видимо, я по-настоящему существовал для неё как собеседник только в присутствии её напарницы и Кристины.
Я встал рядом с ней, помолчал с минуту, потом решил заговорить:
— Что, из вас четверых только ты?
— Как видишь, — ответила Лена, не очень, казалось, охотно взглянув в мою сторону.
— Волнуешься?
— Нет, — спокойно сказала она. — Я уже заплатила взятку. Пять минут позора — и всё хорошо.
Она была совсем не такой, какой казалась в компании.
— А в чём будет заключаться позор?
— Мне сказали, что я должна буду только нажимать на педаль газа, а всё остальное проделает инструктор.
Я сообразил, что это, вероятно, ждёт и меня, если, конечно, дядя Женя действительно за меня похлопотал.
Ленины глаза всё так же равнодушно глядели вперёд. Мне хотелось сказать ей что-нибудь ещё, но подъехали сотрудники ГИБДД, а вслед за ними инструкторы, и она направилась к скоплению машин. Оба мы стали ждать, когда прозвучат наши фамилии.
Моя прозвучала раньше. Я откликнулся, гаишник скользнул по мне взглядом, по которому я сразу понял, что без дяди Жени не обошлось (как ни странно, особой радости во мне это не вызвало), затем подозвал к себе моего старичка и дал ему короткую инструкцию, после чего старичок проследовал к своей машине (на которой я должен был проходить экзамен), открыл капот, понажимал пальцами на какие-то трубки и довольно громко доложил гаишнику о неисправности транспортного средства. Гаишник велел старичку уезжать восвояси и экономным, но понятным жестом пригласил меня в учебный автомобиль, принадлежащий непосредственно отделению ГИБДД.
Я уселся за руль. Справа от меня, расслабив все свои мышцы, кроме челюстных, задействованных в жевании жвачки, сидел молодой инструктор в чёрной блестящей рубашке с длинным рукавом, а за моей спиной, источая сильный и какой-то пугающе приятный аромат туалетной воды, разместился всё тот же гаишник в белоснежной рубашке с погонами. Я бы сказал, что внешность его была спорно-мужественной: тяжёлому подбородку с ямочкой и тонкогубому волевому рту соответствовали довольно узкие плечи, слабо развитые мышцы рук и маленькие, всё время ускользающие от прямого взгляда глаза.
Гаишник щёлкнул авторучкой о значок на своей груди, неторопливо, как бы неумело, внёс какие-то записи в неизвестный мне документ и негромко произнёс:
— Газ держим на двух тысячах оборотов. Кроме педали газа, ничего в машине больше не трогаем. Понятно?
От волнения я на секунду замешкался с ответом.
— Понял, нет?! — неожиданно рявкнул инструктор, повернувшись ко мне.
— Понял, понял, — ответил я тихо.
— Что ты там «понял-понял»? Не «понял-понял», а просто «понял» надо отвечать! Ещё раз: ты понял, что тебе сказали делать?
— Понял, — ответил я.
— Вот так. А то «понял-понял» он. Бабушке своей будешь так говорить, — с этими словами он приспустил стекло и выплюнул изжёванную жвачку на улицу.
Затем была включена видеокамера. Глядя в объектив, я назвал дату экзамена и своё имя.
Мы тронулись. Гаишник называл маневры, которые следовало выполнить; я покорно держал ногу на педали газа (которая одна не была продублирована в правой части учебной машины и, видимо, только поэтому и была мне доверена) и пялился на стрелку тахометра, в то время как инструктор незаметно для камеры управлялся со сцеплением, тормозом и коробкой передач, включал поворотники и даже ухитрялся рулить, довольно чувствительно задевая меня при этом локтем.
Когда в результате совместных усилий мы очутились на грязной пустынной улице, протянувшейся между заводом резиновых изделий и шеренгой заржавленных гаражей, гаишник скомандовал:
— Выберите место для остановки.
Инструктор щёлкнул рычажком поворотника, дёрнул рычаг ручного тормоза и, заглушив машину, откинулся в кресле. В гнетущей тишине он бессмысленно уставился на глухой бетонный забор завода, окаймлённый колючей проволокой.
— Маршрут завершён. Количество штрафных баллов — ноль, — констатировал гаишник. — Экзамен сдан.
Отработанным, похожим на рефлекс движением инструктор щёлкнул по кнопке камеры и уронил руку обратно на ручной тормоз. Казалось, каждое его движение было своей резкостью направлено на то, чтобы я от него вздрагивал.
Тишина сделалась невыносимой. Я медленно отжал педаль газа и несмело взглянул на инструктора.
— Что ты вылупился? — вскинулся он на меня, страшно расширив глаза. Он явно ждал от меня ответных проявлений агрессии, которые тут же позволили бы ему перейти к открытой атаке; уверен, он мог бы и полезть на меня с кулаками. Но я промолчал. Тогда, растянув рот в ядовитой улыбке, он с расстановкой, смакуя каждое слово, произнёс:
— Пошёл — вон — отсюда, ослина вонючий.
Говорят, при непомерном превышении скорости стрелка автомобильного спидометра, подобно стрелке часов, заходит на очередной круг и начинает заново показывать самые скромные значения. То же и с улыбкой инструктора: переизбыток ненависти делал её почти ласковой на вид.
Истекающий потом, с колотящимся сердцем я выбрался из машины. Инструктор вышел следом за мной. Я уже приготовился к самозащите, но оказалось, что ему всего лишь нужно пересесть за руль. Бросив на меня последний уничтожающий взгляд, он с умеренной, оптимально дозированной силой захлопнул дверь. Машина коротко взревела и скрылась, обдав меня выхлопной вонью.
Я стоял посреди проезжей части, как бы оглушённый всем, что пережил за последние несколько минут. Почему-то особенно сильное впечатление произвела на меня та расчетливая бережность, с которой инструктор захлопнул дверь; захлопни он её с силой, с негодованием, у меня словно ещё оставалась бы надежда, что я сохраняю в глазах этого злобного существа хоть какую-то человеческую значимость.
Переведя дух, я зашагал по заводской улице, не зная, куда она меня выведет, и желая лишь одного: как можно скорее оказаться дома.
Но улица казалась бесконечной.
Между забором и проезжей частью пролегала болотная канава. Влага из неё, как видно, испарилась от засухи; жухлые стебли рогоза с редкими растерзанными шишками торчали из торфянистой ржавой мякоти, а в основаниях стеблей грудился человеческий мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, камеры и покрышки, шприцы и презервативы. Попадалось и другое: кал, истлевшие останки птиц, кошек и собак. Я бы испугался, но не удивился, обнаружив здесь человеческий труп. Среди этого жуткого ассорти, словно не замечая меня, невозмутимо сновали крысы.
Я довольно долго шагал вдоль канавы, не переставая в неё глядеть. Да, картина была неприятной, но иногда в неё вкраплялись такие непредсказуемые элементы, как пластмассовая нога манекена, полуразобранная пишущая машинка, треснутый глобус, — и возможность обнаружения таких предметов служила мне в пути чем-то вроде развлечения, помогая двигаться дальше сквозь плавильню жары. А ещё я говорил себе, что смотрю на правду.
На одном крохотном участке канава была чуть глубже, чем на остальных. Здесь ещё хранилась вода, которая и послужила прибежищем для доброй сотни лягушек. Они кишели, слабосильно карабкаясь друг на друга. Рядом с живыми плавали кверху брюхом мёртвые, видимо задохнувшиеся на дне под тяжестью остальных, а потом, уже вспухшими трупами, поднявшиеся на поверхность. Лягушки не умолкая квакали, и в их кваканье под беспощадным солнцем мне слышался горестный плач неудачников, сделавших ставку всей своей жизни на проигрышный водоём — на эту вот заводскую канаву — и уже бессильных исправить свою ошибку.
Это была заунывная песня конца, в которой мне тоже слышалась правда о мире. Я довольно долго стоял возле лягушек и слушал эту песню.
Почти сразу после того, как я тронулся дальше, мимо меня проехала машина — та самая, на которой я проходил свой позорный экзамен. Она обогнала меня метров на сто, остановилась, высадила девушку Лену и уехала.
В отличие от меня Лена не стояла в задумчивости посреди проезжей части и, уж тем более, не проявляла любопытства к содержимому канавы; закинув за плечо свою сумку и взявшись рукой за её ручки на высоте груди, она уверенно зашагала вперёд, в том же направлении, что и я. Я тут же забыл о канаве и, ускорив шаг, стал догонять Лену. Я чувствовал, что она очень нужна мне сейчас: как будто благодаря ей я надеялся выяснить что-то очень важное — об этом дне, об этом городе, о всей моей тоскливой жизни.
— Ну что? Можно тебя поздравить? — сказал я, догнав её.
— О, это ты, — едва приподняла она брови без малейшего удивления. — Поздравлять рано. Вот накоплю ещё полмиллиона на машину — и тогда можно будет поздравлять.
— Я смотрю, ты богатая, — сказал я.
— Эх, если бы я была богатая, — сказала она, впервые впустив в интонацию что-то похожее на живое чувство, — я бы уже три года назад села за руль…
Она рассказала, что не получает никакой финансовой помощи от родителей, живёт ещё с ними, но как только купит машину, сразу снимет квартиру поближе к столице. Она работает в торговой сфере, хватается за любые подработки и одновременно получает второе высшее. Она сама оплачивает учёбу, сама заработала на водительские права и уже скопила триста тысяч на машину.
— Так что до богатства мне ещё как до Китая пешком, — воспользовалась она фразеологизмом, не претендующим на оригинальность.
Я надеялся, что сейчас она спросит о том, как прошёл последний этап экзамена для меня, но, похоже, ей это было безразлично.
— Ты сейчас домой? — спросил я.
— Нет, — сказала она. — Я сейчас загорать и купаться.
— На городской пруд? Но там же так ужасно.
— О да, — сказала она, — воистину. Поэтому я еду в другое место. Где почти никогда не бывает людей.
— А это далеко?
Она шла на удивление быстро, я с трудом поспевал за ней.
— Всё относительно, — сказала она.
— Здорово, — сказал я. — Может, возьмёшь меня с собой?
— Так и быть, — согласилась Лена и вручила мне свою сумку. — Кристина про тебя говорила, что ты прямо какой-то волшебный. Только давай договоримся: никому про это озеро. Я не хочу, чтобы оно превратилось в очередной лягушатник.
Мы преодолели, наконец, заводскую улицу и оказались на окраине города. Там мы дождались автобуса с трёхзначным номером, я на таком ни разу не ездил. Я заплатил кондуктору за себя и за Лену. Где-то через полчаса мы сошли на какой-то лесной остановке. Здесь было хорошо, это место напоминало мне те места, где мы со старичком убивали время наших практических занятий, но на душе у меня было тяжело и тревожно. Казалось, природа была бессильна уберечь меня от палящей безысходности солнца. Казалось, заводская канава всё ещё была где-то рядом.
Мы вошли в лес, и через несколько минут пути по узкой тропинке перед нами открылся небольшой водоём. Берега его были заболочены, но крепкие деревянные мостки позволяли беспрепятственно дойти до воды. Я разделся, быстро прошёл по мосткам и нырнул в воду. Я доплыл до противоположного берега и, когда развернулся, увидел Лену. Её купание состояло в том, что она держалась обеими руками за край мостков и слегка покачивала своё тело в воде, не замачивая волос.
— Ты не умеешь плавать? — спросил я, подплыв к ней.
— Не умею, ну и что в этом такого? — сказала она.
— Ничего, конечно. Хочешь, я покатаю тебя на спине?
— Нет.
— Почему?
— Просто нет, — повторила она. — Это даже не обсуждается.
Мы вышли на берег, она расстелила полотенце и легла на живот. Я расположился рядом на траве. Я лежал на боку, подперев голову рукой, и смотрел на Лену.
Она ловко расстегнула на спине лифчик купальника и достала из сумки тюбик с кремом. Среди вещей, которые она перебирала в поисках тюбика, я успел заметить перцовый газовый баллончик. Лена протянула мне крем.
— Вотрёшь в спину? Раз уж ты здесь…
Я поднялся на колени и начал втирать в её кожу крем. Я решил, что буду делать это до тех пор, пока она не попросит остановиться. По сути, втирание постепенно превратилось в массаж.
— Приятно, — сказала Лена. — Я прямо готова уснуть. Ну всё, спасибо, достаточно. А то мне уже как-то неловко.
Я занял прежнее положение. Через минуту Лена спокойно повернулась на спину, оставив лифчик на полотенце, и так же спокойно посмотрела мне в глаза. Я посмотрел на её большие, как вишни, соски, приблизился к ней, поцеловал и начал ласкать. Через равные промежутки времени она издавала один и тот же короткий звук, похожий на писк. Меня немного пугал этот звук. Когда я решил пойти в своих ласках дальше, она спросила:
— У тебя есть с собой презерватив?
— Нет, — ответил я.
— Тогда всё, не надо, — сказала она и снова легла на живот.
Я вернулся в своё прежнее положение.
Она достала из сумки книгу. Это были «Братья Карамазовы».
— «Карамазовы», — сказал я. — Моя любимая вещь у него. Тебе нравится?
— Не знаю, — сказала она. — Больно у него все странные. У каждого героя какая-то своя философия. В жизни так не бывает.
— А как бывает в жизни?
— Не знаю, — сказал она снова. — В жизни просто живут. Ладно, не мешай мне читать, она и так у меня медленно идёт.
Я вдруг почувствовал невыносимое желание уйти, убраться отсюда как можно скорее.
— Спасибо, что показала мне это озеро, — сказал я. — Я, наверное, пойду.
— Пока-пока, — сказала Лена и перелистнула страницу…
Я вернулся домой без сил, повалился на кровать и моментально уснул.
Когда я проснулся, уже смеркалось. Я сразу ощутил сильнейшую тоску, но не испытал при этом обычного желания отдаться ей, равно как и прежнего желания укрыться от неё в раковине какого-нибудь бытового занятия, — и это сделало её настоящей тюрьмой. Глядя за окно, я коротко — как-то в целом — вспомнил о своём детстве, о своих родителях и неожиданно прослезился, будто все мои близкие дано умерли. Но слёзы быстро высохли.
Я отыскал на книжной полке Кристинин рисунок и, сев за компьютерный стол, начал внимательно его разглядывать. Кажется, я достал его в необъяснимой надежде, что он поможет мне заплакать по-настоящему, зарыдать, может быть, в голос. И было похоже, что я на верном пути: из птичьих фигурок, теряющихся в сумерках, ко мне прорывалось что-то неуловимо горькое и вместе с тем прекрасное; я чувствовал огромную жалость, которая относилась не к Кристине и не ко мне, а к чему-то, что было разлито между нами в воздухе. К тому, что называется странным словом «жизнь». Суть этого рисунка и качество его исполнения утратили для меня всякую важность. Важным стало другое: живой человек наносил на бумагу линии и штрихи, а потом подарил свою работу мне, ещё и поцеловав её.
Но зарыдать я всё-таки не смог.
В том же году, в первую субботу сентября, город отмечал свой день.
Я гулял по парку с пакетом вина, завёрнутым в праздничный номер городской газеты, которую раздавали бесплатно при входе в парк. Громко звучала пошловатая весёлая музыка, лопались шарики, протыкаемые дротиками в маленьких уличных тирах. День был ясный и тёплый — бабье лето.
На одной из разбитых по случаю праздника палаток, белой в зелёную полоску, висела вывеска: «От сердца к сердцу. Купи рисунок — помоги ребёнку». Внутри этой палатки я увидел Кристину и Виталика в одинаковых жёлтых майках. Посередине каждой майки располагалось большое изображение сердца, служившее как бы рамкой для фотографии безволосого, утыканного медицинскими трубками ребёнка. Внутренние стенки палатки были сплошь увешаны Кристиниными рисунками, точь-в-точь как стена её комнаты, только теперь рисунки были в аккуратных деревянных рамочках. Горожане время от времени подходили палатке, выбирали картинку и опускали купюру в прозрачный контейнер с жестяной крышкой. Купюр скопилось уже довольно много.
Я стоял шагах в десяти от палатки, чтобы наблюдать за Кристиной и Виталиком, оставаясь незамеченным. С кожей у Виталика не улучшилось, но это, как и прежде, не отражалось на его коммуникабельности и уверенности в себе. Он балагурил с покупателями, с Кристиной — и Кристина то и дело обнажала свои прекрасные бело-голубые зубы в улыбке.
Я ждал, когда между ней и Виталиком произойдёт нечто такое, из чего я смогу понять, встречаются они или по-прежнему просто дружат. О первом мог бы свидетельствовать поцелуй в губы или, по крайней мере, любое другое проявление нежности, которое исходило бы не только от Виталика, но и от Кристины тоже. Ничего подобного я не увидел. Видел только, как после каждой проданной картинки Виталик сам целует Кристину — либо в плечо, либо в висок, либо в макушку.
Какой бы характер ни носило их единение, мне виделась в нём печаль. Я смотрел на Кристину с нежным состраданием и чувством вины. В моей голове сама собой родилась и прозвучала мысль: «Я лишил её счастья быть со мной». Услышав эту мысль, я горько усмехнулся и пошёл домой.
Я шагал, глотая вино, и изредка произносил вслух:
— Счастье! Быть со мной!
Я хотел бы расхохотаться от этих слов, и даже пробовал это делать, но смех получался ненастоящий. Он глох, как неисправный двигатель при зажигании.
С этого дня тоска, которая так часто посещала меня в моей съёмной квартире, словно выпустила из себя всё таинственное и привлекательное, что было ей присуще прежде; это была обычная тоска мужчины, нуждающегося в женщине.
Прошло совсем немного времени, и я познакомился в городе с девушкой, которая удивительно скоро узнала от меня, что в моей съёмной квартире лучше не топать.
Она стала моей женой и родила мне двоих детей.
Рисунок с голубями потерялся так же неприметно и загадочно, как теряются многие предметы прошлого.
Каждое лето мы ездим с семьёй на машине на море. Как уже было сказано, сегодня мне трудно представить свою жизнь без автомобиля.
— Давай, чувак, сделай это… — переживал в это время Виталик. Он сильно покраснел от волнения, и из-за этого его прыщи стали вдруг незаметными, словно их и не было.
Кристина завела машину, тронулась, проехала пару метров и, сбив первый же колпачок «змейки», заглохла. Я видел, как её голова с засверкавшим от пота лбом суетливо завертелась внутри машины, пружинистые волосы запрыгали в разные стороны.
— Чувак, соберись, ещё не всё потеряно… — шептал Виталик, скрестив пальцы.
Кристина завелась снова и, забыв нажать на сцепление, зачем-то вдавила в пол педаль газа. Двигатель отвратительно заорал, а затем что-то в нём лопнуло — и настала мёртвая тишина. Всё застыло, только позорное облако газа, извергнутое автомобилем, медленно отправилось к небу, а в салоне, будто в газовой камере, беззвучно металась тёмная человеческая фигурка.
Я увидел подъезжающий к остановке автобус и, не дав себе подумать, устремился к нему, стараясь, однако, не бежать слишком быстро, чтобы это не выглядело, как побег предателя.
Автобус вернул меня в город, и я около двух часов шатался по его раскалённым обезлюдевшим улицам с такой же раскалённой и пустой головой.
В условленное время я вышел к центральному универмагу. Возле него, на парковке, уже собралась группка людей, которые, как и я, сдали площадку и теперь ожидали последнего, самого трудного этапа. «Управление транспортным средством в реальных городских условиях», — кажется, так это называлось.
Я увидел Лену — одну из двух Кристининых подружек. Без её вечной напарницы я даже не сразу узнал её. Внутри группки не прекращалась оживлённая болтовня, разбавляемая нервными смешками; казалось, близость генерального испытания сумела немного размягчить корку всеобщего взаимного безразличия; одна только Лена стояла в стороне от всех неподвижно и молча, взявшись рукой за ручки большой кожаной сумки, висевшей у неё на плече, и устремив равнодушный взгляд в неопределённую даль. Лена была маленького роста, с почти отсутствующей грудью и худыми, не самыми стройными ногами, которые торчали из её короткого платья подобно цветочным тычинкам.
Я видел, что Лена заметила меня, но, кажется, она была вполне готова к тому, чтобы мы проигнорировали друг друга; видимо, я по-настоящему существовал для неё как собеседник только в присутствии её напарницы и Кристины.
Я встал рядом с ней, помолчал с минуту, потом решил заговорить:
— Что, из вас четверых только ты?
— Как видишь, — ответила Лена, не очень, казалось, охотно взглянув в мою сторону.
— Волнуешься?
— Нет, — спокойно сказала она. — Я уже заплатила взятку. Пять минут позора — и всё хорошо.
Она была совсем не такой, какой казалась в компании.
— А в чём будет заключаться позор?
— Мне сказали, что я должна буду только нажимать на педаль газа, а всё остальное проделает инструктор.
Я сообразил, что это, вероятно, ждёт и меня, если, конечно, дядя Женя действительно за меня похлопотал.
Ленины глаза всё так же равнодушно глядели вперёд. Мне хотелось сказать ей что-нибудь ещё, но подъехали сотрудники ГИБДД, а вслед за ними инструкторы, и она направилась к скоплению машин. Оба мы стали ждать, когда прозвучат наши фамилии.
Моя прозвучала раньше. Я откликнулся, гаишник скользнул по мне взглядом, по которому я сразу понял, что без дяди Жени не обошлось (как ни странно, особой радости во мне это не вызвало), затем подозвал к себе моего старичка и дал ему короткую инструкцию, после чего старичок проследовал к своей машине (на которой я должен был проходить экзамен), открыл капот, понажимал пальцами на какие-то трубки и довольно громко доложил гаишнику о неисправности транспортного средства. Гаишник велел старичку уезжать восвояси и экономным, но понятным жестом пригласил меня в учебный автомобиль, принадлежащий непосредственно отделению ГИБДД.
Я уселся за руль. Справа от меня, расслабив все свои мышцы, кроме челюстных, задействованных в жевании жвачки, сидел молодой инструктор в чёрной блестящей рубашке с длинным рукавом, а за моей спиной, источая сильный и какой-то пугающе приятный аромат туалетной воды, разместился всё тот же гаишник в белоснежной рубашке с погонами. Я бы сказал, что внешность его была спорно-мужественной: тяжёлому подбородку с ямочкой и тонкогубому волевому рту соответствовали довольно узкие плечи, слабо развитые мышцы рук и маленькие, всё время ускользающие от прямого взгляда глаза.
Гаишник щёлкнул авторучкой о значок на своей груди, неторопливо, как бы неумело, внёс какие-то записи в неизвестный мне документ и негромко произнёс:
— Газ держим на двух тысячах оборотов. Кроме педали газа, ничего в машине больше не трогаем. Понятно?
От волнения я на секунду замешкался с ответом.
— Понял, нет?! — неожиданно рявкнул инструктор, повернувшись ко мне.
— Понял, понял, — ответил я тихо.
— Что ты там «понял-понял»? Не «понял-понял», а просто «понял» надо отвечать! Ещё раз: ты понял, что тебе сказали делать?
— Понял, — ответил я.
— Вот так. А то «понял-понял» он. Бабушке своей будешь так говорить, — с этими словами он приспустил стекло и выплюнул изжёванную жвачку на улицу.
Затем была включена видеокамера. Глядя в объектив, я назвал дату экзамена и своё имя.
Мы тронулись. Гаишник называл маневры, которые следовало выполнить; я покорно держал ногу на педали газа (которая одна не была продублирована в правой части учебной машины и, видимо, только поэтому и была мне доверена) и пялился на стрелку тахометра, в то время как инструктор незаметно для камеры управлялся со сцеплением, тормозом и коробкой передач, включал поворотники и даже ухитрялся рулить, довольно чувствительно задевая меня при этом локтем.
Когда в результате совместных усилий мы очутились на грязной пустынной улице, протянувшейся между заводом резиновых изделий и шеренгой заржавленных гаражей, гаишник скомандовал:
— Выберите место для остановки.
Инструктор щёлкнул рычажком поворотника, дёрнул рычаг ручного тормоза и, заглушив машину, откинулся в кресле. В гнетущей тишине он бессмысленно уставился на глухой бетонный забор завода, окаймлённый колючей проволокой.
— Маршрут завершён. Количество штрафных баллов — ноль, — констатировал гаишник. — Экзамен сдан.
Отработанным, похожим на рефлекс движением инструктор щёлкнул по кнопке камеры и уронил руку обратно на ручной тормоз. Казалось, каждое его движение было своей резкостью направлено на то, чтобы я от него вздрагивал.
Тишина сделалась невыносимой. Я медленно отжал педаль газа и несмело взглянул на инструктора.
— Что ты вылупился? — вскинулся он на меня, страшно расширив глаза. Он явно ждал от меня ответных проявлений агрессии, которые тут же позволили бы ему перейти к открытой атаке; уверен, он мог бы и полезть на меня с кулаками. Но я промолчал. Тогда, растянув рот в ядовитой улыбке, он с расстановкой, смакуя каждое слово, произнёс:
— Пошёл — вон — отсюда, ослина вонючий.
Говорят, при непомерном превышении скорости стрелка автомобильного спидометра, подобно стрелке часов, заходит на очередной круг и начинает заново показывать самые скромные значения. То же и с улыбкой инструктора: переизбыток ненависти делал её почти ласковой на вид.
Истекающий потом, с колотящимся сердцем я выбрался из машины. Инструктор вышел следом за мной. Я уже приготовился к самозащите, но оказалось, что ему всего лишь нужно пересесть за руль. Бросив на меня последний уничтожающий взгляд, он с умеренной, оптимально дозированной силой захлопнул дверь. Машина коротко взревела и скрылась, обдав меня выхлопной вонью.
Я стоял посреди проезжей части, как бы оглушённый всем, что пережил за последние несколько минут. Почему-то особенно сильное впечатление произвела на меня та расчетливая бережность, с которой инструктор захлопнул дверь; захлопни он её с силой, с негодованием, у меня словно ещё оставалась бы надежда, что я сохраняю в глазах этого злобного существа хоть какую-то человеческую значимость.
Переведя дух, я зашагал по заводской улице, не зная, куда она меня выведет, и желая лишь одного: как можно скорее оказаться дома.
Но улица казалась бесконечной.
Между забором и проезжей частью пролегала болотная канава. Влага из неё, как видно, испарилась от засухи; жухлые стебли рогоза с редкими растерзанными шишками торчали из торфянистой ржавой мякоти, а в основаниях стеблей грудился человеческий мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, камеры и покрышки, шприцы и презервативы. Попадалось и другое: кал, истлевшие останки птиц, кошек и собак. Я бы испугался, но не удивился, обнаружив здесь человеческий труп. Среди этого жуткого ассорти, словно не замечая меня, невозмутимо сновали крысы.
Я довольно долго шагал вдоль канавы, не переставая в неё глядеть. Да, картина была неприятной, но иногда в неё вкраплялись такие непредсказуемые элементы, как пластмассовая нога манекена, полуразобранная пишущая машинка, треснутый глобус, — и возможность обнаружения таких предметов служила мне в пути чем-то вроде развлечения, помогая двигаться дальше сквозь плавильню жары. А ещё я говорил себе, что смотрю на правду.
На одном крохотном участке канава была чуть глубже, чем на остальных. Здесь ещё хранилась вода, которая и послужила прибежищем для доброй сотни лягушек. Они кишели, слабосильно карабкаясь друг на друга. Рядом с живыми плавали кверху брюхом мёртвые, видимо задохнувшиеся на дне под тяжестью остальных, а потом, уже вспухшими трупами, поднявшиеся на поверхность. Лягушки не умолкая квакали, и в их кваканье под беспощадным солнцем мне слышался горестный плач неудачников, сделавших ставку всей своей жизни на проигрышный водоём — на эту вот заводскую канаву — и уже бессильных исправить свою ошибку.
Это была заунывная песня конца, в которой мне тоже слышалась правда о мире. Я довольно долго стоял возле лягушек и слушал эту песню.
Почти сразу после того, как я тронулся дальше, мимо меня проехала машина — та самая, на которой я проходил свой позорный экзамен. Она обогнала меня метров на сто, остановилась, высадила девушку Лену и уехала.
В отличие от меня Лена не стояла в задумчивости посреди проезжей части и, уж тем более, не проявляла любопытства к содержимому канавы; закинув за плечо свою сумку и взявшись рукой за её ручки на высоте груди, она уверенно зашагала вперёд, в том же направлении, что и я. Я тут же забыл о канаве и, ускорив шаг, стал догонять Лену. Я чувствовал, что она очень нужна мне сейчас: как будто благодаря ей я надеялся выяснить что-то очень важное — об этом дне, об этом городе, о всей моей тоскливой жизни.
— Ну что? Можно тебя поздравить? — сказал я, догнав её.
— О, это ты, — едва приподняла она брови без малейшего удивления. — Поздравлять рано. Вот накоплю ещё полмиллиона на машину — и тогда можно будет поздравлять.
— Я смотрю, ты богатая, — сказал я.
— Эх, если бы я была богатая, — сказала она, впервые впустив в интонацию что-то похожее на живое чувство, — я бы уже три года назад села за руль…
Она рассказала, что не получает никакой финансовой помощи от родителей, живёт ещё с ними, но как только купит машину, сразу снимет квартиру поближе к столице. Она работает в торговой сфере, хватается за любые подработки и одновременно получает второе высшее. Она сама оплачивает учёбу, сама заработала на водительские права и уже скопила триста тысяч на машину.
— Так что до богатства мне ещё как до Китая пешком, — воспользовалась она фразеологизмом, не претендующим на оригинальность.
Я надеялся, что сейчас она спросит о том, как прошёл последний этап экзамена для меня, но, похоже, ей это было безразлично.
— Ты сейчас домой? — спросил я.
— Нет, — сказала она. — Я сейчас загорать и купаться.
— На городской пруд? Но там же так ужасно.
— О да, — сказала она, — воистину. Поэтому я еду в другое место. Где почти никогда не бывает людей.
— А это далеко?
Она шла на удивление быстро, я с трудом поспевал за ней.
— Всё относительно, — сказала она.
— Здорово, — сказал я. — Может, возьмёшь меня с собой?
— Так и быть, — согласилась Лена и вручила мне свою сумку. — Кристина про тебя говорила, что ты прямо какой-то волшебный. Только давай договоримся: никому про это озеро. Я не хочу, чтобы оно превратилось в очередной лягушатник.
Мы преодолели, наконец, заводскую улицу и оказались на окраине города. Там мы дождались автобуса с трёхзначным номером, я на таком ни разу не ездил. Я заплатил кондуктору за себя и за Лену. Где-то через полчаса мы сошли на какой-то лесной остановке. Здесь было хорошо, это место напоминало мне те места, где мы со старичком убивали время наших практических занятий, но на душе у меня было тяжело и тревожно. Казалось, природа была бессильна уберечь меня от палящей безысходности солнца. Казалось, заводская канава всё ещё была где-то рядом.
Мы вошли в лес, и через несколько минут пути по узкой тропинке перед нами открылся небольшой водоём. Берега его были заболочены, но крепкие деревянные мостки позволяли беспрепятственно дойти до воды. Я разделся, быстро прошёл по мосткам и нырнул в воду. Я доплыл до противоположного берега и, когда развернулся, увидел Лену. Её купание состояло в том, что она держалась обеими руками за край мостков и слегка покачивала своё тело в воде, не замачивая волос.
— Ты не умеешь плавать? — спросил я, подплыв к ней.
— Не умею, ну и что в этом такого? — сказала она.
— Ничего, конечно. Хочешь, я покатаю тебя на спине?
— Нет.
— Почему?
— Просто нет, — повторила она. — Это даже не обсуждается.
Мы вышли на берег, она расстелила полотенце и легла на живот. Я расположился рядом на траве. Я лежал на боку, подперев голову рукой, и смотрел на Лену.
Она ловко расстегнула на спине лифчик купальника и достала из сумки тюбик с кремом. Среди вещей, которые она перебирала в поисках тюбика, я успел заметить перцовый газовый баллончик. Лена протянула мне крем.
— Вотрёшь в спину? Раз уж ты здесь…
Я поднялся на колени и начал втирать в её кожу крем. Я решил, что буду делать это до тех пор, пока она не попросит остановиться. По сути, втирание постепенно превратилось в массаж.
— Приятно, — сказала Лена. — Я прямо готова уснуть. Ну всё, спасибо, достаточно. А то мне уже как-то неловко.
Я занял прежнее положение. Через минуту Лена спокойно повернулась на спину, оставив лифчик на полотенце, и так же спокойно посмотрела мне в глаза. Я посмотрел на её большие, как вишни, соски, приблизился к ней, поцеловал и начал ласкать. Через равные промежутки времени она издавала один и тот же короткий звук, похожий на писк. Меня немного пугал этот звук. Когда я решил пойти в своих ласках дальше, она спросила:
— У тебя есть с собой презерватив?
— Нет, — ответил я.
— Тогда всё, не надо, — сказала она и снова легла на живот.
Я вернулся в своё прежнее положение.
Она достала из сумки книгу. Это были «Братья Карамазовы».
— «Карамазовы», — сказал я. — Моя любимая вещь у него. Тебе нравится?
— Не знаю, — сказала она. — Больно у него все странные. У каждого героя какая-то своя философия. В жизни так не бывает.
— А как бывает в жизни?
— Не знаю, — сказал она снова. — В жизни просто живут. Ладно, не мешай мне читать, она и так у меня медленно идёт.
Я вдруг почувствовал невыносимое желание уйти, убраться отсюда как можно скорее.
— Спасибо, что показала мне это озеро, — сказал я. — Я, наверное, пойду.
— Пока-пока, — сказала Лена и перелистнула страницу…
Я вернулся домой без сил, повалился на кровать и моментально уснул.
Когда я проснулся, уже смеркалось. Я сразу ощутил сильнейшую тоску, но не испытал при этом обычного желания отдаться ей, равно как и прежнего желания укрыться от неё в раковине какого-нибудь бытового занятия, — и это сделало её настоящей тюрьмой. Глядя за окно, я коротко — как-то в целом — вспомнил о своём детстве, о своих родителях и неожиданно прослезился, будто все мои близкие дано умерли. Но слёзы быстро высохли.
Я отыскал на книжной полке Кристинин рисунок и, сев за компьютерный стол, начал внимательно его разглядывать. Кажется, я достал его в необъяснимой надежде, что он поможет мне заплакать по-настоящему, зарыдать, может быть, в голос. И было похоже, что я на верном пути: из птичьих фигурок, теряющихся в сумерках, ко мне прорывалось что-то неуловимо горькое и вместе с тем прекрасное; я чувствовал огромную жалость, которая относилась не к Кристине и не ко мне, а к чему-то, что было разлито между нами в воздухе. К тому, что называется странным словом «жизнь». Суть этого рисунка и качество его исполнения утратили для меня всякую важность. Важным стало другое: живой человек наносил на бумагу линии и штрихи, а потом подарил свою работу мне, ещё и поцеловав её.
Но зарыдать я всё-таки не смог.
В том же году, в первую субботу сентября, город отмечал свой день.
Я гулял по парку с пакетом вина, завёрнутым в праздничный номер городской газеты, которую раздавали бесплатно при входе в парк. Громко звучала пошловатая весёлая музыка, лопались шарики, протыкаемые дротиками в маленьких уличных тирах. День был ясный и тёплый — бабье лето.
На одной из разбитых по случаю праздника палаток, белой в зелёную полоску, висела вывеска: «От сердца к сердцу. Купи рисунок — помоги ребёнку». Внутри этой палатки я увидел Кристину и Виталика в одинаковых жёлтых майках. Посередине каждой майки располагалось большое изображение сердца, служившее как бы рамкой для фотографии безволосого, утыканного медицинскими трубками ребёнка. Внутренние стенки палатки были сплошь увешаны Кристиниными рисунками, точь-в-точь как стена её комнаты, только теперь рисунки были в аккуратных деревянных рамочках. Горожане время от времени подходили палатке, выбирали картинку и опускали купюру в прозрачный контейнер с жестяной крышкой. Купюр скопилось уже довольно много.
Я стоял шагах в десяти от палатки, чтобы наблюдать за Кристиной и Виталиком, оставаясь незамеченным. С кожей у Виталика не улучшилось, но это, как и прежде, не отражалось на его коммуникабельности и уверенности в себе. Он балагурил с покупателями, с Кристиной — и Кристина то и дело обнажала свои прекрасные бело-голубые зубы в улыбке.
Я ждал, когда между ней и Виталиком произойдёт нечто такое, из чего я смогу понять, встречаются они или по-прежнему просто дружат. О первом мог бы свидетельствовать поцелуй в губы или, по крайней мере, любое другое проявление нежности, которое исходило бы не только от Виталика, но и от Кристины тоже. Ничего подобного я не увидел. Видел только, как после каждой проданной картинки Виталик сам целует Кристину — либо в плечо, либо в висок, либо в макушку.
Какой бы характер ни носило их единение, мне виделась в нём печаль. Я смотрел на Кристину с нежным состраданием и чувством вины. В моей голове сама собой родилась и прозвучала мысль: «Я лишил её счастья быть со мной». Услышав эту мысль, я горько усмехнулся и пошёл домой.
Я шагал, глотая вино, и изредка произносил вслух:
— Счастье! Быть со мной!
Я хотел бы расхохотаться от этих слов, и даже пробовал это делать, но смех получался ненастоящий. Он глох, как неисправный двигатель при зажигании.
С этого дня тоска, которая так часто посещала меня в моей съёмной квартире, словно выпустила из себя всё таинственное и привлекательное, что было ей присуще прежде; это была обычная тоска мужчины, нуждающегося в женщине.
Прошло совсем немного времени, и я познакомился в городе с девушкой, которая удивительно скоро узнала от меня, что в моей съёмной квартире лучше не топать.
Она стала моей женой и родила мне двоих детей.
Рисунок с голубями потерялся так же неприметно и загадочно, как теряются многие предметы прошлого.
Каждое лето мы ездим с семьёй на машине на море. Как уже было сказано, сегодня мне трудно представить свою жизнь без автомобиля.



