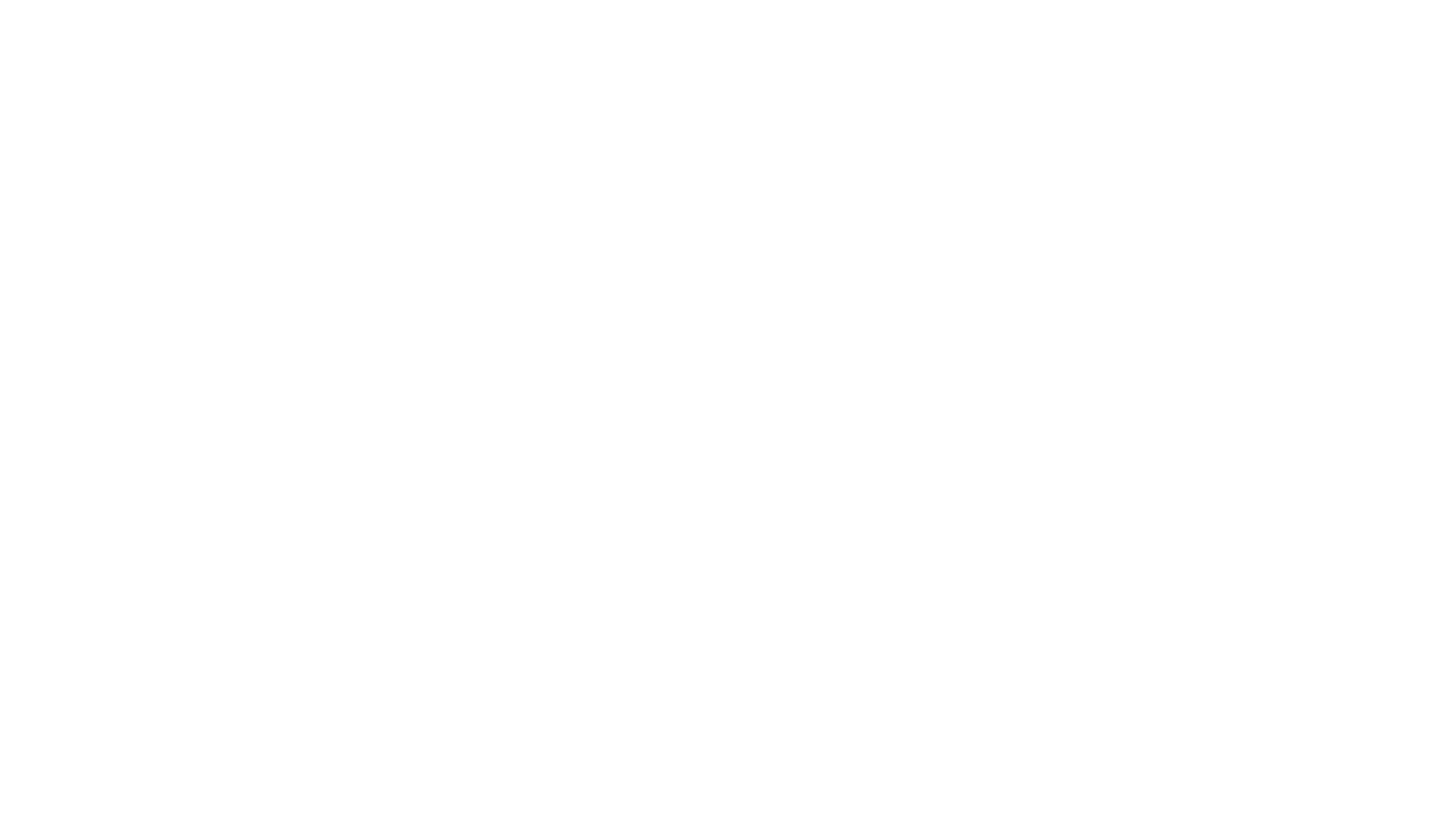
Юрий Лунин – Футбол девяносто какого-то
Юрий Лунин (род. в 1984 г) – прозаик, член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Наш современник», «Волга», «Дон» и др., а также в различных сетевых изданиях. Лауреат премии им. Ивана Гончарова (за книгу рассказов «Святой день»), лауреат русско-итальянской литературной премии «Радуга» (рассказ «Гады»), дипломант Всероссийского конкурса современной прозы им. Василия Белова «Всё впереди» (рассказ «Три века русской поэзии»). В настоящее время живёт в деревне Следово Ногинского района Московской области. Женат, отец троих детей.
Честно говоря, не вполне представляю, о чём выйдет этот рассказ. Но знаю точно, что закончиться он должен футбольным матчем на Будённовском поле.
20 лет назад, покинув пятиэтажку, где прожил с восьми до шестнадцати лет, я сразу забыл о своей дворовой компании. Наверное, это произошло потому, что я выпал из неё ещё раньше. Может, я никогда и не был по-настоящему её частью. По правде сказать, мне редко бывало в ней хорошо. Что, впрочем, не помешало мне провести в её окружении сотни световых дней своего детства и отрочества. Я снова и снова приходил в это диковатое, где-то беспощадное сообщество – за пониманием, уважением, самоутверждением.
Ну и за футболом, конечно.
Я размышляю о том, как вообще создаётся дворовая компания. То есть какие факторы должны совпасть, чтобы она сформировалась? Почему какие-то дома способны произвести этот уникальный плод (как некоторые ракушки – жемчуг), а какие-то – нет?
Так, например, дом, стоявший прямо за нашим, имел, как и наш, 50 квартир, а дворовой компании там не было, хотя детей в этом доме проживало явно не меньше, чем у нас. Почему?
Вот мои соображения на этот счёт.
Решающих фактора три: возраст дома, особенности его расположения в городском пространстве и наличие лидера.
По поводу возраста. Наш дом был относительно свежей постройки. Стало быть, населявшая его публика въехала сюда приблизительно в одно и то же время и по преимуществу состояла из молодых супружеских пар с детьми в возрасте от нуля до четырёх лет (кому ещё, как не молодым семьям, осваивать новые жилплощади?). Моя семья, прибывшая сюда с некоторым опозданием из долгих офицерских странствий по Советскому Союзу, была в этом смысле редким исключением среди жильцов. Думаю, эта исключительность во многом навсегда определила мои отношения с дворовой компанией и моё положение в ней. Ведь все ребята, которые однажды окружили меня, новенького, подобно стайке голозадых аборигенов, впервые увидевших белого человека в штанах и ботинках, – все они знались ещё мелюзгой, и знались в этом самом дворе. Он был для них продолжением оставленной материнской утробы, принял первую кровь из их разбитых коленок, они знали каждый его уголок, каждый кустик – и не так уж важно, что единственным элементом детской площадки служила здесь грубая железная карусель, к моменту моего приезда уже покосившаяся и почти неподвижная. Двор – это больше чем детская площадка.
Если, конечно, повезло с местом.
Место, занимаемое нашим домом, тоже было крайне выгодным для образования дворовой компании. Как начал бы историк: «Это был тот плавильный котёл, в котором…» – и так далее. Действительно, что-то котлообразное в нашем дворе было, а главное – он был действительно наш, в том смысле что мы не делили его ни с каким другим домом, так как напротив наших окон, за характерным для 90-х забором из рельефных бетонных квадратов, простиралась заросшая дубами и тополями обширная больничная территория, в простонародье – «больничка». Поздней осенью, в период первых осторожных снегопадов, вид этой территории с четвёртого этажа неизменно навевает ассоциации с пейзажами Брейгеля, глядя на которые зритель блаженно колеблется между желанием вечно оставаться на своей наблюдательной высоте и столь же сильным желанием проникнуть внутрь картины.
Сегодня на «больничку» только один вход – «для посетителей и сотрудников учреждения». Во времена же моего детства помимо него существовало также несколько самодеятельных человеческих лазов, причём один из них располагался как раз со стороны нашего двора. Через этот лаз пролегал мой обычный школьный маршрут. Я нырял на «больничку», тут же попадая под сень высокого дуба, где приятно пахло желудями и земляной сыростью, далее шёл мимо главного больничного корпуса, затем выскакивал через центральные ворота на улицу Текстилей – и вот она, моя школа. Сегодня, когда все лазы давно заделаны и эта приятная «гипотенуза» уже не доступна для горожан, мне бы пришлось огибать «больничку» по «катетам», делая крюк.
Беда, конечно, не велика, больше ходить – даже полезно. Просто этот лаз, когда-то такой естественный и понятный, а теперь так же естественно и понятно не существующий, видится мне сегодня одним из добрых, согревающих символов эпохи моего детства. Во всём официальном, строгом, требующем, казалось бы, неукоснительного соблюдения всяких формальностей тогда ещё обнаруживались такие вот простодушные человеческие прорехи. Для себя я объединяю все их словосочетанием «человеческий зазор». Можно было бы, конечно, не оригинальничать и использовать общеизвестный термин «человеческий фактор», но «зазор» мне нравится больше. Зазор – небольшая щель, оставляемая на поверхности всего казённого и формального, чтобы туда всё же потихоньку поступал живительный человеческий кислород.
Вспоминаю такой случай из раннего детства. Мне года четыре. Я лечу с семьёй из Владивостока в Москву. Засыпаю в небе. Самолёт приземляется в каком-то крупном городе на дозаправку. Я просыпаюсь: в салоне пусто, родителей рядом нет. Как потом выяснилось, они, пользуясь паузой в перелёте, вышли подышать свежим воздухом, оставив меня, спящего, на попечение стюардессам. Но когда я проснулся, я не увидел и стюардесс. Я был совершенно один.
Я начинаю отчаянно рыдать. Ко мне подбегают стюардессы, проявляют ласку, предлагают ситро, объясняют, что ничего страшного не произошло. Я остаюсь безутешен. Тогда одна из них скрывается в носовой части самолёта и возвращается… с пилотом.
– Хочешь, покажу тебе кабину? – говорит невысокий мужчина, присаживаясь рядом со мной на корточки.
– Нет, – почему-то отвечаю я. – Я должен сторожить вещи.
Весь экипаж, переглядываясь, умилённо посмеивается.
– Ну ладно, – говорит пилот. – Раз вещи, тогда давай дождёмся родителей, а там посмотрим.
Родители вскоре возвращаются, благодарят стюардесс. Те, в свою очередь, делятся восторгами по поводу того, какой я разумный, серьёзный и милый: остался сторожить вещи.
Когда самолёт взлетает, ко мне подходит стюардесса, та, что приводила пилота:
– Ну что, пойдёшь в кабину? Теперь-то никто у мамы с папой вещи не украдёт.
Я смотрю на родителей.
– Иди, конечно! Когда ещё такое предложат! – говорит отец.
И вот я стою в кабине за спиной пилота и с замиранием детского сердца смотрю на десятки мигающих разноцветных огоньков приборной панели, над которой – бесконечный изумрудно-розово-оранжевый облачный ландшафт. Здесь так хорошо! Откуда-то непрерывно доносится тихий уютный писк, похожий на отдалённое свистение утреннего чайника. Из буроватого электрического света в салоне, навевавшего мысли о слепом продирании воздушной машины сквозь ночь, я разом попал в тихое небесное утро…
Трудно помыслить о подобном примере человеческогозазора в современной практике гражданской авиации. Кто позовёт обычного ребёнка в кабину летящего самолёта? Кто оставит его в салоне под приглядом стюардесс?
Наверняка у этого зазора была и обратная, тёмная сторона. То человеческое, которое в него проникало, могло ведь быть не только хорошим. Например, через этот зазор можно было много чего стащить и прикарманить. С другой стороны, это продолжают делать и теперь, когда зазора уже вроде бы нет…
Не знаю, что тут сказать.
Вообще-то я не хотел бы, чтоб кто-то уловил в моей интонации трухляво-пряный ностальгический душок. Сам я ничего такого не чувствую. Я, может быть, наоборот, подобно Тютчеву, заворожён и вдохновлён тем фактом, что мне – именно мне! – выпало посетить этот мир в те его роковые минуты, когда такое явление, как человеческий зазор, подобно лазу в заборе «больнички», трамвайному кольцу в нашем городе и много чему ещё, был навеки ликвидирован из жизни…
Но я продолжаю держать курс на Будённовское поле.
Третий фактор – наличие лидера.
У нас он был. Звали его Андрюха Кафтанов. Для кого-то просто Кафтан. Для меня тогдашнего – просто Андрюха. Парень года на три-четыре меня старше.
Кафтан представлял собой особую – быть может уникальную – разновидность дворового лидера. Он никого никуда за собой не вёл, никого не возвышал и не низвергал, не приближал и не отдалял, не организовывал травли, да и вообще никак не цеплялся за это своё лидерство, казалось, даже не замечая его. Он просто притягивал – и всё. С ним было смешно и как-то… как-то полноценно, что ли. С ним было хорошо. Любопытно, что я произнёс сейчас это слово, «хорошо», хотя в самом начале с уверенностью сказал обратное: что мне не было хорошо среди дворовой компании. Я начинаю себе противоречить – это тоже хорошо.
Кафтану очень подходило слово «балагур». Уверен, из него вышел бы замечательный клоун. Невыдающегося роста, сухопарый, локти всегда немного примагничены к бокам, а кисти и пальцы пребывают в непрерывной расслабленной жестикуляции. Вечные полукеды, никулинские треники с оттянутыми коленками. Походка немного чарли-чаплинская, как бы из первой балетной позиции. Силуэт лица чем-то напоминал беглые пушкинские автопортреты, где нос и рот поэта, сливаясь в нечто нераздельное, слегка лошадино устремляются вперёд покатого лба. Волосы у Кафтана были при этом не пушкинские. Они, как сказал бы Тургенев, торчали у него «острыми прямыми косицами». Эти «косицы», когда Кафтан обильно вспотевал во время упорного футбольного поединка и проводил ладонью от затылка ко лбу, начинали топорщиться, придавая ему вид одновременно воинственный и цыплячий. Это были те редкие и почему-то ценные для меня моменты, когда Кафтан смешил меня, сам не догадываясь об этом. Я невольно улыбался, глядя на него, а он ловил мой взгляд, авторитетно, с цыканьем, подмигивал, и если мы были с ним в одной проигрывающей команде, то говорил:
– Ничего, Юрок, не канѝ. (То есть «не накладывай в штаны», «не бойся»). Щас мы их сделаем.
Не помню, кстати, чтобы ещё кто-нибудь когда-нибудь обращался ко мне «Юрок».
Сам же Кафтан, когда бывал в особенно игривом настроении, почему-то называл себя Колей Курочкиным. Быть может, не зная о существовании своего клоунского альтер эго, он всё же ощущал его в себе и интуитивно подобрал ему такое имя.
Ни разу не слышал, чтобы Кафтан сказал: «А давайте делать то-то или то-то». (Кроме, конечно, тех случаев, когда дело касалось футбола). Казалось, он реализовывал своё лидерство только тем, что придавал стихийным порывам самой компании характер организованной деятельности. Опять-таки, придавал непонятно чем. Самим своим присутствием, что ли. Той заразительной и смешной болтовнёй, которой он безостановочно фонтанировал. Не знаю.
К примеру, взбредало всем в голову раздобыть где-нибудь у гаражей автомобильные покрышки и целый день катать их по двору, как жуки-скарабеи свои шарики, – Кафтан как бы нехотя присоединялся, и с ним игра развивалась по-настоящему увлекательно. Хотя, казалось бы, что увлекательного можно было из неё извлечь? Целый день катать по двору покрышки… Я, например, так ни разу в этом и не поучаствовал. Просто не понимал, в чём тут интерес. И всё же я запомнил, что виновником того коллективного восторга, которому я немного завидовал, глядя на «скарабеев» со стороны, бывал именно Кафтан. Как только игра надоедала ему, она надоедала и всем остальным, покрышки бросались во дворе и вскоре куда-то исчезали.
И так было во всём: разбивали старый аккумулятор и шли на «больничку» плавить свинец (тут я участвовал), разживались металлическими трубками и собирались поплеваться рябиной (тут нет), – всё это выходило без Кафтана как-то бесхребетно, полуживо, а то и просто задыхалось, едва зашевелившись, но стоило ему включиться – и всё менялось.
Я не могу до конца постичь волшебную природу его присутствия, но, думая о ней, почему-то сразу вспоминаю Кафтанову маму.
Это была доброжелательная женщина, сыпавшая смешными присказками, как семячной шелухой, и всегда немного навеселе. Кажется, мать-одиночка (Андрюхиного отца я не помню; допускаю, что тот сидел). Её отношения с сыном были иронически-нежными. Часто по вечерам, когда компания бездельничала на лавочках у первого подъезда, где жили Кафтановы, она выходила на балкон с семечками, иногда с бутылкой пива, заявляла о своём присутствии какой-нибудь незлобной шуточкой в адрес сына (типа: «Ну что, артист погорелого театра? снова соловьём разливаешься?») – и все потирали ладони, зная, что сейчас Коля Курочкин явит себя в полной красе. Присутствие мамы явно вдохновляло Андрюху. Он выступал перед ней, как перед любимой девчонкой. И она, как девчонка, с трудом прятала за внешней неприступностью любование своим мальчишкой. Компания же от души сгибалась от смеха, ощущая в вечернем воздухе что-то редкое и ценное, как витамин. К этому редкому подходили слова «уют», «безопасность», «защита», «тепло».
Может быть, в этом нехитром, но постоянном и прочном биении семейной гармонии и рождалась та самодостаточность Кафтана, которая так притягивала к нему и делала его нашим лидером.
Впрочем, подобные тонкие материи вряд ли имели бы значение, если б Кафтан не умел играть в футбол и не делал это так, как он делал.
Классический ленивый полуденный диалог:
– Ну чё, может, в футбольца̀?
– Да ну, без Кафтана…
Действительно: без него и тут получалось не то.
Он не ходил в футбольную секцию, но, по общему признанию, играл среди нас лучше всех. Не результативнее, не техничнее – а именно лучше. Мне хотелось быть в футболе таким, как он, а не таким, например, как звезда подростковой команды «НЗТА» (Ногинский завод топливной аппаратуры) Денис Рыжов, игравший со скучным профессионализмом среднего русского футболиста «из телевизора», или, допустим, как тот же Шурик Саввин (позднее Гуня) – не обременённый интеллектом здоровяк с маленькой светло-русой головой, вдавленной в широченные плечи, результативный за счёт своего бычьего здоровья, но не за счёт чего-то специфически футбольного. И если Рыжов обрёл это футбольное через выучку, то Кафтан нащупал это сам, как своего Колю Курочкина.
Ясно вижу сейчас, как он, со своими прижатыми к бокам локтями и порхающими тонкими пальцами, косо, с хитрецой разбегается перед штрафным ударом и забивает в нижний угол ворот «щёчкой» (внутренней стороной стопы), оставаясь верным своей первой балетной позиции. Он почти никогда не бил «на силу», предпочитая действовать «техничненько» (его любимое футбольное словцо).
Где-то в километре от нашего дома, невдалеке от старого городского кладбища, обособленной кучкой расположились несколько восьмиквартирных двухэтажек довоенной постройки. (Там даже не так давно снимали какие-то сцены для кино о событиях военного времени.) Общими силами эти домики умудрились осуществить то же, что и наш большой дом: взрастить дворовую компанию. Здесь фактор новизны построек (и без того кажущийся мне наиболее уязвимым звеном моей теории) уже не срабатывал. Зато «котёл», как видно, сработал что надо. Да и лидер сыскался.
Это была, конечно, совсем другая личность. Не помню его имени. Самый высокорослый среди своих (да и наших тоже), притом, что не особо вышел в плечах. Властный, с явным уклоном в тиранию. Компенсирующий нехватку чувства юмора правом сильного на самое обидное словесное опускание любого из своих подопечных. Такой, в общем, типичный
детина – «плохой старшеклассник» из советских фильмов о школьной жизни, в самый неожиданный момент вырастающий перед протагонистом из младшего или среднего звена и злорадно постукивающий кулаком по ладони: «Попался который кусался?..»
Откуда я знаю про эту компанию – мы пару раз в год играли с ними двор на двор. То сами ходили в прикладбищенский лес на их импровизированное поле, то играли с ними домашние матчи на пустыре, что находился прямо за нашей пятиэтажкой.
Каждый раз во время этих встреч меня поражало, насколько эти ребята не такие, как наши, и насколько они – чужие. Они казались другим племенем, другой расой, другим видом живых существ. Каким-то холодом веяло от мысли, что судьба могла забросить меня в их общество, а не в общество Кафтана со товарищи. Этот грубый детина – а рядом с ним, в чёрных обтягивающих трениках и вечной заляпанной жиром майке бледно-лимонного цвета, маленький и пухлый, но какой-то зловещий за счёт обветренного взрослого лица паренёк по кличке Макрон. (Других лиц этой компании я не помню.)
Если детина играл откровенно плохо и брал исключительно грубостью – мог травмировать игрока чужой команды и ультимативно опротестовать штрафной, а ещё любил орать: «С дороги, убью на хер!» – когда кто-нибудь вроде меня выходил против него на отбор, – то Макрон был реальным кудесником мяча в своей команде: он не «водился», играл умно, отдавал точные пасы и очень много забивал.
По правде сказать, они выигрывали чаще, – может, благодаря мастерству Макрона, а может, в силу более развитой командной дисциплины, продиктованной тоталитарным характером лидера.
Впрочем, в команде с Кафтаном было неплохо и проиграть.
– Ну вот, Андрюх, а ты говорил: «Сделаем их, сделаем»… – иной раз ворчал я на него, по-настоящему расстроенный поражением и сердитый на Кафтана за то, что его пророчествам, как выясняется, нельзя верить, ведь это, выходит, такие же пустые ненадёжные слова, как у обычных людей, не-кафтанов.
– Юрок, ну чё ты плачешь, как девочка Юлечка, – отвечал Кафтан. – На корову, что ль, играли?
Я видел, что моё разочарование в его пророческом даре трогает его не больше, чем сам проигрыш, и мне почему-то становилось легче.
Да… Кафтан…
Хороший был парень.
Впрочем, впадать в идеализацию и прекраснодушие не стоит. Добавлю щепотку трезвости. Кафтан не был посланником мира и справедливости в нашем дворе. Если кто-то из компании дрался, в том числе и кто-то явно более сильный с кем-то явно более слабым, он не разнимал, не вмешивался, а потом не утешал побеждённого. Он смотрел на проливаемые кровь и слёзы как на здоровую неизбежность в жизни своего сообщества.
В этом месте я должен выпустить на сцену повествования ещё двух героев – уже упомянутого Шурика Саввина и Дениса Цыганкова. Есть лёгкое подозрение, что я так увлёкся портретом Кафтана не только потому, что он такой хороший, но и потому, что мне подсознательно хотелось оттянуть момент встречи с этими двумя. Но встретиться с ними придётся.
Вполне возможно, что эти три события – мой первый выход во двор (где «аборигены» рассматривали «белого человека»), моё полное моральное уничтожение Денисом Цыганковым и суровый нокдаун от Шурика – имели место в разное время, но память распорядилась ими по законам классицизма, упихнув в один непродолжительный, но, как говорят современные спортивные комментаторы, «корвалольный» акт.
Итак, я вышел во двор, чтобы унять, наконец, всеобщее любопытство и показать, кто я такой. Кажется, я согласился на это после того, как компания уже раз восемь направляла ко мне делегации из двух-трёх человек, которые звонили в дверь и спрашивали кого-нибудь из родителей или бабушку: «А Юра выйдет?»
Мне, честно говоря, сразу не понравился этот навязчивый интерес, основанный только на том, что я «новенький», так, что когда взрослые заходили ко мне в комнату и передавали вопрос делегации, я реагировал отказом. Но, если не ошибаюсь, в какой-то момент отец повлиял на переговоры, сказав:
– Ну а почему бы не выйти-то? Люди хотят с тобой пообщаться. По-моему, это здоровое желание.
И я вышел.
Меня разглядывали. Задавали какие-то вопросы. В том числе, откуда я приехал. Я сказал, что из Эстонии.
– Ты чё, эстонец, что ли?
И тут что-то во мне перещёлкнуло. Как будто вылез откуда-то мой персональный Курочкин.
– Тааа, йаа эстоооунец… Страаафстфуйтэ… Тэ̀ррре ѝиииихтус... Ята̀ааайга...
Все покатились со смеху. Воодушевлённый, я не дал публике остыть, тут же заговорив голосом Горбачёва. Мне казалось, у меня блистательно получается его пародировать.
– Зыдрауствуйте, дарагхие таварищи! Дауайте ках-то урегхулируем этат уопрос…
Тут уже все просто согнулись, держась за животы. Кто-то сказал:
– Слышь, рѐбза, по ходу, у нас новый приколист в компании!
– Точняк! – согласился кто-то. – Второй Кафтан!
– А как этот можешь?..
– А как этот?..
Выяснилось, что я могу и как этот, и как тот. Для меня перестало в этот момент существовать что-либо невозможное.
Продолжая солировать, я, что называется, пошёл в зрительный зал – и тут, видимо, как-то неосторожно пошутил над Денисом Цыганковым, парнем на пару лет меня старше (ничего не поделаешь – до сих пор испытываю желание оправдаться, указав хотя бы на разницу в возрасте).
Нюансы перехода от сцены триумфа к сцене полного фиаско от меня ускользают (может быть, как раз по причине временно̀го разрыва между этими сценами). Сохранилось только ощущение шокирующего контраста. Только что все восхищались мной, радовались мне, а теперь все затаённо молчат, изредка о чём-то перешёптываясь, – и этот Денис медленно, как зомби, надвигается на меня с каменным лицом.
– Э, ты чего? – спрашиваю его, отступая на шаг.
Но он ничего не отвечает и просто продолжает угрюмо надвигаться. Рот его время от времени подёргивается, как бы искря нервным тиком, а нос дышит всё более шумно, точно готовясь вот-вот извергнуть пламя.
– Да в чём дело-то, а? Что я тебе такого сделал? – продолжаю я отступать.
Не знаю, почему я так повёлся на этот его дешёвый спектакль, но вариант решить проблему, врезав по морде («дать в грызло», как выражался отец), просто не рассматривался, притом что пару раз за свою восьмилетнюю жизнь я уже небезуспешно применял кулаки. Я оказался в плену иррационального ужаса. Мой оппонент это почувствовал, понял, что ему ничто не грозит, и восторжествовал окончательно.
– Ну ты чего хоть, а? Ну не надо, пожалуйста…
Холодные глаза, которые я, казалось, уже где-то видел, продолжали неотвратимо приближаться. В моём теле творилось что-то несусветное: из него как будто разом ушла вся кровь, колени дрожали, ступни и ладони обильно выделяли пот. Единственное решение, на которое я оказался способен, это больше не отступать, чтоб хотя бы укоротить мучительное ожидание своей страшной участи. Я остановился, выставил перед собой ладони и, едва управляя прыгающим подбородком и обмякшим языком, проговорил молитву последней надежды:
– Д… д… давай, пожалуйста, д… дружить…
Денис упёрся грудью в мои ладони, но, казалось, какой-то заводной механизм продолжает влечь его вперёд, на меня,
сквозь
меня…
Тишину нарушил сдавленный смешок Макса Прохорова, – как я потом убедился, самого страшного человека во дворе.
– Дявай длюзить… – передразнил он мою фразу на детсадовский манер своим хриплым, уже тогда прокуренным голосом.
Тут кто-то другой – может быть, всё-таки Кафтан – сказал:
– Ладно, Дэн, хорош, замонал, – и это прозвучало, как «стоп, снято» на съёмочной площадке.
Все словно проснулись: задвигались, заговорили о чём-то, не имеющем отношения к происшествию. Сам Цыганков моментально вышел из образа, отошёл от меня и заулыбался: на его лице, ещё секунду назад страшно гладком, как металлическое яйцо, появились живые человеческие складки, морщинки, и мой взгляд жадно и благодарно цеплялся за них, как за доказательство того, что – «нет, нет, не мог он на самом деле так меня ненавидеть! Он нормальный, живой!»
Валя Мелков, мой одногодок, хлопнул меня по плечу и сказал не без гордости:
– Ладно, на самом деле мы добрые.
– Но и страшные, – сказал, возникнув передо мной, Шурик Саввин (скажу заранее, что он тоже был года на два старше меня).
– Отстань от человека, – картинно толкнул Мелков Шурика, – он из Эстонии к нам приехал, а мы его так встретили!
Шурик тоже толкнул Мелкова, они в шутку сцепились.
Я хотел сейчас же убежать домой, закрыться в комнате и там просто порыдать о том, как я ненавижу это уродливое общество, выманившее меня из дома лишь для того, чтобы насладиться моим унижением, и саму жизнь, которая свела меня с ним. Но я почему-то не мог себе этого позволить. Я должен был остаться и понять, умер ли я в глазах этих людей окончательно после того, что случилось, или продолжаю в какой-то форме для них существовать. Вроде бы всё говорило о том, что продолжаю. Мелков, вырвавшись из Саввинских борцовских объятий-тисков, снова подошёл ко мне и тоже попробовал изобразить Горбачёва:
– Здрауствуйте, таварыщи… Как, нормально у меня получается?..
– Нормально, – сказал я.
– А поговори опять, как эстонец, – потребовал Саввин, и его глупое лицо вызвало во мне вспышку раздражения.
– Да отстаньте вы от меня!
– Чи-во? – возмутился он и скорчил шутливо-грозную мину, как бы пытаясь повторить номер Цыганкова.
Я с силой пихнул его в грудь. Он пихнул меня в ответ ещё сильнее, так что я упал.
– Ах ты сука! – вскочил я и устремился к нему, но он успел отбежать.
– Круто, ребза, новый махач! – хрипло обрадовался Макса (так называли Прохорова), сверкая золотыми зубами.
Шурик стоял в нескольких шагах от меня в боевой стойке и глядел на меня с воинственной опаской. Кажется, моё отчаяние – отчаяние только что униженного человека – не на шутку впечатлило его. Теперь я наступал, а мой оппонент потихоньку отходил. Но он, в отличие от меня, всё сделал правильно: улучил момент и выпустил мне навстречу свой не по-детски мощный кулак.
– Да на!.. – услышал я, и в глазах у меня почернело.
Я встал и увидел, как кровь обильно накрапывает у меня из носа на рукав и на песок двора, образуя там любопытные маленькие кратеры.
Тогда уже я разомкнул залипшие лёгкие огромным вдохом, заорал как младенец и убежал домой.
Мама повела меня умываться. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем затекавшая в слив вода перестала быть ржавой от крови. Я заикался от приступа плача, пытаясь что-то рассказать, но выходило только:
– Я… я к ним по-хоро… о… шему… а они ме… ня…
На пороге ванной появился отец – какой-то вспотевший и возбуждённый. Из зала, помню, доносился звук телевизора, от которого он не сразу решил отлучиться.
– Так, ну-ка давай успокаивайся. Скажи, они тебя толпой били?
– Не… ет… оди… ин…
– А-а, ну если один – тогда иди и разбирайся сам. Никто тебя здесь гладить по головке не будет.
Я посидел у себя в комнате, наблюдая за тем, как стихают мои заикания, и слушая, как беззаботно болтают во дворе забывшие обо мне ребята, – а потом действительно пошёл к ним.
– Что, нажаловался мамочке? – встретил меня Шурик вопросом.
– Никому я не жаловался, – сказал я.
– Молодчик! – спокойно одобрили сразу несколько голосов.
Так я получил в компании какое-то своё местечко. Что это было за местечко, мне теперь трудно сказать. Насколько меня уважали, ценили, считали своим? Не знаю. Ребята явно чувствовали во мне некое превосходство: в эрудиции, в широте интересов, в способности к творчеству, – но ценили меня не как носителя этих достоинств, а, скорее, как наглядный пример того, насколько они бесполезны в дворовой среде. Неплохо ведь постоянно иметь перед глазами такой пример для пущего утверждения в своих нехитрых идеалах.
Я, в свою очередь, тоже имел от общения с ними определённые моральные дивиденды. Мне приятно было ощущать, как некая главная часть меня всегда остаётся неподвластной приливам и отливам их коллективной жизни. Приятно было говорить им время от времени: «Не хочу. Не пойду с вами. Мне это не интересно. Занимайтесь этим сами».
Ну а ещё был футбол, который вдруг разом отменял всю эту сложную систему психологических притяжений и отталкиваний…
Но сейчас, ещё не окончательно отделавшись от волнения, вызванного рассказом о Цыганкове и Саввине, я думаю почему-то не о футболе, а о таком интересном человеке, как Лёша Родионов.
Он жил в моём подъезде, прямо подо мной, этот человек. И однозначно не был частью компании. Но кличку, в отличие от меня, имел. Его прозвали Бизя – и я помню, как это произошло.
До этого его называли Цой или Обезьяна. Это было связано с каким-то действительно монголоидным характером его внешности, который тем сильнее приковывал к себе внимание, что явно не был признаком реальной принадлежности к монголоидной расе. Лёшины родители были типичными советско-русскими европеоидами из инженерной среды, и Лёша был по-своему очень похож на каждого из них, но совокупность этих похожестей давала почему-то «эффект Цоя».
Если бы мой рассказ был не автобиографическим, а сугубо художественным, образ Бизи был бы в нём явно неслучаен, символизируя собой альтернативный путь, который жизнь предлагает маленькому герою, оказавшемуся в окружении цыганковых, саввиных и прохоровых: путь независимости от толпы, обретения достоинства внутри себя…
К Лёше тоже время от времени направлялись выманивающие на улицу делегации. Компания нередко маялась от скуки, ощущала внутри себя пустоту (может быть, Кафтан временно утрачивал форму, не знаю), и нуждалась в какой-то подпитке извне: в свежих лицах, в новых происшествиях. Ну или хотя бы в настоящем футбольном мяче – но этой драгоценностью никто из нас не обладал: она оказывалась в наших руках (то есть ногах) крайне редко, всегда ненадолго и даже не могу сказать откуда. Это были какие-то чудесные посещения свыше…
Но сейчас о Родионове.
Как-то раз, когда я сидел во дворе среди компании, не без интереса исследуя описанный выше феномен коллективной пустоты, очередная делегация снова вернулась от Лёши ни с чем, но при этом истерически хохоча. Нам тут же был пересказан следующий диалог:
– Лёх, ты выйдешь?
– Нет, я не выйду. И не надо ко мне больше заходить. Я занят.
– А чем это ты таким занят?
– Какая вам разница? Английским занят.
– Английским? А скажи что-нибудь по-английски.
– Айм бизи, – сказал Лёша и захлопнул дверь.
– Бизи! – засмеялся Кафтан, выслушав рассказ ходоков, и вдруг остроумно совместил: – Бизя! Обезьяна!
– Бизя! – подхватили остальные, и кличка тут же прилипла.
Бизя был ровесником Кафтана и действительно мог бы стать для меня кем-то вроде старшего наставника, примером человека, идущего своим путём вразрез толпы. Но почему-то не стал. Может, дело опять-таки в футболе, который был ему совершенно не интересен. А может, и в Бизином младшем брате – Мише Родионове.
Миша был младше меня всего на месяц. Он ничуть не уступал мне в мозговых задатках и, вероятно, мог бы стать моим близким другом, если б не одно обстоятельство – родовая черепно-мозговая травма, в результате которой какие-то ментальные каналы сформировались у него совсем не как у всех. Я неоднократно пытался наладить с ним связь, но, к сожалению, снова и снова упирался в невозможность настоящего диалога. По сути, рядом со мной находился человек, в котором было больше моего, чем в десяти Мелковых и пятнадцати Саввиных вместе взятых, но это моё было окружено каким-то непроницаемым колпаком.
Например, Миша играл сам с собой в детектива Коломбо. Бегал повсюду с увеличительным стеклом и цитировал известный в то время сериал целыми двадцатиминутными фрагментами. Я не раз пробовал пристроиться к его игре, но для меня «пристроиться» означало предлагать по ходу действия какие-то новые неожиданные вводные, ломать сюжет и быть готовым к самому непредсказуемому финалу; Миша же на такого рода инициативы не откликался совершенно. И ладно бы он мог чётко донести до меня, что предпочитает досконально воспроизводить усвоенное, а не творить новое; тогда я мог бы пристроиться по-другому: например, послушно исполнить роль какого-нибудь Гастингса (стоп, это же, кажется, из Пуаро? – ну да ладно). Это была бы уже не импровизационная, а театральная игра, что тоже по-своему интересно. Но Миша просто продолжал гнуть свою одинокую линию – не наперекор мне, а мимо меня, сквозь меня, по ту сторону меня. Не то чтобы он вовсе меня не замечал. Нет, иногда он смотрел мне прямо в глаза, улыбаясь из-за очков своими умными глазами-семечками (тоже, кстати, слегка монголоидными), и, подняв указательный палец, изрекал что-нибудь вроде:
– Да, мой друг! Именно теперь, когда след, казалось бы, навсегда утерян, мы как никогда близки к разгадке убийства! – но следом за этим тут же уносился в противоположный конец двора своим неэкономным высоко подпрыгивающим бегом, во время которого так же расточительно размахивал растопыренными пятернями и что-то сам себе наговаривал.
Иногда, из какого-то интуитивного влечения к тайне человека, я проделывал следующий эксперимент: я дожидался момента, когда Мишина «линия» захватит его как можно сильнее, и тогда вдруг обращался к нему с вопросом, который должен был резко выбросить его сознание в реальность, в «здесь и сейчас». Это всегда был вполне конкретный вопрос: «Миш, а когда у тебя день рождения?» «а какой у тебя рост?» «а как зовут твоих родителей?» – и так далее.
Это немного действовало. Миша обращал ко мне задумчивый взгляд и не сразу отвечал:
– Тридцатого декабря… А что? – и тут же повторял сказанное полушёпотом, как бы для самого себя: – Тридцатого декабря… а что…
В такие моменты мне казалось, что я сумел запустить под его стеклянный колпак некий тончайший пинцет, и я спешил зацепиться этим пинцетом за Мишу:
– А что тебе подарили на последний день рождения? Мне вот клюшку, а тебе?
– Мне?.. – переспрашивал Миша и тут же отвечал себе утвердительным эхом: – Мне...
– Да-да, какой ты получил подарок?
– Подарок… – повторял Миша за мной. – Какой ты получил подарок…
Он отводил от меня взгляд, его глаза начинали тревожно блуждать, как бы что-то ища, а потом, казалось, находили желаемое и снова согревались торжеством дедуктивной мысли. Он опять срывался с места, и до меня доносился его улетающий смеющийся крик:
– Бесполезно искать чёрную кошку в чёрной комнате, Мистер Трэвис! В особенности если её там нет! Надо искать улики в другом месте!..
Детективы были не единственным Мишиным увлечением. То есть я хочу сказать, что его интересы с возрастом менялись. Помню, в свои 15 я как-то вышел на балкон в дождливый день и обнаружил, что весь асфальт во дворе испещрён расползающимися от влаги радужными надписями: «Прекратите бомбардировки!» «Вы ответите за наших братьев!» «НАТО! Вон из Югославии!» Я к тому времени уже года три как выпивал и курил, а как расшифровывается аббревиатура НАТО не знал – да, в общем-то, и знать не хотел. Да, в общем-то, и сейчас не хочу. Но тогда, увидев эти надписи и сидящего на корточках Мишу, продолжающего расходовать мел наперекор дождю, в лице которого как бы само Небо отказывалось внимать его письменам, – тогда я словно бы услышал лёгкий стук, обращённый ко мне с той стороны колпака… Но мне уже было не так интересно откликаться на него и снова пробовать свой пинцет.
Последний раз я встретил Мишу, когда нам было года по 22. Встреча произошла возле нововозведённого белого храма невдалеке от нашей пятиэтажки. Миша обрадовался мне, как радовался, кстати, и всегда в детстве. Я тоже был рад его видеть.
Я узнал, что вот уже много лет как основным Мишиным увлечением являются не детективы и не политика, а Иисус Христос и православное богослужение.
– Батюшка даже разрешает мне читать часы перед литургией. – Как обычно, за фразой последовало эхо, только на этот раз совсем-совсем тихое, какое-то эхо прежнего эха: – Часы… перед литургией…
– Молодец, Миша. Здорово, что ты при храме. А я вот недавно женился. Ты-то как, не нашёл ещё даму своего сердца?
Мишин ответ меня удивил:
– Юр, ну ты сам понимаешь, с моими особенностями развития всё это не так-то просто. Вот, почти каждый день сюда прихожу, с батюшкой беседую, причащаюсь Святых Христовых Тайн. Может, пошлёт мне Господь разума… – и он перекрестился на храм.
И никакого эха не последовало.
Однако я ведь заговорил о Мише в связи с Бизей. В связи с тем, что Бизя почему-то не стал моим старшим наставником и примером для подражания.
Да: возможно, дело тут было отчасти в Мише, чей недуг, казалось, поставил Родионовых несколько особняком от остальных жильцов дома, где все так или иначе знали всех. Это тоже был своего рода колпак, неизвестно кем больше сооружённый – самой семьёй или окружающими. И я как-то побаивался под этот колпак напрашиваться. Вдруг сделаю или скажу что-то неправильное? Хотя на самом деле семья Родионовых была очень приятной и приветливой.
20 лет назад, покинув пятиэтажку, где прожил с восьми до шестнадцати лет, я сразу забыл о своей дворовой компании. Наверное, это произошло потому, что я выпал из неё ещё раньше. Может, я никогда и не был по-настоящему её частью. По правде сказать, мне редко бывало в ней хорошо. Что, впрочем, не помешало мне провести в её окружении сотни световых дней своего детства и отрочества. Я снова и снова приходил в это диковатое, где-то беспощадное сообщество – за пониманием, уважением, самоутверждением.
Ну и за футболом, конечно.
Я размышляю о том, как вообще создаётся дворовая компания. То есть какие факторы должны совпасть, чтобы она сформировалась? Почему какие-то дома способны произвести этот уникальный плод (как некоторые ракушки – жемчуг), а какие-то – нет?
Так, например, дом, стоявший прямо за нашим, имел, как и наш, 50 квартир, а дворовой компании там не было, хотя детей в этом доме проживало явно не меньше, чем у нас. Почему?
Вот мои соображения на этот счёт.
Решающих фактора три: возраст дома, особенности его расположения в городском пространстве и наличие лидера.
По поводу возраста. Наш дом был относительно свежей постройки. Стало быть, населявшая его публика въехала сюда приблизительно в одно и то же время и по преимуществу состояла из молодых супружеских пар с детьми в возрасте от нуля до четырёх лет (кому ещё, как не молодым семьям, осваивать новые жилплощади?). Моя семья, прибывшая сюда с некоторым опозданием из долгих офицерских странствий по Советскому Союзу, была в этом смысле редким исключением среди жильцов. Думаю, эта исключительность во многом навсегда определила мои отношения с дворовой компанией и моё положение в ней. Ведь все ребята, которые однажды окружили меня, новенького, подобно стайке голозадых аборигенов, впервые увидевших белого человека в штанах и ботинках, – все они знались ещё мелюзгой, и знались в этом самом дворе. Он был для них продолжением оставленной материнской утробы, принял первую кровь из их разбитых коленок, они знали каждый его уголок, каждый кустик – и не так уж важно, что единственным элементом детской площадки служила здесь грубая железная карусель, к моменту моего приезда уже покосившаяся и почти неподвижная. Двор – это больше чем детская площадка.
Если, конечно, повезло с местом.
Место, занимаемое нашим домом, тоже было крайне выгодным для образования дворовой компании. Как начал бы историк: «Это был тот плавильный котёл, в котором…» – и так далее. Действительно, что-то котлообразное в нашем дворе было, а главное – он был действительно наш, в том смысле что мы не делили его ни с каким другим домом, так как напротив наших окон, за характерным для 90-х забором из рельефных бетонных квадратов, простиралась заросшая дубами и тополями обширная больничная территория, в простонародье – «больничка». Поздней осенью, в период первых осторожных снегопадов, вид этой территории с четвёртого этажа неизменно навевает ассоциации с пейзажами Брейгеля, глядя на которые зритель блаженно колеблется между желанием вечно оставаться на своей наблюдательной высоте и столь же сильным желанием проникнуть внутрь картины.
Сегодня на «больничку» только один вход – «для посетителей и сотрудников учреждения». Во времена же моего детства помимо него существовало также несколько самодеятельных человеческих лазов, причём один из них располагался как раз со стороны нашего двора. Через этот лаз пролегал мой обычный школьный маршрут. Я нырял на «больничку», тут же попадая под сень высокого дуба, где приятно пахло желудями и земляной сыростью, далее шёл мимо главного больничного корпуса, затем выскакивал через центральные ворота на улицу Текстилей – и вот она, моя школа. Сегодня, когда все лазы давно заделаны и эта приятная «гипотенуза» уже не доступна для горожан, мне бы пришлось огибать «больничку» по «катетам», делая крюк.
Беда, конечно, не велика, больше ходить – даже полезно. Просто этот лаз, когда-то такой естественный и понятный, а теперь так же естественно и понятно не существующий, видится мне сегодня одним из добрых, согревающих символов эпохи моего детства. Во всём официальном, строгом, требующем, казалось бы, неукоснительного соблюдения всяких формальностей тогда ещё обнаруживались такие вот простодушные человеческие прорехи. Для себя я объединяю все их словосочетанием «человеческий зазор». Можно было бы, конечно, не оригинальничать и использовать общеизвестный термин «человеческий фактор», но «зазор» мне нравится больше. Зазор – небольшая щель, оставляемая на поверхности всего казённого и формального, чтобы туда всё же потихоньку поступал живительный человеческий кислород.
Вспоминаю такой случай из раннего детства. Мне года четыре. Я лечу с семьёй из Владивостока в Москву. Засыпаю в небе. Самолёт приземляется в каком-то крупном городе на дозаправку. Я просыпаюсь: в салоне пусто, родителей рядом нет. Как потом выяснилось, они, пользуясь паузой в перелёте, вышли подышать свежим воздухом, оставив меня, спящего, на попечение стюардессам. Но когда я проснулся, я не увидел и стюардесс. Я был совершенно один.
Я начинаю отчаянно рыдать. Ко мне подбегают стюардессы, проявляют ласку, предлагают ситро, объясняют, что ничего страшного не произошло. Я остаюсь безутешен. Тогда одна из них скрывается в носовой части самолёта и возвращается… с пилотом.
– Хочешь, покажу тебе кабину? – говорит невысокий мужчина, присаживаясь рядом со мной на корточки.
– Нет, – почему-то отвечаю я. – Я должен сторожить вещи.
Весь экипаж, переглядываясь, умилённо посмеивается.
– Ну ладно, – говорит пилот. – Раз вещи, тогда давай дождёмся родителей, а там посмотрим.
Родители вскоре возвращаются, благодарят стюардесс. Те, в свою очередь, делятся восторгами по поводу того, какой я разумный, серьёзный и милый: остался сторожить вещи.
Когда самолёт взлетает, ко мне подходит стюардесса, та, что приводила пилота:
– Ну что, пойдёшь в кабину? Теперь-то никто у мамы с папой вещи не украдёт.
Я смотрю на родителей.
– Иди, конечно! Когда ещё такое предложат! – говорит отец.
И вот я стою в кабине за спиной пилота и с замиранием детского сердца смотрю на десятки мигающих разноцветных огоньков приборной панели, над которой – бесконечный изумрудно-розово-оранжевый облачный ландшафт. Здесь так хорошо! Откуда-то непрерывно доносится тихий уютный писк, похожий на отдалённое свистение утреннего чайника. Из буроватого электрического света в салоне, навевавшего мысли о слепом продирании воздушной машины сквозь ночь, я разом попал в тихое небесное утро…
Трудно помыслить о подобном примере человеческогозазора в современной практике гражданской авиации. Кто позовёт обычного ребёнка в кабину летящего самолёта? Кто оставит его в салоне под приглядом стюардесс?
Наверняка у этого зазора была и обратная, тёмная сторона. То человеческое, которое в него проникало, могло ведь быть не только хорошим. Например, через этот зазор можно было много чего стащить и прикарманить. С другой стороны, это продолжают делать и теперь, когда зазора уже вроде бы нет…
Не знаю, что тут сказать.
Вообще-то я не хотел бы, чтоб кто-то уловил в моей интонации трухляво-пряный ностальгический душок. Сам я ничего такого не чувствую. Я, может быть, наоборот, подобно Тютчеву, заворожён и вдохновлён тем фактом, что мне – именно мне! – выпало посетить этот мир в те его роковые минуты, когда такое явление, как человеческий зазор, подобно лазу в заборе «больнички», трамвайному кольцу в нашем городе и много чему ещё, был навеки ликвидирован из жизни…
Но я продолжаю держать курс на Будённовское поле.
Третий фактор – наличие лидера.
У нас он был. Звали его Андрюха Кафтанов. Для кого-то просто Кафтан. Для меня тогдашнего – просто Андрюха. Парень года на три-четыре меня старше.
Кафтан представлял собой особую – быть может уникальную – разновидность дворового лидера. Он никого никуда за собой не вёл, никого не возвышал и не низвергал, не приближал и не отдалял, не организовывал травли, да и вообще никак не цеплялся за это своё лидерство, казалось, даже не замечая его. Он просто притягивал – и всё. С ним было смешно и как-то… как-то полноценно, что ли. С ним было хорошо. Любопытно, что я произнёс сейчас это слово, «хорошо», хотя в самом начале с уверенностью сказал обратное: что мне не было хорошо среди дворовой компании. Я начинаю себе противоречить – это тоже хорошо.
Кафтану очень подходило слово «балагур». Уверен, из него вышел бы замечательный клоун. Невыдающегося роста, сухопарый, локти всегда немного примагничены к бокам, а кисти и пальцы пребывают в непрерывной расслабленной жестикуляции. Вечные полукеды, никулинские треники с оттянутыми коленками. Походка немного чарли-чаплинская, как бы из первой балетной позиции. Силуэт лица чем-то напоминал беглые пушкинские автопортреты, где нос и рот поэта, сливаясь в нечто нераздельное, слегка лошадино устремляются вперёд покатого лба. Волосы у Кафтана были при этом не пушкинские. Они, как сказал бы Тургенев, торчали у него «острыми прямыми косицами». Эти «косицы», когда Кафтан обильно вспотевал во время упорного футбольного поединка и проводил ладонью от затылка ко лбу, начинали топорщиться, придавая ему вид одновременно воинственный и цыплячий. Это были те редкие и почему-то ценные для меня моменты, когда Кафтан смешил меня, сам не догадываясь об этом. Я невольно улыбался, глядя на него, а он ловил мой взгляд, авторитетно, с цыканьем, подмигивал, и если мы были с ним в одной проигрывающей команде, то говорил:
– Ничего, Юрок, не канѝ. (То есть «не накладывай в штаны», «не бойся»). Щас мы их сделаем.
Не помню, кстати, чтобы ещё кто-нибудь когда-нибудь обращался ко мне «Юрок».
Сам же Кафтан, когда бывал в особенно игривом настроении, почему-то называл себя Колей Курочкиным. Быть может, не зная о существовании своего клоунского альтер эго, он всё же ощущал его в себе и интуитивно подобрал ему такое имя.
Ни разу не слышал, чтобы Кафтан сказал: «А давайте делать то-то или то-то». (Кроме, конечно, тех случаев, когда дело касалось футбола). Казалось, он реализовывал своё лидерство только тем, что придавал стихийным порывам самой компании характер организованной деятельности. Опять-таки, придавал непонятно чем. Самим своим присутствием, что ли. Той заразительной и смешной болтовнёй, которой он безостановочно фонтанировал. Не знаю.
К примеру, взбредало всем в голову раздобыть где-нибудь у гаражей автомобильные покрышки и целый день катать их по двору, как жуки-скарабеи свои шарики, – Кафтан как бы нехотя присоединялся, и с ним игра развивалась по-настоящему увлекательно. Хотя, казалось бы, что увлекательного можно было из неё извлечь? Целый день катать по двору покрышки… Я, например, так ни разу в этом и не поучаствовал. Просто не понимал, в чём тут интерес. И всё же я запомнил, что виновником того коллективного восторга, которому я немного завидовал, глядя на «скарабеев» со стороны, бывал именно Кафтан. Как только игра надоедала ему, она надоедала и всем остальным, покрышки бросались во дворе и вскоре куда-то исчезали.
И так было во всём: разбивали старый аккумулятор и шли на «больничку» плавить свинец (тут я участвовал), разживались металлическими трубками и собирались поплеваться рябиной (тут нет), – всё это выходило без Кафтана как-то бесхребетно, полуживо, а то и просто задыхалось, едва зашевелившись, но стоило ему включиться – и всё менялось.
Я не могу до конца постичь волшебную природу его присутствия, но, думая о ней, почему-то сразу вспоминаю Кафтанову маму.
Это была доброжелательная женщина, сыпавшая смешными присказками, как семячной шелухой, и всегда немного навеселе. Кажется, мать-одиночка (Андрюхиного отца я не помню; допускаю, что тот сидел). Её отношения с сыном были иронически-нежными. Часто по вечерам, когда компания бездельничала на лавочках у первого подъезда, где жили Кафтановы, она выходила на балкон с семечками, иногда с бутылкой пива, заявляла о своём присутствии какой-нибудь незлобной шуточкой в адрес сына (типа: «Ну что, артист погорелого театра? снова соловьём разливаешься?») – и все потирали ладони, зная, что сейчас Коля Курочкин явит себя в полной красе. Присутствие мамы явно вдохновляло Андрюху. Он выступал перед ней, как перед любимой девчонкой. И она, как девчонка, с трудом прятала за внешней неприступностью любование своим мальчишкой. Компания же от души сгибалась от смеха, ощущая в вечернем воздухе что-то редкое и ценное, как витамин. К этому редкому подходили слова «уют», «безопасность», «защита», «тепло».
Может быть, в этом нехитром, но постоянном и прочном биении семейной гармонии и рождалась та самодостаточность Кафтана, которая так притягивала к нему и делала его нашим лидером.
Впрочем, подобные тонкие материи вряд ли имели бы значение, если б Кафтан не умел играть в футбол и не делал это так, как он делал.
Классический ленивый полуденный диалог:
– Ну чё, может, в футбольца̀?
– Да ну, без Кафтана…
Действительно: без него и тут получалось не то.
Он не ходил в футбольную секцию, но, по общему признанию, играл среди нас лучше всех. Не результативнее, не техничнее – а именно лучше. Мне хотелось быть в футболе таким, как он, а не таким, например, как звезда подростковой команды «НЗТА» (Ногинский завод топливной аппаратуры) Денис Рыжов, игравший со скучным профессионализмом среднего русского футболиста «из телевизора», или, допустим, как тот же Шурик Саввин (позднее Гуня) – не обременённый интеллектом здоровяк с маленькой светло-русой головой, вдавленной в широченные плечи, результативный за счёт своего бычьего здоровья, но не за счёт чего-то специфически футбольного. И если Рыжов обрёл это футбольное через выучку, то Кафтан нащупал это сам, как своего Колю Курочкина.
Ясно вижу сейчас, как он, со своими прижатыми к бокам локтями и порхающими тонкими пальцами, косо, с хитрецой разбегается перед штрафным ударом и забивает в нижний угол ворот «щёчкой» (внутренней стороной стопы), оставаясь верным своей первой балетной позиции. Он почти никогда не бил «на силу», предпочитая действовать «техничненько» (его любимое футбольное словцо).
Где-то в километре от нашего дома, невдалеке от старого городского кладбища, обособленной кучкой расположились несколько восьмиквартирных двухэтажек довоенной постройки. (Там даже не так давно снимали какие-то сцены для кино о событиях военного времени.) Общими силами эти домики умудрились осуществить то же, что и наш большой дом: взрастить дворовую компанию. Здесь фактор новизны построек (и без того кажущийся мне наиболее уязвимым звеном моей теории) уже не срабатывал. Зато «котёл», как видно, сработал что надо. Да и лидер сыскался.
Это была, конечно, совсем другая личность. Не помню его имени. Самый высокорослый среди своих (да и наших тоже), притом, что не особо вышел в плечах. Властный, с явным уклоном в тиранию. Компенсирующий нехватку чувства юмора правом сильного на самое обидное словесное опускание любого из своих подопечных. Такой, в общем, типичный
детина – «плохой старшеклассник» из советских фильмов о школьной жизни, в самый неожиданный момент вырастающий перед протагонистом из младшего или среднего звена и злорадно постукивающий кулаком по ладони: «Попался который кусался?..»
Откуда я знаю про эту компанию – мы пару раз в год играли с ними двор на двор. То сами ходили в прикладбищенский лес на их импровизированное поле, то играли с ними домашние матчи на пустыре, что находился прямо за нашей пятиэтажкой.
Каждый раз во время этих встреч меня поражало, насколько эти ребята не такие, как наши, и насколько они – чужие. Они казались другим племенем, другой расой, другим видом живых существ. Каким-то холодом веяло от мысли, что судьба могла забросить меня в их общество, а не в общество Кафтана со товарищи. Этот грубый детина – а рядом с ним, в чёрных обтягивающих трениках и вечной заляпанной жиром майке бледно-лимонного цвета, маленький и пухлый, но какой-то зловещий за счёт обветренного взрослого лица паренёк по кличке Макрон. (Других лиц этой компании я не помню.)
Если детина играл откровенно плохо и брал исключительно грубостью – мог травмировать игрока чужой команды и ультимативно опротестовать штрафной, а ещё любил орать: «С дороги, убью на хер!» – когда кто-нибудь вроде меня выходил против него на отбор, – то Макрон был реальным кудесником мяча в своей команде: он не «водился», играл умно, отдавал точные пасы и очень много забивал.
По правде сказать, они выигрывали чаще, – может, благодаря мастерству Макрона, а может, в силу более развитой командной дисциплины, продиктованной тоталитарным характером лидера.
Впрочем, в команде с Кафтаном было неплохо и проиграть.
– Ну вот, Андрюх, а ты говорил: «Сделаем их, сделаем»… – иной раз ворчал я на него, по-настоящему расстроенный поражением и сердитый на Кафтана за то, что его пророчествам, как выясняется, нельзя верить, ведь это, выходит, такие же пустые ненадёжные слова, как у обычных людей, не-кафтанов.
– Юрок, ну чё ты плачешь, как девочка Юлечка, – отвечал Кафтан. – На корову, что ль, играли?
Я видел, что моё разочарование в его пророческом даре трогает его не больше, чем сам проигрыш, и мне почему-то становилось легче.
Да… Кафтан…
Хороший был парень.
Впрочем, впадать в идеализацию и прекраснодушие не стоит. Добавлю щепотку трезвости. Кафтан не был посланником мира и справедливости в нашем дворе. Если кто-то из компании дрался, в том числе и кто-то явно более сильный с кем-то явно более слабым, он не разнимал, не вмешивался, а потом не утешал побеждённого. Он смотрел на проливаемые кровь и слёзы как на здоровую неизбежность в жизни своего сообщества.
В этом месте я должен выпустить на сцену повествования ещё двух героев – уже упомянутого Шурика Саввина и Дениса Цыганкова. Есть лёгкое подозрение, что я так увлёкся портретом Кафтана не только потому, что он такой хороший, но и потому, что мне подсознательно хотелось оттянуть момент встречи с этими двумя. Но встретиться с ними придётся.
Вполне возможно, что эти три события – мой первый выход во двор (где «аборигены» рассматривали «белого человека»), моё полное моральное уничтожение Денисом Цыганковым и суровый нокдаун от Шурика – имели место в разное время, но память распорядилась ими по законам классицизма, упихнув в один непродолжительный, но, как говорят современные спортивные комментаторы, «корвалольный» акт.
Итак, я вышел во двор, чтобы унять, наконец, всеобщее любопытство и показать, кто я такой. Кажется, я согласился на это после того, как компания уже раз восемь направляла ко мне делегации из двух-трёх человек, которые звонили в дверь и спрашивали кого-нибудь из родителей или бабушку: «А Юра выйдет?»
Мне, честно говоря, сразу не понравился этот навязчивый интерес, основанный только на том, что я «новенький», так, что когда взрослые заходили ко мне в комнату и передавали вопрос делегации, я реагировал отказом. Но, если не ошибаюсь, в какой-то момент отец повлиял на переговоры, сказав:
– Ну а почему бы не выйти-то? Люди хотят с тобой пообщаться. По-моему, это здоровое желание.
И я вышел.
Меня разглядывали. Задавали какие-то вопросы. В том числе, откуда я приехал. Я сказал, что из Эстонии.
– Ты чё, эстонец, что ли?
И тут что-то во мне перещёлкнуло. Как будто вылез откуда-то мой персональный Курочкин.
– Тааа, йаа эстоооунец… Страаафстфуйтэ… Тэ̀ррре ѝиииихтус... Ята̀ааайга...
Все покатились со смеху. Воодушевлённый, я не дал публике остыть, тут же заговорив голосом Горбачёва. Мне казалось, у меня блистательно получается его пародировать.
– Зыдрауствуйте, дарагхие таварищи! Дауайте ках-то урегхулируем этат уопрос…
Тут уже все просто согнулись, держась за животы. Кто-то сказал:
– Слышь, рѐбза, по ходу, у нас новый приколист в компании!
– Точняк! – согласился кто-то. – Второй Кафтан!
– А как этот можешь?..
– А как этот?..
Выяснилось, что я могу и как этот, и как тот. Для меня перестало в этот момент существовать что-либо невозможное.
Продолжая солировать, я, что называется, пошёл в зрительный зал – и тут, видимо, как-то неосторожно пошутил над Денисом Цыганковым, парнем на пару лет меня старше (ничего не поделаешь – до сих пор испытываю желание оправдаться, указав хотя бы на разницу в возрасте).
Нюансы перехода от сцены триумфа к сцене полного фиаско от меня ускользают (может быть, как раз по причине временно̀го разрыва между этими сценами). Сохранилось только ощущение шокирующего контраста. Только что все восхищались мной, радовались мне, а теперь все затаённо молчат, изредка о чём-то перешёптываясь, – и этот Денис медленно, как зомби, надвигается на меня с каменным лицом.
– Э, ты чего? – спрашиваю его, отступая на шаг.
Но он ничего не отвечает и просто продолжает угрюмо надвигаться. Рот его время от времени подёргивается, как бы искря нервным тиком, а нос дышит всё более шумно, точно готовясь вот-вот извергнуть пламя.
– Да в чём дело-то, а? Что я тебе такого сделал? – продолжаю я отступать.
Не знаю, почему я так повёлся на этот его дешёвый спектакль, но вариант решить проблему, врезав по морде («дать в грызло», как выражался отец), просто не рассматривался, притом что пару раз за свою восьмилетнюю жизнь я уже небезуспешно применял кулаки. Я оказался в плену иррационального ужаса. Мой оппонент это почувствовал, понял, что ему ничто не грозит, и восторжествовал окончательно.
– Ну ты чего хоть, а? Ну не надо, пожалуйста…
Холодные глаза, которые я, казалось, уже где-то видел, продолжали неотвратимо приближаться. В моём теле творилось что-то несусветное: из него как будто разом ушла вся кровь, колени дрожали, ступни и ладони обильно выделяли пот. Единственное решение, на которое я оказался способен, это больше не отступать, чтоб хотя бы укоротить мучительное ожидание своей страшной участи. Я остановился, выставил перед собой ладони и, едва управляя прыгающим подбородком и обмякшим языком, проговорил молитву последней надежды:
– Д… д… давай, пожалуйста, д… дружить…
Денис упёрся грудью в мои ладони, но, казалось, какой-то заводной механизм продолжает влечь его вперёд, на меня,
сквозь
меня…
Тишину нарушил сдавленный смешок Макса Прохорова, – как я потом убедился, самого страшного человека во дворе.
– Дявай длюзить… – передразнил он мою фразу на детсадовский манер своим хриплым, уже тогда прокуренным голосом.
Тут кто-то другой – может быть, всё-таки Кафтан – сказал:
– Ладно, Дэн, хорош, замонал, – и это прозвучало, как «стоп, снято» на съёмочной площадке.
Все словно проснулись: задвигались, заговорили о чём-то, не имеющем отношения к происшествию. Сам Цыганков моментально вышел из образа, отошёл от меня и заулыбался: на его лице, ещё секунду назад страшно гладком, как металлическое яйцо, появились живые человеческие складки, морщинки, и мой взгляд жадно и благодарно цеплялся за них, как за доказательство того, что – «нет, нет, не мог он на самом деле так меня ненавидеть! Он нормальный, живой!»
Валя Мелков, мой одногодок, хлопнул меня по плечу и сказал не без гордости:
– Ладно, на самом деле мы добрые.
– Но и страшные, – сказал, возникнув передо мной, Шурик Саввин (скажу заранее, что он тоже был года на два старше меня).
– Отстань от человека, – картинно толкнул Мелков Шурика, – он из Эстонии к нам приехал, а мы его так встретили!
Шурик тоже толкнул Мелкова, они в шутку сцепились.
Я хотел сейчас же убежать домой, закрыться в комнате и там просто порыдать о том, как я ненавижу это уродливое общество, выманившее меня из дома лишь для того, чтобы насладиться моим унижением, и саму жизнь, которая свела меня с ним. Но я почему-то не мог себе этого позволить. Я должен был остаться и понять, умер ли я в глазах этих людей окончательно после того, что случилось, или продолжаю в какой-то форме для них существовать. Вроде бы всё говорило о том, что продолжаю. Мелков, вырвавшись из Саввинских борцовских объятий-тисков, снова подошёл ко мне и тоже попробовал изобразить Горбачёва:
– Здрауствуйте, таварыщи… Как, нормально у меня получается?..
– Нормально, – сказал я.
– А поговори опять, как эстонец, – потребовал Саввин, и его глупое лицо вызвало во мне вспышку раздражения.
– Да отстаньте вы от меня!
– Чи-во? – возмутился он и скорчил шутливо-грозную мину, как бы пытаясь повторить номер Цыганкова.
Я с силой пихнул его в грудь. Он пихнул меня в ответ ещё сильнее, так что я упал.
– Ах ты сука! – вскочил я и устремился к нему, но он успел отбежать.
– Круто, ребза, новый махач! – хрипло обрадовался Макса (так называли Прохорова), сверкая золотыми зубами.
Шурик стоял в нескольких шагах от меня в боевой стойке и глядел на меня с воинственной опаской. Кажется, моё отчаяние – отчаяние только что униженного человека – не на шутку впечатлило его. Теперь я наступал, а мой оппонент потихоньку отходил. Но он, в отличие от меня, всё сделал правильно: улучил момент и выпустил мне навстречу свой не по-детски мощный кулак.
– Да на!.. – услышал я, и в глазах у меня почернело.
Я встал и увидел, как кровь обильно накрапывает у меня из носа на рукав и на песок двора, образуя там любопытные маленькие кратеры.
Тогда уже я разомкнул залипшие лёгкие огромным вдохом, заорал как младенец и убежал домой.
Мама повела меня умываться. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем затекавшая в слив вода перестала быть ржавой от крови. Я заикался от приступа плача, пытаясь что-то рассказать, но выходило только:
– Я… я к ним по-хоро… о… шему… а они ме… ня…
На пороге ванной появился отец – какой-то вспотевший и возбуждённый. Из зала, помню, доносился звук телевизора, от которого он не сразу решил отлучиться.
– Так, ну-ка давай успокаивайся. Скажи, они тебя толпой били?
– Не… ет… оди… ин…
– А-а, ну если один – тогда иди и разбирайся сам. Никто тебя здесь гладить по головке не будет.
Я посидел у себя в комнате, наблюдая за тем, как стихают мои заикания, и слушая, как беззаботно болтают во дворе забывшие обо мне ребята, – а потом действительно пошёл к ним.
– Что, нажаловался мамочке? – встретил меня Шурик вопросом.
– Никому я не жаловался, – сказал я.
– Молодчик! – спокойно одобрили сразу несколько голосов.
Так я получил в компании какое-то своё местечко. Что это было за местечко, мне теперь трудно сказать. Насколько меня уважали, ценили, считали своим? Не знаю. Ребята явно чувствовали во мне некое превосходство: в эрудиции, в широте интересов, в способности к творчеству, – но ценили меня не как носителя этих достоинств, а, скорее, как наглядный пример того, насколько они бесполезны в дворовой среде. Неплохо ведь постоянно иметь перед глазами такой пример для пущего утверждения в своих нехитрых идеалах.
Я, в свою очередь, тоже имел от общения с ними определённые моральные дивиденды. Мне приятно было ощущать, как некая главная часть меня всегда остаётся неподвластной приливам и отливам их коллективной жизни. Приятно было говорить им время от времени: «Не хочу. Не пойду с вами. Мне это не интересно. Занимайтесь этим сами».
Ну а ещё был футбол, который вдруг разом отменял всю эту сложную систему психологических притяжений и отталкиваний…
Но сейчас, ещё не окончательно отделавшись от волнения, вызванного рассказом о Цыганкове и Саввине, я думаю почему-то не о футболе, а о таком интересном человеке, как Лёша Родионов.
Он жил в моём подъезде, прямо подо мной, этот человек. И однозначно не был частью компании. Но кличку, в отличие от меня, имел. Его прозвали Бизя – и я помню, как это произошло.
До этого его называли Цой или Обезьяна. Это было связано с каким-то действительно монголоидным характером его внешности, который тем сильнее приковывал к себе внимание, что явно не был признаком реальной принадлежности к монголоидной расе. Лёшины родители были типичными советско-русскими европеоидами из инженерной среды, и Лёша был по-своему очень похож на каждого из них, но совокупность этих похожестей давала почему-то «эффект Цоя».
Если бы мой рассказ был не автобиографическим, а сугубо художественным, образ Бизи был бы в нём явно неслучаен, символизируя собой альтернативный путь, который жизнь предлагает маленькому герою, оказавшемуся в окружении цыганковых, саввиных и прохоровых: путь независимости от толпы, обретения достоинства внутри себя…
К Лёше тоже время от времени направлялись выманивающие на улицу делегации. Компания нередко маялась от скуки, ощущала внутри себя пустоту (может быть, Кафтан временно утрачивал форму, не знаю), и нуждалась в какой-то подпитке извне: в свежих лицах, в новых происшествиях. Ну или хотя бы в настоящем футбольном мяче – но этой драгоценностью никто из нас не обладал: она оказывалась в наших руках (то есть ногах) крайне редко, всегда ненадолго и даже не могу сказать откуда. Это были какие-то чудесные посещения свыше…
Но сейчас о Родионове.
Как-то раз, когда я сидел во дворе среди компании, не без интереса исследуя описанный выше феномен коллективной пустоты, очередная делегация снова вернулась от Лёши ни с чем, но при этом истерически хохоча. Нам тут же был пересказан следующий диалог:
– Лёх, ты выйдешь?
– Нет, я не выйду. И не надо ко мне больше заходить. Я занят.
– А чем это ты таким занят?
– Какая вам разница? Английским занят.
– Английским? А скажи что-нибудь по-английски.
– Айм бизи, – сказал Лёша и захлопнул дверь.
– Бизи! – засмеялся Кафтан, выслушав рассказ ходоков, и вдруг остроумно совместил: – Бизя! Обезьяна!
– Бизя! – подхватили остальные, и кличка тут же прилипла.
Бизя был ровесником Кафтана и действительно мог бы стать для меня кем-то вроде старшего наставника, примером человека, идущего своим путём вразрез толпы. Но почему-то не стал. Может, дело опять-таки в футболе, который был ему совершенно не интересен. А может, и в Бизином младшем брате – Мише Родионове.
Миша был младше меня всего на месяц. Он ничуть не уступал мне в мозговых задатках и, вероятно, мог бы стать моим близким другом, если б не одно обстоятельство – родовая черепно-мозговая травма, в результате которой какие-то ментальные каналы сформировались у него совсем не как у всех. Я неоднократно пытался наладить с ним связь, но, к сожалению, снова и снова упирался в невозможность настоящего диалога. По сути, рядом со мной находился человек, в котором было больше моего, чем в десяти Мелковых и пятнадцати Саввиных вместе взятых, но это моё было окружено каким-то непроницаемым колпаком.
Например, Миша играл сам с собой в детектива Коломбо. Бегал повсюду с увеличительным стеклом и цитировал известный в то время сериал целыми двадцатиминутными фрагментами. Я не раз пробовал пристроиться к его игре, но для меня «пристроиться» означало предлагать по ходу действия какие-то новые неожиданные вводные, ломать сюжет и быть готовым к самому непредсказуемому финалу; Миша же на такого рода инициативы не откликался совершенно. И ладно бы он мог чётко донести до меня, что предпочитает досконально воспроизводить усвоенное, а не творить новое; тогда я мог бы пристроиться по-другому: например, послушно исполнить роль какого-нибудь Гастингса (стоп, это же, кажется, из Пуаро? – ну да ладно). Это была бы уже не импровизационная, а театральная игра, что тоже по-своему интересно. Но Миша просто продолжал гнуть свою одинокую линию – не наперекор мне, а мимо меня, сквозь меня, по ту сторону меня. Не то чтобы он вовсе меня не замечал. Нет, иногда он смотрел мне прямо в глаза, улыбаясь из-за очков своими умными глазами-семечками (тоже, кстати, слегка монголоидными), и, подняв указательный палец, изрекал что-нибудь вроде:
– Да, мой друг! Именно теперь, когда след, казалось бы, навсегда утерян, мы как никогда близки к разгадке убийства! – но следом за этим тут же уносился в противоположный конец двора своим неэкономным высоко подпрыгивающим бегом, во время которого так же расточительно размахивал растопыренными пятернями и что-то сам себе наговаривал.
Иногда, из какого-то интуитивного влечения к тайне человека, я проделывал следующий эксперимент: я дожидался момента, когда Мишина «линия» захватит его как можно сильнее, и тогда вдруг обращался к нему с вопросом, который должен был резко выбросить его сознание в реальность, в «здесь и сейчас». Это всегда был вполне конкретный вопрос: «Миш, а когда у тебя день рождения?» «а какой у тебя рост?» «а как зовут твоих родителей?» – и так далее.
Это немного действовало. Миша обращал ко мне задумчивый взгляд и не сразу отвечал:
– Тридцатого декабря… А что? – и тут же повторял сказанное полушёпотом, как бы для самого себя: – Тридцатого декабря… а что…
В такие моменты мне казалось, что я сумел запустить под его стеклянный колпак некий тончайший пинцет, и я спешил зацепиться этим пинцетом за Мишу:
– А что тебе подарили на последний день рождения? Мне вот клюшку, а тебе?
– Мне?.. – переспрашивал Миша и тут же отвечал себе утвердительным эхом: – Мне...
– Да-да, какой ты получил подарок?
– Подарок… – повторял Миша за мной. – Какой ты получил подарок…
Он отводил от меня взгляд, его глаза начинали тревожно блуждать, как бы что-то ища, а потом, казалось, находили желаемое и снова согревались торжеством дедуктивной мысли. Он опять срывался с места, и до меня доносился его улетающий смеющийся крик:
– Бесполезно искать чёрную кошку в чёрной комнате, Мистер Трэвис! В особенности если её там нет! Надо искать улики в другом месте!..
Детективы были не единственным Мишиным увлечением. То есть я хочу сказать, что его интересы с возрастом менялись. Помню, в свои 15 я как-то вышел на балкон в дождливый день и обнаружил, что весь асфальт во дворе испещрён расползающимися от влаги радужными надписями: «Прекратите бомбардировки!» «Вы ответите за наших братьев!» «НАТО! Вон из Югославии!» Я к тому времени уже года три как выпивал и курил, а как расшифровывается аббревиатура НАТО не знал – да, в общем-то, и знать не хотел. Да, в общем-то, и сейчас не хочу. Но тогда, увидев эти надписи и сидящего на корточках Мишу, продолжающего расходовать мел наперекор дождю, в лице которого как бы само Небо отказывалось внимать его письменам, – тогда я словно бы услышал лёгкий стук, обращённый ко мне с той стороны колпака… Но мне уже было не так интересно откликаться на него и снова пробовать свой пинцет.
Последний раз я встретил Мишу, когда нам было года по 22. Встреча произошла возле нововозведённого белого храма невдалеке от нашей пятиэтажки. Миша обрадовался мне, как радовался, кстати, и всегда в детстве. Я тоже был рад его видеть.
Я узнал, что вот уже много лет как основным Мишиным увлечением являются не детективы и не политика, а Иисус Христос и православное богослужение.
– Батюшка даже разрешает мне читать часы перед литургией. – Как обычно, за фразой последовало эхо, только на этот раз совсем-совсем тихое, какое-то эхо прежнего эха: – Часы… перед литургией…
– Молодец, Миша. Здорово, что ты при храме. А я вот недавно женился. Ты-то как, не нашёл ещё даму своего сердца?
Мишин ответ меня удивил:
– Юр, ну ты сам понимаешь, с моими особенностями развития всё это не так-то просто. Вот, почти каждый день сюда прихожу, с батюшкой беседую, причащаюсь Святых Христовых Тайн. Может, пошлёт мне Господь разума… – и он перекрестился на храм.
И никакого эха не последовало.
Однако я ведь заговорил о Мише в связи с Бизей. В связи с тем, что Бизя почему-то не стал моим старшим наставником и примером для подражания.
Да: возможно, дело тут было отчасти в Мише, чей недуг, казалось, поставил Родионовых несколько особняком от остальных жильцов дома, где все так или иначе знали всех. Это тоже был своего рода колпак, неизвестно кем больше сооружённый – самой семьёй или окружающими. И я как-то побаивался под этот колпак напрашиваться. Вдруг сделаю или скажу что-то неправильное? Хотя на самом деле семья Родионовых была очень приятной и приветливой.
Впрочем, незадолго до переезда я немного сблизился с Лёшей. Он прознал через мою бабушку, что у меня своя рок-группа; сам же он, как выяснилось, писал стихи – и ему захотелось какого-то творческого сотрудничества. Пару раз он приходил ко мне домой, пару раз я к нему. Помню, от него я впервые услышал фамилию Пелевин. Лёша всё подсовывал мне его книжки, но я их не понимал и возвращал непрочитанными. В целом дружбы (как и сотворчества) не сложилось. Для этого было уже поздновато.
Всё же мне навсегда запомнились в Родионове его цельность, независимость и прямота. Если дворовые задирали его (совсем избежать встречи с ними было невозможно; ты ведь выносишь мусор, ходишь за хлебом), он не проглатывал, а останавливался и спокойно отвечал, не опускаясь до матерщины, а в ясных, риторически стройных выражениях демонстрируя стае своё внутреннее превосходство. И если ему за это бросали вызов, он подходил и дрался. В основном, конечно, проигрывал, но уходил всегда в статусе непобеждённого, не порадовав презренную публику ни единой слезинкой.
Да – в чём-то он всё-таки был моим ориентиром. Я спрашивал себя иногда: «Как мне быть таким, как Лёша? Откуда мне быть таким?»
Лёша в итоге с первого раза поступил на бесплатное отделение в какой-то хороший вуз и вообще, насколько я знаю, организовал свою жизнь как надо…
Я снова настраиваю свой дальнозоркий бинокль на Будённовское поле и вижу на пути к нему ещё какие-то фигуры и фигурки. Самая заметная из них – это Дима Максимов. Димон. По сути, мой первый друг.
У нас было достаточно общего, чтобы сблизиться: подъезд и этаж, возраст, полные не алкоголизирующие семьи и хорошие отметки в школе.
Тут я должен указать на один биографический нюанс. Я ходил в школу-восьмилетку, в которой не учился больше никто из моего двора. В результате я только сейчас говорю себе и понимаю, что и Кафтан, и Цыганков, и Саввин, и даже Прохоров тоже где-то да учились, сидели за партами, выходили, Боже мой, к доске. Тогда, в детстве, я об этом не задумывался. Эти ребята виделись мне исключительно порождениями двора, не имеющими никакой иной жизни, кроме той, за которой я их заставал.
О Димоне же я сразу знал, что он тоже учится в школе, и учится, как и я, хорошо.
Я благодарен Димону за то, что у нас с ним, так же как у Миши Родионова, был выстроен свой непроницаемый для внешнего мира колпак, под которым мы провели уйму времени. Не будь такого друга, я мог бы потратить это время на дворовую компанию, из-за чего рано или поздно сросся бы с ней, окончательно впустив её правду внутрь себя.
Друг перед другом мы не стыдились быть теми детьми, которыми на самом деле являлись. Мы были бесплатными детскими психотерапевтами друг друга. По крайней мере, Димон моим – точно. Сам-то он, может быть, в терапии не нуждался, так как был личностью более стрессоустойчивой, в хорошем смысле толстокожей. У него, кстати, и комплекция была соответствующая: крупный, полноватый, но, впрочем, не рыхлый; во время футбольных баталий поспевал везде где надо.
Мы день через день приходили друг к другу в гости, да и во дворе предпочитали держаться вместе. Помню это чувство: сделаешь уроки (много задали), выглянешь с балкона на улицу, уже подёрнутую лёгкой грустью близкого вечера, но ещё шумную, пестрящую взрослым и детским народом, – и выискиваешь глазами Димоновы сиреневые спортивные штаны с жёлтыми полосками. И если обнаруживаешь, то в ответ на знакомую цветовую комбинацию в голове моментально вспыхивает простая и надёжная лампочка радости. Вся улица осмысляется этим фиолетово-жёлтым пятном, и хочется поскорее к нему спуститься.
Говоря о Димоне, не могу не упомянуть ещё об одном своём детском сообществе. Сообществе мелких. Как-то не подумал сначала, что с ними тоже придётся посчитаться. Не подумал, наверное, потому, что мы с Димоном не особо-то и держали их за всамделишных людей. Притом, что времени среди них провели на самом деле не меньше, чем среди кафтановцев.
Кто для нас были эти пяти-шестилетки? В каком-то смысле – наши игрушки. В каком-то – почитатели, те, кто всегда ждёт, всегда радостно встречает. Как старшая дворовая компания блекла без Кафтана, так и эта мелкотравчатая стайка безыдейно, по-броуновски валандалась по двору, пока не появлялись мы.
Я рад, что при всём отсутствии пиетета и родительской нежности к этим несмышлёным существам (я их называл «одноклеточные»), мы всё же не причинили им зла, а наоборот – послужили хорошими няньками. Уверен, что они – сегодня уже мужчины и женщины за тридцать – вспоминают меня и Димона с теплом.
– Ну что, давай устроим для мелких «Форт Боярд», – предлагал Димон или я.
Это не означало: «Давай сделаем приятно маленьким детям». Ничего подобного. Это означало: «Давай развлечём себя, поржем над тем, как эта мелюзга будет пыжиться, изображая телегероев».
Фортом Боярд служила примитивная бетонная конструкция сбоку дома, обрамлявшая лестницу в подвал. Здесь удобно было проводить испытания, связанные с добычей ключей и подсказок, а также содержать пленников. Я любил изображать старца Фура, Димон не комплексовал по поводу роли толстяка Лябуля. А Паспарту бегали вокруг нас.
Иногда в самом разгаре приключений форта мимо нас проходили по своим взрослым делам ребята из дворовой компании. Это были некомфортные мгновения. Мы с Димоном оба как-то вжимались в себя, ожидая обидных насмешек. И иногда они следовали. Что-то типа:
– О, эти два опять в дочки-матери… Всем памперсы поменяли?.. А кто у вас мама, а кто папа?..
Впрочем, не особо-то глубоко проникали в нас эти издёвки. Думалось только: «Скорей бы вы уже скрылись и мы продолжили».
Другое дело – если в руках у кого-нибудь из насмешников попрыгивал футбольный мяч. Тогда образ мыслей моментально менялся. Мы бросали нашу мелюзгу, как внезапно наскучившие игрушки на полу, и шли за своим круглым божеством…
Настало, видимо, время сказать отдельные слова о футболе, раз он так часто и настойчиво к этому просится.
Сегодня футбол для меня – это чемпионаты мира и Европы по телику раз в несколько лет. Всё. Наверное, это свидетельство окончательной смерти увлечения, ведь оно вернулось ровно к тому, с чего зародилось, и, стало быть, круг замкнулся. Я ведь заболел футболом как раз во время просмотра чемпионата мира 90-го года.
Сейчас я помню об этом чемпионате только то, что наши из него вылетели, проиграв румынам и ещё кому-то, зато на прощание, в матче престижа, разнесли бедный Камерун. Но вот я пробую погрузиться в себя пятилетнего, чтобы вспомнить ещё и сам момент моего сцепления с игрой, обнаружить и рассмотреть ту искру, которая воспламенила во мне футбольный интерес…
Нет, правила игры, индивидуальное мастерство, разные там комбинационные прелести – всё это меня не могло тронуть. Пожалуй, моё сердце забилось по-особому в тот момент, когда я увидел первый гол. Когда мяч влетел в сетку. Когда сетка дёрнулась, вздыбилась, натянулась – и мяч остался в ней. Формально это свидетельствовало о «победе» сетки над мячом: он угодил в неё, она поймала его, остановила его полёт. Но по игре выходило, что быть остановленным сеткой есть главная цель и главное торжество самого мяча. На стыке этих противоречивых природ одного и того же нехитрого процесса рождалось какое-то фрейдовское таинство проникновения, которое я уловил и впитал моментально. Сила этого таинства была так велика, что в течение нескольких дальнейших лет добрая половина моих рисунков была посвящена именно ему: я изображал мяч, влетающий в сетку ворот.
Тот чемпионат подарил мне и первый опыт боления. До меня донесли, что это играют не разрозненные мужики, а две команды. Что флаг играет с флагом. Что когда гол, то один флаг радуется, а другой грустит. И что есть наш, родной флаг, вместе с которым можем радоваться и грустить мы сами. Что когда наш флаг забил, можно говорить «МЫ забили», а когда наш флаг пропустил, можно говорить «НАМ забили». Наверное, на таких незаметных слияниях и замешивается в итоге то, что называют патриотическим чувством.
Но международные чемпионаты случаются редко, а видеть гол мне отныне хотелось как можно чаще. Так я заинтересовался отечественным чемпионатом. В том, что это крайне удручающее зрелище, я отдал себе отчёт лишь годы спустя. На ту пору мне было достаточно, что в нашем первенстве тоже имеются ворота с сеткой, куда периодически влетает мяч.
Летом 91-го года, гуляя по эстонскому посёлку, где мы тогда жили, я увидел в одном из дворов кучку незнакомых ребят, играющих в футбол. На небольших самодельных воротах была… настоящая сетка! Я попросился в игру, был с лёгким недоверием принят в ряды одной из команд – и словно бы провалился в чёрную дыру. Я просто перестал существовать для себя самого. «Забить! Защитить! Бежать! Сетка! Гол! Ура! Наши молодцы!» – вот всё, что составляло мой мир во время игры.
Я опомнился только в поздних сумерках, потный, извалянный в земле и оборванный, еле держащийся на ногах – и животно счастливый.
– Классно играешь, приходи ещё, – кто-то хлопнул меня по плечу на прощанье.
Самозабвение, полное самозабвение – вот что было для меня главной притягательной силой футбола.
Интересно, кстати: почему у нас в России такой грустный футбол? Почему детская оголтелая страсть, которой одинаково покорны практически все народы, в нашей конкретной стране вырождается в нечто малокровное и принуждённое, как только становится профессией?
Мне иногда кажется, что в России в профессиональный футбол идут какие-то особые люди – совсем из другого теста, нежели те, например, что идут в хоккей. У них даже фамилии непохожие. У хоккеистов фамилии, в основном, цветистые, темпераментные, с броскими понятными корнями: Капризов, Попугаев, Коромыслов, Колобков… Разве возможен футболист Колобков? Нет, фамилии наших футболистов имеют, в основном, ускользающие этимологии, напоминая плывущие по небу облака, из которых на русские футбольные поля вечно, даже летом, накрапывает бесприютный осенний дождик. (Мне даже казалось в детстве, что стадион «Лужники» обязан своим названием никогда не засыхающим на нём лужам). Аршавин, Дзюба, Кержаков, Кокорин – разве можно требовать от этих призрачных персонажей цельности Колобкова, упрямства Капризова или Попугаевского задора?..
А всё-таки странно. Ведь когда-то и они, русские футболисты, горели игрой безоглядно и самозабвенно…
Подумал сейчас: а что если вялость отечественного футбола происходит от особых отношений русского человека с полем? В мини-футболе ведь мы одни из лучших в мире, как и в хоккее. Может, это именно поле с его широтой традиционно погружает нас в неторопливые думы на тему «зачем и куда бежать» вместо того, чтобы стимулировать к расторопности?..
Может быть.
Тринадцатое лето моей жизни было летом перемен. И не только для меня.
В обиход дворовой компании прочно вошло слово «база». Связано оно было с личностью крепкого молодого блондина, хозяина чёрной «Волги» по фамилии, кажется, Морковин. Этот Морковин проживал в нашем доме и в какой-то момент сделался старшим другом и покровителем местных подростков.
– Что это у вас за база? – спрашивал я ребят.
– Пойдём с нами – всё узнаешь, – загадочно отвечали мне.
В этом слышалось: «Зачем «базе» и быть, если она не будет тайной тех, кто туда приходит?»
Насколько я смог понять, «база» представляла собой полуразрушенное здание на безлюдном в то время берегу Черноголовского пруда. Морковин устроил там что-то вроде школы мужества и выживания. Сделал он это с равнодушного согласия 90-х, поверх всяких прав на недвижимость и педагогических сертификаций. Что имел с этого он сам, я не знаю. Может, хотел воспитать из дворовой молодёжи крепкую ОПГ. Может, горел благородным желанием направить разрушительную подростковую дурь в привильное русло. История об этом умалчивает, а перемены в поведении ребят были крайне противоречивы и могли свидетельствовать как в пользу первого, так и в пользу второго предположения.
С одной стороны, все они явно возмужали. Их дружба обрела суровый характер бойцовского братства. Трудно уже было представить этих людей катающими по двору покрышки. Все их разговоры были теперь о «базе»: о каких-то марш-бросках, о метании сапёрных лопаток и приёмах самозащиты. Они не без гордости сверкали фингалами, полученными друг от друга на внутрибазовых состязаниях по рукопашному бою.
С другой стороны, то, что я назвал разрушительной подростковой дурью, с появлением «базы» не то что не исчезло, а, напротив, с особой уверенностью вошло в обиход.
Помню, во время очередной игры в «Форт Боярд» подвальная дверь внезапно застучала и задёргалась. Мелюзга с писком разбежалась, а мы с Димоном остались. За дверью послышался знакомый смех. Наконец, высунулась голова Мелкова с необычайно красными глазами.
– О!.. пацаны-ы! – поприветствовал он нас с каким-то не вполне понятным удивлением – будто рассчитывал вылезти на свет в каком-то совсем другом месте. – Пойдём к нам, у нас там штаб!
Мы переглянулись и почему-то пошли.
Где-то под вторым подъездом сидели все наши. Я тоже уселся на какой-то ящик. Димон садиться не стал. Он напряжённо стоял за моим плечом, держа в руках теннисный мячик и песочные часы – реквизит нашей детской игры.
Лучше всего я запомнил Шурика, который медленно затягивался сигаретой и смотрел на меня в упор с самодовольно-развратной улыбкой, такой странно женственной на фоне его привычного грубоватого образа. На заднем плане Кафтан и Макса, шурша пакетами, раздышивались «моментом».
Я чувствовал: прямо сейчас, прямо в эти секунды свершается страшное, растленное. Всё то необъяснимое, чего я боялся с младенчества, глядя перед сном в роящуюся темноту комнаты, было сейчас передо мной, в этом подвале. Я чувствовал, что я в этом – и что оно необратимо разрушает меня.
– Ну и нафига ты это делаешь? – спросил я Шурика не своим голосом. Мне показалось, что это голос дневного света, который слабо сочится во тьму подвала из вентиляционного окошка.
Вместо ответа Шурик с той же бабской ухмылочкой пустил дым прямо мне в лицо. В уголках его глаз скопились, как остатки дешёвого макияжа, чёрные катышки подвальной копоти – и мне, помню, было как-то особенно неловко от этих катышков.
Мы с Димоном в одно мгновение почувствовали, что надо как можно скорее уходить.
– Куд-да!.. – ухватил нас за руки Прохоров.
Страх заслонил от меня дальнейшие подробности. Кажется, нам позволялось уйти не иначе как ценой сигаретной затяжки. Не помню, пришлось ли нам тогда затянуться или кто-то из ребят всё же убедил Максу от нас отстать.
Макса… Как я уже сказал, для меня это был самый страшный человек во дворе. Низкорослый, коротконогий, золотозубый, в блатной шерстяной кепке, с самого начала куривший на виду у всех, он тоже не был полноценной частью компании и «базу» никакую не посещал. Его основная жизнь протекала в каких-то других, удалённых от нашего двора кругах, – таких же, видимо, страшных, как он сам, если не ещё страшнее. Несомненно, за его душой уже чернели какие-то жуткие дела. Но компания никогда не бойкотировала его – не столько даже из страха, сколько из уважения. На Максу глядели снизу вверх как на существо более высокого порядка по шкале взрослости – главной тогдашней шкале.
Однажды, когда я сидел на лавочке, Макса подсел ко мне, схватил за руку и, достав из кармана складной ножик, приблизил сверкающее лезвие к моему пальцу:
– Сейчас отрежу тебе палец! – говорил он, с каким-то нежным наслаждением заглядывая мне в глаза.
Он отпустил, только когда я заплакал.
– Макса, ты больной, – справедливо заметил Кафтан, покрутив пальцем у виска.
– Да чё он, правда, что ль, думал, что я резать буду? – сверкал коронками Прохоров.
А в футбол он, кстати, играл хорошо. И чеканить мяч своими кривыми ногами («под хер заточенными», как было принято у нас говорить) мог до бесконечности…
Хорошо помню свой глубокий радостный вздох по выходе из подвала. Снова наш миленький уютный «форт» – зови мелюзгу и играй: ключи, подсказки, смех… Но что-то уже не так в привычном и ласковом свете дня. Как будто к его частицам навеки подмешались молекулы подвальной черноты. Как будто уже нельзя дышать этим светом доверчиво и свободно, без чувства вины и падения.
Вскоре я попробовал сигарету добровольно. Покурить мне предложил Толик – малозаметный парень из нашего дома, имевший такую же половинчатую причастность к дворовой компании, как и я. Характерной особенностью Толика был какой-то сложноорганизованный нервный тик – не просто мигание, а широкое расставление ног, хватание рукой за пах и вытягивание всего тела в струнку с гримасой предсмертного страдания.
Димон, кажется, был тогда с родителями на даче. Кафтан и команда торчали на «базе», куда ушли ещё вчера (Морковин недавно обошёл квартиры своих подопечных и выбил у их родителей разрешение на периодические ночёвки). Во дворе был безлюдный полуденный час – время скуки и пустоты. То самое время, когда дремлющий подростковый разум полностью отключает критику и наиболее уязвим для всяких деструктивных глупостей.
В этот коварный час мы с Толиком набрели друг на друга, он проделал свой долгий болезненный конгломерат спазмов и вытягиваний и сообщил, что у него есть пачка сигарет и спички. Я пошёл за ним на «больничку», заслонённую от мира брейгелевским сплетением ветвей.
Помню состояние полусна, анестезии, в котором впервые наполнил лёгкие дымом. Этот дым имел волнующий вкус – не такой, как сегодня. Вкус чёрной тайны, чёрного завета, который магическим образом отъединял тебя от мира семьи и соединял с миром улицы.
Начался восьмой класс. В этом классе я перешёл в новую школу, десятилетку.
Там тоже не было никого из двора, и я начал с нуля. «Чёрная тайна», с которой я соединился во дворе, быстро соединила меня с новым сообществом, где также было немало посвящённых. Я стал проводить бо̀льшую часть времени с ним – в далёких от дома дворах.
Курево быстро подтащило в мою жизнь алкоголь: сначала крепкое пиво и винцо, потом и водку. Впрочем, иногда по-прежнему случались короткие вспышки детства, и мы с Димоном, сквозь кожу которого тлетворные веяния так и не просочились, вновь созывали мелюзгу на «Форт Боярд».
Время с 12 до 16 лет… Я до сих пор смотрю на людей, проживающих это время, с глубоким состраданием. Тебя фактически нет. Ты всего лишь место – пустой пятачок, на котором ведут свою бешеную игру различные неподконтрольные тебе силы. Ты испытываешь острые переживания и даже боль, наблюдая за этой игрой, но не в состоянии взять её в свои руки.
Почему-то на роль иллюстрации моего тогдашнего состояния просится именно следующий случай.
Меня чем-то раздражала одна, в сущности, безобидная учительница. И однажды на уроке я старательно, со всем имеющимся во мне талантом рисовальщика, нарисовал на тетрадном листе её похороны. Нарисовал и подписал: «Похороны такой-то». Неделю или две спустя, придя домой с прогулки, я узнал от родителей, что бабушка ещё с утра слегла и помирает с давлением из-за какого-то рисунка, который нашла у меня на столе. Я быстро совместил в голове факты и понял: по грустному совпадению, учительницу, которую я нарисовал в гробу, звали так же, как бабушку. И бабушка подумала на себя.
Я поспешно зашёл в её комнату и сказал:
– Бабуля, ты чего? Это ведь я не тебя нарисовал, а свою учительницу. Просто её так же зовут. А тебя я очень люблю…
Бабушка охнула, встала, перекрестилась, подошла ко мне и как никогда крепко меня обняла, уткнувшись головой мне в рёбра. А я, помню, смотрел за окно её маленькой темноватой комнаты, едва-едва прозревая своим прыщавым сознанием в общую тоску бытия, которая сквозила в этом несчастном старушкином торжестве: «Внук пожелал смерти не мне, а учительнице; хороший, добрый внук…»
Годы спустя, узнав, что ту учительницу забрал рак, я – уже более-менее взрослый – пролил слёзы о ней и о подростковом времени своей жизни, местами страшном, как детдом, и безжалостном, как военное время.
Вообще, я запомнил это время как время несовершеннолетних.
Я имею в виду, что куда бы я ни шёл, я встречал на своём пути только их – таких же, как я, детей и подростков. Это было похоже на какую-то дурацкую кинопритчу о мире, в котором разом вымерли все взрослые. Я, по крайней мере, запомнил их только по автобусам, магазинам, школам и другим закрытым присутственным местам. Если тебя обували или били по лицу где-нибудь на свежем воздухе (а только там это, в общем-то, и происходило), глупо было надеяться, что откуда-нибудь появится спасительный взрослый. Нет, не появится. Он либо сидит дома за теликом, либо гнётся на неизвестных трудовых фронтах 90-х, судорожно добывая хлеб для таких, как ты. В лучшем случае, донесётся издали неразборчивый лай одной из приросших к лавочке старушенций, поднимется в воздух её беспомощная клюшка – вот, дескать, я вам! – но никто и ухом не поведёт в её сторону. Ничто не помешает свершиться безжалостной подростковой правде.
С другой стороны, это действительно было время правды. Ты был обиталищем всего ужасного, да, – но, как бы ни скалился по сторонам, не мог утаить и того света, который тебя пронзал и наполнял.
Моим главным светом того времени была музыка. Как когда-то я сделал гербом своего персонального государства влетающий в сетку мяч, так теперь гимном этого государства стал звук акустической гитары. В моей голове непрерывно звучали «Битлз» – музыка подраненных домашних мальчиков. Эта нежная четвёрка – для тех, кто изначально недополучил уверенности в добрых намерениях этого мира. Вся их «любовь, любовь, любовь», – во всяком случае, года до 65-го – это фантазийное, почти внутриутробное детское представление о ещё не испытанных чувствах. И мои первые собственные песни были ученическими пародиями на это представление: там была картонная «она», от равнодушия которой («she is treating me bad») столь же картонный «я» испытывал свои картонные страдания.
Всё же это наивно-вторичное творчество собрало вокруг меня несколько заинтересованных душ – и у нас родилась группа. Нас, конечно, связывало не только прекрасное, но и «чёрный завет», воспринятый каждым из нас в своём личном подвале. Сигареты, выпивка, позже травка, презрение к школе, порнографический юмор, мат где надо и не надо – всё это было. Но музыка была важнее, потому что перечисленное было у всех или почти у всех, а музыка – наша музыка – только у нас. Она была чудом, печатью избранности, благословением свыше.
Под знаком этого чуда проходила моя жизнь в окружении новой компании – второй, которую я знал после двора. Туда входили люди, объединённые как минимум желанием пойти в десятый класс и нежеланием идти в армию.
Но и футболом тоже…
К тому времени я был уже счастливым обладателем своего личного футбольного мяча. С этой драгоценностью под мышкой я каждые выходные отправлялся на стадион НЗТА, где мы играли до позднего вечера, умеренно балуясь пивом и сигаретами.
И вот как-то раз меня, идущего через двор в сторону стадиона, остановил окрик Кафтана:
– Здорово, Юрок! Ты куда?
Я сделал вид, что не слышу.
– Юрок, дай мячишко-то пощупать!
Я слегка замедлил шаг и сказал:
– Я тороплюсь, Андрюх.
– Да я тебе его через минуту отдам, бля буду! Ну чё ты как сиська потного индейца!..
Я нехотя развернулся и подошёл к компании. Внешний вид некоторых её членов сильно изменился. Саввин и Мелков, обритые налысо, были в чёрных куртках «бомберах» с оранжевыми изнанками, в чёрных высоко подвёрнутых джинсах и огромных кирзовых берцах. На ляжке у каждого болтался аксельбант из металлической цепочки. Они передавали друг другу сигарету, делая поочерёдно по несколько тяг и поругивая друг друга:
– Слышь, ты там не припух? Давай оставляй!
– Да ладно тебе, в фильтре восемь тяг…
Шурик – на тот момент уже Гуня – усиленно плевался на песок через пустоту недавно утраченного переднего зуба. Похоже, «база» помогла этим двоим твёрдо определиться с субкультурой. Оба явно наслаждались законченностью своих образов, но я сразу отметил в их скиновском прикиде что-то встопорщенно-жалкое, словно он был взят на вырост. На фоне этого прикида, а также ввиду отсутствия волос, особенно бросались в глаза юношеские, ещё недоокрепшие черепа.
– Ну чё, Юрок, – начеканивал Кафтан мой мяч, – давай в футбольца-то, а?
– Не могу, меня уже ждут на НЗТА.
– У тебя там чё – своя команда, да?
– Ну типа того.
– Ну и чё – хорошо играют?
– Ну так, более-менее.
– Ну давай завтра команда на команду.
– Да ну на фиг.
– А чё нет? – он всё ещё не смотрел на меня, занимаясь мячом. Чеканил коленками, головой, отрабатывал с разной степенью успешности какие-то финты. – Ссыте, что ль?
– Да нет.
– Ты посмотри на этих дистрофиков, – кивнул он в сторону компании. – Они не играли уже тыщу лет, вы нас порвёте как котят.
– Да не в этом дело.
– А чё такое?
– Просто не охота.
– Да чё ты «не охота», Юрок? – он, наконец, устал от возни с мячом и, поставив на него свой вечный полукед, красиво упёр ладонь в полусогнутое колено. – Короче, забиваем: завтра в двенадцать приходи со своими «марадоннами» (он настоял на двойном «н») на Будённовское поле (здесь ему хватало одинарного). Сыграем по-взрослому: два по сорок пять – на больших воротах. Если мы выиграем… – в его глазах забрезжил Коля Курочкин, – …мяч наш.
– Ага, фигушки! – устремился я к своей драгоценности, но Кафтан успел нагнуться за ней раньше. Он сунул мяч себе под мышку и, невозмутимо насвистывая, куда-то с ним устремился походкой спортивного ходока.
Все засмеялись. Кроме, разумеется, меня. С лицом, полным усталости и раздражения, я последовал за Кафтаном, стараясь не переходить на унизительный бег. Кафтан же умело увиливал от меня, с каждым поворотом ускоряясь и принимая новый образ: то это был какой-то утрированный согбенный урка, выбрасывающий при ходьбе ноги в стороны, то вытянутый в струнку аристократ, то ещё кто-нибудь. Каждый новый образ вызывал новую вспышку смеха. Говорю же, это был прирождённый клоун.
Наконец я остановился и, уставив руки в бока, тяжело вздохнул.
– Ладно, ладно, не плачь, пошутить нельзя, – подошёл ко мне Кафтан и протянул было мяч, но тут же легонько отдёрнул руку. – Придёте завтра?
– Как я тебе за других обещать буду? – ответил я сердито. – Спросить могу, а захотят они или нет, это уже не от меня зависит.
– Но ты зуб даёшь, что спросишь?
– Даю, – сказал я и, не проделав ритуального щелчка ногтем по переднему зубу, просто выдернул у Кафтана мяч и зашагал прочь.
– Если не придёте, будем считать, что зассали! – крикнул он вслед.
Я не хотел этого матча и рассказал своей новой команде о брошенном вызове только под вечер и вскользь, единственно для того, чтобы быть честным перед Кафтаном. Но почему-то вызов был принят с повышенным энтузиазмом.
«А что, интересно же!» «Проверим свои силы!» «Хоть что-то новое, а то закисли уже сами с собой играть!» – такие были аргументы.
– Посмотрим, что у тебя там за фраерки во дворе, – сказал здоровяк-двоечник Лёха Косяков по кличке Косяк, член электростальской молодёжной команды по хоккею на траве, единственный, кому из нас суждено было отслужить в армии…
Ну и вот он, собственно, – матч на окружённом высокими соснами Будённовском поле, мимо которого в тот год ещё вовсю громыхали трамваи.
Теперь, когда повествование подошло к этому полю вплотную, я не могу понять, почему так стремился к нему. Мне хочется вспомнить что-то особенное – но ничего не вспоминается. Что тут рассказывать? Они просто разгромили нас, порвали как котят, уделали в одну калитку – то ли 5, то ли 6:0.
Помню, после каждого забитого мяча, отправляясь деловитой трусцой на свою половину поля, Кафтан не упускал случая меня поддеть:
– Кого ты привёл, Юрок?.. Что у тебя за друзья?.. Где ты набрал этих девочек?..
Конечно, им помогли победить люди из соседнего дома – Денис Рыжов с его неинтересным, но безотказно работающим мастерством и голкипер Трёша, который летал за мячом не хуже настоящих вратарей из телика. Но я думаю, что Кафтан и команда справились бы и своими силами. Они были дружней, самоуверенней, страшней. Они были дворовой компанией…
Не помню, кстати, играл ли в том матче Димон, и если да, то за кого. Время нашей детской дружбы прошло. Наши пути без всяких драм, сами собой поворачивались в разные стороны.
Когда прозвучал долгожданный финальный свисток – вернее, всё тот же Кафтан сделал в небо губами тонкое смешное «тпррррр», как он умел, – и победители, смерив нас презрительными улыбками, спокойно направились в сторону родного двора, Андрюха опять улучил секунду, чтобы сказать мне кое-что с глазу на глаз.
– Вот так вот, Юрок. Учись, пока я жив. Спокойненько, техничненько, бац-бац – и в дамки. Не тех людей ты выбираешь, Юрок. Подумай об этом.
Он постучал себе пальцем по виску, затем легонько похлопал меня по плечу и с достоинством посеменил за своими. Я же, разумеется, остался в опечаленном стане проигравших…
Нет, кажется, я всё-таки понял, почему так стремился в своём рассказе к этому матчу.
У меня изначально сидел в голове такой мотив: дворовые в последний раз являют силу, вчистую выигрывая матч, то есть «сражение», и удаляются «проигрывать войну», то есть жизнь: в подвалы, в шараги, в ужас армейской дедовщины, в горячие точки, в преступные группировки, алкоголизм и прочее неблагополучие; мы же, хиловатое полудомашнее племя, «проигрываем сражение, но выигрываем войну»: поступаем в институты, получаем приличные профессии, заводим нормальные семьи и всё в таком духе…
Сейчас я вижу, насколько этот мотив спорен.
Во-первых, я толком не знаю, как у кого из дворовых дальше пошла жизнь. Ну да: лет пять спустя Кафтан, балансируя на льду в своей балетной позиции, культурно стрелял у меня на догонку. На нём была советская шапочка-петушок, устарелая даже для того времени… Зато о Цыганкове я слышал, что он пошёл по милицейской линии. Хорошо представляю его на допросе:
– Д… д… давайте дружить, т… т… товарищ старший лейтенант…
Ну а во-вторых – разве так всё безоблачно с теми, кто якобы «выиграл войну»? Одиночество, кавардак в семейной жизни, алкоголизм, наркомания, депрессия, горе от ума… И я здесь не исключение: много чего было и есть.
И всё же матч на Будённовском поле по-прежнему видится мне чем-то важным и узловым.
На нём встретились и схлестнулись два мира, через которые прошла моя жизнь: мир дворовый, так нетонко навязанный мне судьбой, – и мир школьный, который я хотя бы отчасти выбрал сам. И точкой их соприкосновения стала, как ни странно, моя персона. Да, именно! Я чувствовал себя на том поле не только игроком, но и зрителем, и судьёй, и даже кубком. Всем немногочисленным годам моей жизни был подведён здесь некий загадочный итог.
И вот – как судья и кубок в одном лице – сегодняшний я никому не присуждаю победы и никому не достаюсь. С радостью и интересом к дальнейшей жизни я остаюсь при себе, но всем вам, ребята (и даже тебе, жуткий Прохоров!), говорю спасибо за честное участие в таинстве моей жизни и за тот футбол – футбол девяносто какого-то.
Всё же мне навсегда запомнились в Родионове его цельность, независимость и прямота. Если дворовые задирали его (совсем избежать встречи с ними было невозможно; ты ведь выносишь мусор, ходишь за хлебом), он не проглатывал, а останавливался и спокойно отвечал, не опускаясь до матерщины, а в ясных, риторически стройных выражениях демонстрируя стае своё внутреннее превосходство. И если ему за это бросали вызов, он подходил и дрался. В основном, конечно, проигрывал, но уходил всегда в статусе непобеждённого, не порадовав презренную публику ни единой слезинкой.
Да – в чём-то он всё-таки был моим ориентиром. Я спрашивал себя иногда: «Как мне быть таким, как Лёша? Откуда мне быть таким?»
Лёша в итоге с первого раза поступил на бесплатное отделение в какой-то хороший вуз и вообще, насколько я знаю, организовал свою жизнь как надо…
Я снова настраиваю свой дальнозоркий бинокль на Будённовское поле и вижу на пути к нему ещё какие-то фигуры и фигурки. Самая заметная из них – это Дима Максимов. Димон. По сути, мой первый друг.
У нас было достаточно общего, чтобы сблизиться: подъезд и этаж, возраст, полные не алкоголизирующие семьи и хорошие отметки в школе.
Тут я должен указать на один биографический нюанс. Я ходил в школу-восьмилетку, в которой не учился больше никто из моего двора. В результате я только сейчас говорю себе и понимаю, что и Кафтан, и Цыганков, и Саввин, и даже Прохоров тоже где-то да учились, сидели за партами, выходили, Боже мой, к доске. Тогда, в детстве, я об этом не задумывался. Эти ребята виделись мне исключительно порождениями двора, не имеющими никакой иной жизни, кроме той, за которой я их заставал.
О Димоне же я сразу знал, что он тоже учится в школе, и учится, как и я, хорошо.
Я благодарен Димону за то, что у нас с ним, так же как у Миши Родионова, был выстроен свой непроницаемый для внешнего мира колпак, под которым мы провели уйму времени. Не будь такого друга, я мог бы потратить это время на дворовую компанию, из-за чего рано или поздно сросся бы с ней, окончательно впустив её правду внутрь себя.
Друг перед другом мы не стыдились быть теми детьми, которыми на самом деле являлись. Мы были бесплатными детскими психотерапевтами друг друга. По крайней мере, Димон моим – точно. Сам-то он, может быть, в терапии не нуждался, так как был личностью более стрессоустойчивой, в хорошем смысле толстокожей. У него, кстати, и комплекция была соответствующая: крупный, полноватый, но, впрочем, не рыхлый; во время футбольных баталий поспевал везде где надо.
Мы день через день приходили друг к другу в гости, да и во дворе предпочитали держаться вместе. Помню это чувство: сделаешь уроки (много задали), выглянешь с балкона на улицу, уже подёрнутую лёгкой грустью близкого вечера, но ещё шумную, пестрящую взрослым и детским народом, – и выискиваешь глазами Димоновы сиреневые спортивные штаны с жёлтыми полосками. И если обнаруживаешь, то в ответ на знакомую цветовую комбинацию в голове моментально вспыхивает простая и надёжная лампочка радости. Вся улица осмысляется этим фиолетово-жёлтым пятном, и хочется поскорее к нему спуститься.
Говоря о Димоне, не могу не упомянуть ещё об одном своём детском сообществе. Сообществе мелких. Как-то не подумал сначала, что с ними тоже придётся посчитаться. Не подумал, наверное, потому, что мы с Димоном не особо-то и держали их за всамделишных людей. Притом, что времени среди них провели на самом деле не меньше, чем среди кафтановцев.
Кто для нас были эти пяти-шестилетки? В каком-то смысле – наши игрушки. В каком-то – почитатели, те, кто всегда ждёт, всегда радостно встречает. Как старшая дворовая компания блекла без Кафтана, так и эта мелкотравчатая стайка безыдейно, по-броуновски валандалась по двору, пока не появлялись мы.
Я рад, что при всём отсутствии пиетета и родительской нежности к этим несмышлёным существам (я их называл «одноклеточные»), мы всё же не причинили им зла, а наоборот – послужили хорошими няньками. Уверен, что они – сегодня уже мужчины и женщины за тридцать – вспоминают меня и Димона с теплом.
– Ну что, давай устроим для мелких «Форт Боярд», – предлагал Димон или я.
Это не означало: «Давай сделаем приятно маленьким детям». Ничего подобного. Это означало: «Давай развлечём себя, поржем над тем, как эта мелюзга будет пыжиться, изображая телегероев».
Фортом Боярд служила примитивная бетонная конструкция сбоку дома, обрамлявшая лестницу в подвал. Здесь удобно было проводить испытания, связанные с добычей ключей и подсказок, а также содержать пленников. Я любил изображать старца Фура, Димон не комплексовал по поводу роли толстяка Лябуля. А Паспарту бегали вокруг нас.
Иногда в самом разгаре приключений форта мимо нас проходили по своим взрослым делам ребята из дворовой компании. Это были некомфортные мгновения. Мы с Димоном оба как-то вжимались в себя, ожидая обидных насмешек. И иногда они следовали. Что-то типа:
– О, эти два опять в дочки-матери… Всем памперсы поменяли?.. А кто у вас мама, а кто папа?..
Впрочем, не особо-то глубоко проникали в нас эти издёвки. Думалось только: «Скорей бы вы уже скрылись и мы продолжили».
Другое дело – если в руках у кого-нибудь из насмешников попрыгивал футбольный мяч. Тогда образ мыслей моментально менялся. Мы бросали нашу мелюзгу, как внезапно наскучившие игрушки на полу, и шли за своим круглым божеством…
Настало, видимо, время сказать отдельные слова о футболе, раз он так часто и настойчиво к этому просится.
Сегодня футбол для меня – это чемпионаты мира и Европы по телику раз в несколько лет. Всё. Наверное, это свидетельство окончательной смерти увлечения, ведь оно вернулось ровно к тому, с чего зародилось, и, стало быть, круг замкнулся. Я ведь заболел футболом как раз во время просмотра чемпионата мира 90-го года.
Сейчас я помню об этом чемпионате только то, что наши из него вылетели, проиграв румынам и ещё кому-то, зато на прощание, в матче престижа, разнесли бедный Камерун. Но вот я пробую погрузиться в себя пятилетнего, чтобы вспомнить ещё и сам момент моего сцепления с игрой, обнаружить и рассмотреть ту искру, которая воспламенила во мне футбольный интерес…
Нет, правила игры, индивидуальное мастерство, разные там комбинационные прелести – всё это меня не могло тронуть. Пожалуй, моё сердце забилось по-особому в тот момент, когда я увидел первый гол. Когда мяч влетел в сетку. Когда сетка дёрнулась, вздыбилась, натянулась – и мяч остался в ней. Формально это свидетельствовало о «победе» сетки над мячом: он угодил в неё, она поймала его, остановила его полёт. Но по игре выходило, что быть остановленным сеткой есть главная цель и главное торжество самого мяча. На стыке этих противоречивых природ одного и того же нехитрого процесса рождалось какое-то фрейдовское таинство проникновения, которое я уловил и впитал моментально. Сила этого таинства была так велика, что в течение нескольких дальнейших лет добрая половина моих рисунков была посвящена именно ему: я изображал мяч, влетающий в сетку ворот.
Тот чемпионат подарил мне и первый опыт боления. До меня донесли, что это играют не разрозненные мужики, а две команды. Что флаг играет с флагом. Что когда гол, то один флаг радуется, а другой грустит. И что есть наш, родной флаг, вместе с которым можем радоваться и грустить мы сами. Что когда наш флаг забил, можно говорить «МЫ забили», а когда наш флаг пропустил, можно говорить «НАМ забили». Наверное, на таких незаметных слияниях и замешивается в итоге то, что называют патриотическим чувством.
Но международные чемпионаты случаются редко, а видеть гол мне отныне хотелось как можно чаще. Так я заинтересовался отечественным чемпионатом. В том, что это крайне удручающее зрелище, я отдал себе отчёт лишь годы спустя. На ту пору мне было достаточно, что в нашем первенстве тоже имеются ворота с сеткой, куда периодически влетает мяч.
Летом 91-го года, гуляя по эстонскому посёлку, где мы тогда жили, я увидел в одном из дворов кучку незнакомых ребят, играющих в футбол. На небольших самодельных воротах была… настоящая сетка! Я попросился в игру, был с лёгким недоверием принят в ряды одной из команд – и словно бы провалился в чёрную дыру. Я просто перестал существовать для себя самого. «Забить! Защитить! Бежать! Сетка! Гол! Ура! Наши молодцы!» – вот всё, что составляло мой мир во время игры.
Я опомнился только в поздних сумерках, потный, извалянный в земле и оборванный, еле держащийся на ногах – и животно счастливый.
– Классно играешь, приходи ещё, – кто-то хлопнул меня по плечу на прощанье.
Самозабвение, полное самозабвение – вот что было для меня главной притягательной силой футбола.
Интересно, кстати: почему у нас в России такой грустный футбол? Почему детская оголтелая страсть, которой одинаково покорны практически все народы, в нашей конкретной стране вырождается в нечто малокровное и принуждённое, как только становится профессией?
Мне иногда кажется, что в России в профессиональный футбол идут какие-то особые люди – совсем из другого теста, нежели те, например, что идут в хоккей. У них даже фамилии непохожие. У хоккеистов фамилии, в основном, цветистые, темпераментные, с броскими понятными корнями: Капризов, Попугаев, Коромыслов, Колобков… Разве возможен футболист Колобков? Нет, фамилии наших футболистов имеют, в основном, ускользающие этимологии, напоминая плывущие по небу облака, из которых на русские футбольные поля вечно, даже летом, накрапывает бесприютный осенний дождик. (Мне даже казалось в детстве, что стадион «Лужники» обязан своим названием никогда не засыхающим на нём лужам). Аршавин, Дзюба, Кержаков, Кокорин – разве можно требовать от этих призрачных персонажей цельности Колобкова, упрямства Капризова или Попугаевского задора?..
А всё-таки странно. Ведь когда-то и они, русские футболисты, горели игрой безоглядно и самозабвенно…
Подумал сейчас: а что если вялость отечественного футбола происходит от особых отношений русского человека с полем? В мини-футболе ведь мы одни из лучших в мире, как и в хоккее. Может, это именно поле с его широтой традиционно погружает нас в неторопливые думы на тему «зачем и куда бежать» вместо того, чтобы стимулировать к расторопности?..
Может быть.
Тринадцатое лето моей жизни было летом перемен. И не только для меня.
В обиход дворовой компании прочно вошло слово «база». Связано оно было с личностью крепкого молодого блондина, хозяина чёрной «Волги» по фамилии, кажется, Морковин. Этот Морковин проживал в нашем доме и в какой-то момент сделался старшим другом и покровителем местных подростков.
– Что это у вас за база? – спрашивал я ребят.
– Пойдём с нами – всё узнаешь, – загадочно отвечали мне.
В этом слышалось: «Зачем «базе» и быть, если она не будет тайной тех, кто туда приходит?»
Насколько я смог понять, «база» представляла собой полуразрушенное здание на безлюдном в то время берегу Черноголовского пруда. Морковин устроил там что-то вроде школы мужества и выживания. Сделал он это с равнодушного согласия 90-х, поверх всяких прав на недвижимость и педагогических сертификаций. Что имел с этого он сам, я не знаю. Может, хотел воспитать из дворовой молодёжи крепкую ОПГ. Может, горел благородным желанием направить разрушительную подростковую дурь в привильное русло. История об этом умалчивает, а перемены в поведении ребят были крайне противоречивы и могли свидетельствовать как в пользу первого, так и в пользу второго предположения.
С одной стороны, все они явно возмужали. Их дружба обрела суровый характер бойцовского братства. Трудно уже было представить этих людей катающими по двору покрышки. Все их разговоры были теперь о «базе»: о каких-то марш-бросках, о метании сапёрных лопаток и приёмах самозащиты. Они не без гордости сверкали фингалами, полученными друг от друга на внутрибазовых состязаниях по рукопашному бою.
С другой стороны, то, что я назвал разрушительной подростковой дурью, с появлением «базы» не то что не исчезло, а, напротив, с особой уверенностью вошло в обиход.
Помню, во время очередной игры в «Форт Боярд» подвальная дверь внезапно застучала и задёргалась. Мелюзга с писком разбежалась, а мы с Димоном остались. За дверью послышался знакомый смех. Наконец, высунулась голова Мелкова с необычайно красными глазами.
– О!.. пацаны-ы! – поприветствовал он нас с каким-то не вполне понятным удивлением – будто рассчитывал вылезти на свет в каком-то совсем другом месте. – Пойдём к нам, у нас там штаб!
Мы переглянулись и почему-то пошли.
Где-то под вторым подъездом сидели все наши. Я тоже уселся на какой-то ящик. Димон садиться не стал. Он напряжённо стоял за моим плечом, держа в руках теннисный мячик и песочные часы – реквизит нашей детской игры.
Лучше всего я запомнил Шурика, который медленно затягивался сигаретой и смотрел на меня в упор с самодовольно-развратной улыбкой, такой странно женственной на фоне его привычного грубоватого образа. На заднем плане Кафтан и Макса, шурша пакетами, раздышивались «моментом».
Я чувствовал: прямо сейчас, прямо в эти секунды свершается страшное, растленное. Всё то необъяснимое, чего я боялся с младенчества, глядя перед сном в роящуюся темноту комнаты, было сейчас передо мной, в этом подвале. Я чувствовал, что я в этом – и что оно необратимо разрушает меня.
– Ну и нафига ты это делаешь? – спросил я Шурика не своим голосом. Мне показалось, что это голос дневного света, который слабо сочится во тьму подвала из вентиляционного окошка.
Вместо ответа Шурик с той же бабской ухмылочкой пустил дым прямо мне в лицо. В уголках его глаз скопились, как остатки дешёвого макияжа, чёрные катышки подвальной копоти – и мне, помню, было как-то особенно неловко от этих катышков.
Мы с Димоном в одно мгновение почувствовали, что надо как можно скорее уходить.
– Куд-да!.. – ухватил нас за руки Прохоров.
Страх заслонил от меня дальнейшие подробности. Кажется, нам позволялось уйти не иначе как ценой сигаретной затяжки. Не помню, пришлось ли нам тогда затянуться или кто-то из ребят всё же убедил Максу от нас отстать.
Макса… Как я уже сказал, для меня это был самый страшный человек во дворе. Низкорослый, коротконогий, золотозубый, в блатной шерстяной кепке, с самого начала куривший на виду у всех, он тоже не был полноценной частью компании и «базу» никакую не посещал. Его основная жизнь протекала в каких-то других, удалённых от нашего двора кругах, – таких же, видимо, страшных, как он сам, если не ещё страшнее. Несомненно, за его душой уже чернели какие-то жуткие дела. Но компания никогда не бойкотировала его – не столько даже из страха, сколько из уважения. На Максу глядели снизу вверх как на существо более высокого порядка по шкале взрослости – главной тогдашней шкале.
Однажды, когда я сидел на лавочке, Макса подсел ко мне, схватил за руку и, достав из кармана складной ножик, приблизил сверкающее лезвие к моему пальцу:
– Сейчас отрежу тебе палец! – говорил он, с каким-то нежным наслаждением заглядывая мне в глаза.
Он отпустил, только когда я заплакал.
– Макса, ты больной, – справедливо заметил Кафтан, покрутив пальцем у виска.
– Да чё он, правда, что ль, думал, что я резать буду? – сверкал коронками Прохоров.
А в футбол он, кстати, играл хорошо. И чеканить мяч своими кривыми ногами («под хер заточенными», как было принято у нас говорить) мог до бесконечности…
Хорошо помню свой глубокий радостный вздох по выходе из подвала. Снова наш миленький уютный «форт» – зови мелюзгу и играй: ключи, подсказки, смех… Но что-то уже не так в привычном и ласковом свете дня. Как будто к его частицам навеки подмешались молекулы подвальной черноты. Как будто уже нельзя дышать этим светом доверчиво и свободно, без чувства вины и падения.
Вскоре я попробовал сигарету добровольно. Покурить мне предложил Толик – малозаметный парень из нашего дома, имевший такую же половинчатую причастность к дворовой компании, как и я. Характерной особенностью Толика был какой-то сложноорганизованный нервный тик – не просто мигание, а широкое расставление ног, хватание рукой за пах и вытягивание всего тела в струнку с гримасой предсмертного страдания.
Димон, кажется, был тогда с родителями на даче. Кафтан и команда торчали на «базе», куда ушли ещё вчера (Морковин недавно обошёл квартиры своих подопечных и выбил у их родителей разрешение на периодические ночёвки). Во дворе был безлюдный полуденный час – время скуки и пустоты. То самое время, когда дремлющий подростковый разум полностью отключает критику и наиболее уязвим для всяких деструктивных глупостей.
В этот коварный час мы с Толиком набрели друг на друга, он проделал свой долгий болезненный конгломерат спазмов и вытягиваний и сообщил, что у него есть пачка сигарет и спички. Я пошёл за ним на «больничку», заслонённую от мира брейгелевским сплетением ветвей.
Помню состояние полусна, анестезии, в котором впервые наполнил лёгкие дымом. Этот дым имел волнующий вкус – не такой, как сегодня. Вкус чёрной тайны, чёрного завета, который магическим образом отъединял тебя от мира семьи и соединял с миром улицы.
Начался восьмой класс. В этом классе я перешёл в новую школу, десятилетку.
Там тоже не было никого из двора, и я начал с нуля. «Чёрная тайна», с которой я соединился во дворе, быстро соединила меня с новым сообществом, где также было немало посвящённых. Я стал проводить бо̀льшую часть времени с ним – в далёких от дома дворах.
Курево быстро подтащило в мою жизнь алкоголь: сначала крепкое пиво и винцо, потом и водку. Впрочем, иногда по-прежнему случались короткие вспышки детства, и мы с Димоном, сквозь кожу которого тлетворные веяния так и не просочились, вновь созывали мелюзгу на «Форт Боярд».
Время с 12 до 16 лет… Я до сих пор смотрю на людей, проживающих это время, с глубоким состраданием. Тебя фактически нет. Ты всего лишь место – пустой пятачок, на котором ведут свою бешеную игру различные неподконтрольные тебе силы. Ты испытываешь острые переживания и даже боль, наблюдая за этой игрой, но не в состоянии взять её в свои руки.
Почему-то на роль иллюстрации моего тогдашнего состояния просится именно следующий случай.
Меня чем-то раздражала одна, в сущности, безобидная учительница. И однажды на уроке я старательно, со всем имеющимся во мне талантом рисовальщика, нарисовал на тетрадном листе её похороны. Нарисовал и подписал: «Похороны такой-то». Неделю или две спустя, придя домой с прогулки, я узнал от родителей, что бабушка ещё с утра слегла и помирает с давлением из-за какого-то рисунка, который нашла у меня на столе. Я быстро совместил в голове факты и понял: по грустному совпадению, учительницу, которую я нарисовал в гробу, звали так же, как бабушку. И бабушка подумала на себя.
Я поспешно зашёл в её комнату и сказал:
– Бабуля, ты чего? Это ведь я не тебя нарисовал, а свою учительницу. Просто её так же зовут. А тебя я очень люблю…
Бабушка охнула, встала, перекрестилась, подошла ко мне и как никогда крепко меня обняла, уткнувшись головой мне в рёбра. А я, помню, смотрел за окно её маленькой темноватой комнаты, едва-едва прозревая своим прыщавым сознанием в общую тоску бытия, которая сквозила в этом несчастном старушкином торжестве: «Внук пожелал смерти не мне, а учительнице; хороший, добрый внук…»
Годы спустя, узнав, что ту учительницу забрал рак, я – уже более-менее взрослый – пролил слёзы о ней и о подростковом времени своей жизни, местами страшном, как детдом, и безжалостном, как военное время.
Вообще, я запомнил это время как время несовершеннолетних.
Я имею в виду, что куда бы я ни шёл, я встречал на своём пути только их – таких же, как я, детей и подростков. Это было похоже на какую-то дурацкую кинопритчу о мире, в котором разом вымерли все взрослые. Я, по крайней мере, запомнил их только по автобусам, магазинам, школам и другим закрытым присутственным местам. Если тебя обували или били по лицу где-нибудь на свежем воздухе (а только там это, в общем-то, и происходило), глупо было надеяться, что откуда-нибудь появится спасительный взрослый. Нет, не появится. Он либо сидит дома за теликом, либо гнётся на неизвестных трудовых фронтах 90-х, судорожно добывая хлеб для таких, как ты. В лучшем случае, донесётся издали неразборчивый лай одной из приросших к лавочке старушенций, поднимется в воздух её беспомощная клюшка – вот, дескать, я вам! – но никто и ухом не поведёт в её сторону. Ничто не помешает свершиться безжалостной подростковой правде.
С другой стороны, это действительно было время правды. Ты был обиталищем всего ужасного, да, – но, как бы ни скалился по сторонам, не мог утаить и того света, который тебя пронзал и наполнял.
Моим главным светом того времени была музыка. Как когда-то я сделал гербом своего персонального государства влетающий в сетку мяч, так теперь гимном этого государства стал звук акустической гитары. В моей голове непрерывно звучали «Битлз» – музыка подраненных домашних мальчиков. Эта нежная четвёрка – для тех, кто изначально недополучил уверенности в добрых намерениях этого мира. Вся их «любовь, любовь, любовь», – во всяком случае, года до 65-го – это фантазийное, почти внутриутробное детское представление о ещё не испытанных чувствах. И мои первые собственные песни были ученическими пародиями на это представление: там была картонная «она», от равнодушия которой («she is treating me bad») столь же картонный «я» испытывал свои картонные страдания.
Всё же это наивно-вторичное творчество собрало вокруг меня несколько заинтересованных душ – и у нас родилась группа. Нас, конечно, связывало не только прекрасное, но и «чёрный завет», воспринятый каждым из нас в своём личном подвале. Сигареты, выпивка, позже травка, презрение к школе, порнографический юмор, мат где надо и не надо – всё это было. Но музыка была важнее, потому что перечисленное было у всех или почти у всех, а музыка – наша музыка – только у нас. Она была чудом, печатью избранности, благословением свыше.
Под знаком этого чуда проходила моя жизнь в окружении новой компании – второй, которую я знал после двора. Туда входили люди, объединённые как минимум желанием пойти в десятый класс и нежеланием идти в армию.
Но и футболом тоже…
К тому времени я был уже счастливым обладателем своего личного футбольного мяча. С этой драгоценностью под мышкой я каждые выходные отправлялся на стадион НЗТА, где мы играли до позднего вечера, умеренно балуясь пивом и сигаретами.
И вот как-то раз меня, идущего через двор в сторону стадиона, остановил окрик Кафтана:
– Здорово, Юрок! Ты куда?
Я сделал вид, что не слышу.
– Юрок, дай мячишко-то пощупать!
Я слегка замедлил шаг и сказал:
– Я тороплюсь, Андрюх.
– Да я тебе его через минуту отдам, бля буду! Ну чё ты как сиська потного индейца!..
Я нехотя развернулся и подошёл к компании. Внешний вид некоторых её членов сильно изменился. Саввин и Мелков, обритые налысо, были в чёрных куртках «бомберах» с оранжевыми изнанками, в чёрных высоко подвёрнутых джинсах и огромных кирзовых берцах. На ляжке у каждого болтался аксельбант из металлической цепочки. Они передавали друг другу сигарету, делая поочерёдно по несколько тяг и поругивая друг друга:
– Слышь, ты там не припух? Давай оставляй!
– Да ладно тебе, в фильтре восемь тяг…
Шурик – на тот момент уже Гуня – усиленно плевался на песок через пустоту недавно утраченного переднего зуба. Похоже, «база» помогла этим двоим твёрдо определиться с субкультурой. Оба явно наслаждались законченностью своих образов, но я сразу отметил в их скиновском прикиде что-то встопорщенно-жалкое, словно он был взят на вырост. На фоне этого прикида, а также ввиду отсутствия волос, особенно бросались в глаза юношеские, ещё недоокрепшие черепа.
– Ну чё, Юрок, – начеканивал Кафтан мой мяч, – давай в футбольца-то, а?
– Не могу, меня уже ждут на НЗТА.
– У тебя там чё – своя команда, да?
– Ну типа того.
– Ну и чё – хорошо играют?
– Ну так, более-менее.
– Ну давай завтра команда на команду.
– Да ну на фиг.
– А чё нет? – он всё ещё не смотрел на меня, занимаясь мячом. Чеканил коленками, головой, отрабатывал с разной степенью успешности какие-то финты. – Ссыте, что ль?
– Да нет.
– Ты посмотри на этих дистрофиков, – кивнул он в сторону компании. – Они не играли уже тыщу лет, вы нас порвёте как котят.
– Да не в этом дело.
– А чё такое?
– Просто не охота.
– Да чё ты «не охота», Юрок? – он, наконец, устал от возни с мячом и, поставив на него свой вечный полукед, красиво упёр ладонь в полусогнутое колено. – Короче, забиваем: завтра в двенадцать приходи со своими «марадоннами» (он настоял на двойном «н») на Будённовское поле (здесь ему хватало одинарного). Сыграем по-взрослому: два по сорок пять – на больших воротах. Если мы выиграем… – в его глазах забрезжил Коля Курочкин, – …мяч наш.
– Ага, фигушки! – устремился я к своей драгоценности, но Кафтан успел нагнуться за ней раньше. Он сунул мяч себе под мышку и, невозмутимо насвистывая, куда-то с ним устремился походкой спортивного ходока.
Все засмеялись. Кроме, разумеется, меня. С лицом, полным усталости и раздражения, я последовал за Кафтаном, стараясь не переходить на унизительный бег. Кафтан же умело увиливал от меня, с каждым поворотом ускоряясь и принимая новый образ: то это был какой-то утрированный согбенный урка, выбрасывающий при ходьбе ноги в стороны, то вытянутый в струнку аристократ, то ещё кто-нибудь. Каждый новый образ вызывал новую вспышку смеха. Говорю же, это был прирождённый клоун.
Наконец я остановился и, уставив руки в бока, тяжело вздохнул.
– Ладно, ладно, не плачь, пошутить нельзя, – подошёл ко мне Кафтан и протянул было мяч, но тут же легонько отдёрнул руку. – Придёте завтра?
– Как я тебе за других обещать буду? – ответил я сердито. – Спросить могу, а захотят они или нет, это уже не от меня зависит.
– Но ты зуб даёшь, что спросишь?
– Даю, – сказал я и, не проделав ритуального щелчка ногтем по переднему зубу, просто выдернул у Кафтана мяч и зашагал прочь.
– Если не придёте, будем считать, что зассали! – крикнул он вслед.
Я не хотел этого матча и рассказал своей новой команде о брошенном вызове только под вечер и вскользь, единственно для того, чтобы быть честным перед Кафтаном. Но почему-то вызов был принят с повышенным энтузиазмом.
«А что, интересно же!» «Проверим свои силы!» «Хоть что-то новое, а то закисли уже сами с собой играть!» – такие были аргументы.
– Посмотрим, что у тебя там за фраерки во дворе, – сказал здоровяк-двоечник Лёха Косяков по кличке Косяк, член электростальской молодёжной команды по хоккею на траве, единственный, кому из нас суждено было отслужить в армии…
Ну и вот он, собственно, – матч на окружённом высокими соснами Будённовском поле, мимо которого в тот год ещё вовсю громыхали трамваи.
Теперь, когда повествование подошло к этому полю вплотную, я не могу понять, почему так стремился к нему. Мне хочется вспомнить что-то особенное – но ничего не вспоминается. Что тут рассказывать? Они просто разгромили нас, порвали как котят, уделали в одну калитку – то ли 5, то ли 6:0.
Помню, после каждого забитого мяча, отправляясь деловитой трусцой на свою половину поля, Кафтан не упускал случая меня поддеть:
– Кого ты привёл, Юрок?.. Что у тебя за друзья?.. Где ты набрал этих девочек?..
Конечно, им помогли победить люди из соседнего дома – Денис Рыжов с его неинтересным, но безотказно работающим мастерством и голкипер Трёша, который летал за мячом не хуже настоящих вратарей из телика. Но я думаю, что Кафтан и команда справились бы и своими силами. Они были дружней, самоуверенней, страшней. Они были дворовой компанией…
Не помню, кстати, играл ли в том матче Димон, и если да, то за кого. Время нашей детской дружбы прошло. Наши пути без всяких драм, сами собой поворачивались в разные стороны.
Когда прозвучал долгожданный финальный свисток – вернее, всё тот же Кафтан сделал в небо губами тонкое смешное «тпррррр», как он умел, – и победители, смерив нас презрительными улыбками, спокойно направились в сторону родного двора, Андрюха опять улучил секунду, чтобы сказать мне кое-что с глазу на глаз.
– Вот так вот, Юрок. Учись, пока я жив. Спокойненько, техничненько, бац-бац – и в дамки. Не тех людей ты выбираешь, Юрок. Подумай об этом.
Он постучал себе пальцем по виску, затем легонько похлопал меня по плечу и с достоинством посеменил за своими. Я же, разумеется, остался в опечаленном стане проигравших…
Нет, кажется, я всё-таки понял, почему так стремился в своём рассказе к этому матчу.
У меня изначально сидел в голове такой мотив: дворовые в последний раз являют силу, вчистую выигрывая матч, то есть «сражение», и удаляются «проигрывать войну», то есть жизнь: в подвалы, в шараги, в ужас армейской дедовщины, в горячие точки, в преступные группировки, алкоголизм и прочее неблагополучие; мы же, хиловатое полудомашнее племя, «проигрываем сражение, но выигрываем войну»: поступаем в институты, получаем приличные профессии, заводим нормальные семьи и всё в таком духе…
Сейчас я вижу, насколько этот мотив спорен.
Во-первых, я толком не знаю, как у кого из дворовых дальше пошла жизнь. Ну да: лет пять спустя Кафтан, балансируя на льду в своей балетной позиции, культурно стрелял у меня на догонку. На нём была советская шапочка-петушок, устарелая даже для того времени… Зато о Цыганкове я слышал, что он пошёл по милицейской линии. Хорошо представляю его на допросе:
– Д… д… давайте дружить, т… т… товарищ старший лейтенант…
Ну а во-вторых – разве так всё безоблачно с теми, кто якобы «выиграл войну»? Одиночество, кавардак в семейной жизни, алкоголизм, наркомания, депрессия, горе от ума… И я здесь не исключение: много чего было и есть.
И всё же матч на Будённовском поле по-прежнему видится мне чем-то важным и узловым.
На нём встретились и схлестнулись два мира, через которые прошла моя жизнь: мир дворовый, так нетонко навязанный мне судьбой, – и мир школьный, который я хотя бы отчасти выбрал сам. И точкой их соприкосновения стала, как ни странно, моя персона. Да, именно! Я чувствовал себя на том поле не только игроком, но и зрителем, и судьёй, и даже кубком. Всем немногочисленным годам моей жизни был подведён здесь некий загадочный итог.
И вот – как судья и кубок в одном лице – сегодняшний я никому не присуждаю победы и никому не достаюсь. С радостью и интересом к дальнейшей жизни я остаюсь при себе, но всем вам, ребята (и даже тебе, жуткий Прохоров!), говорю спасибо за честное участие в таинстве моей жизни и за тот футбол – футбол девяносто какого-то.



