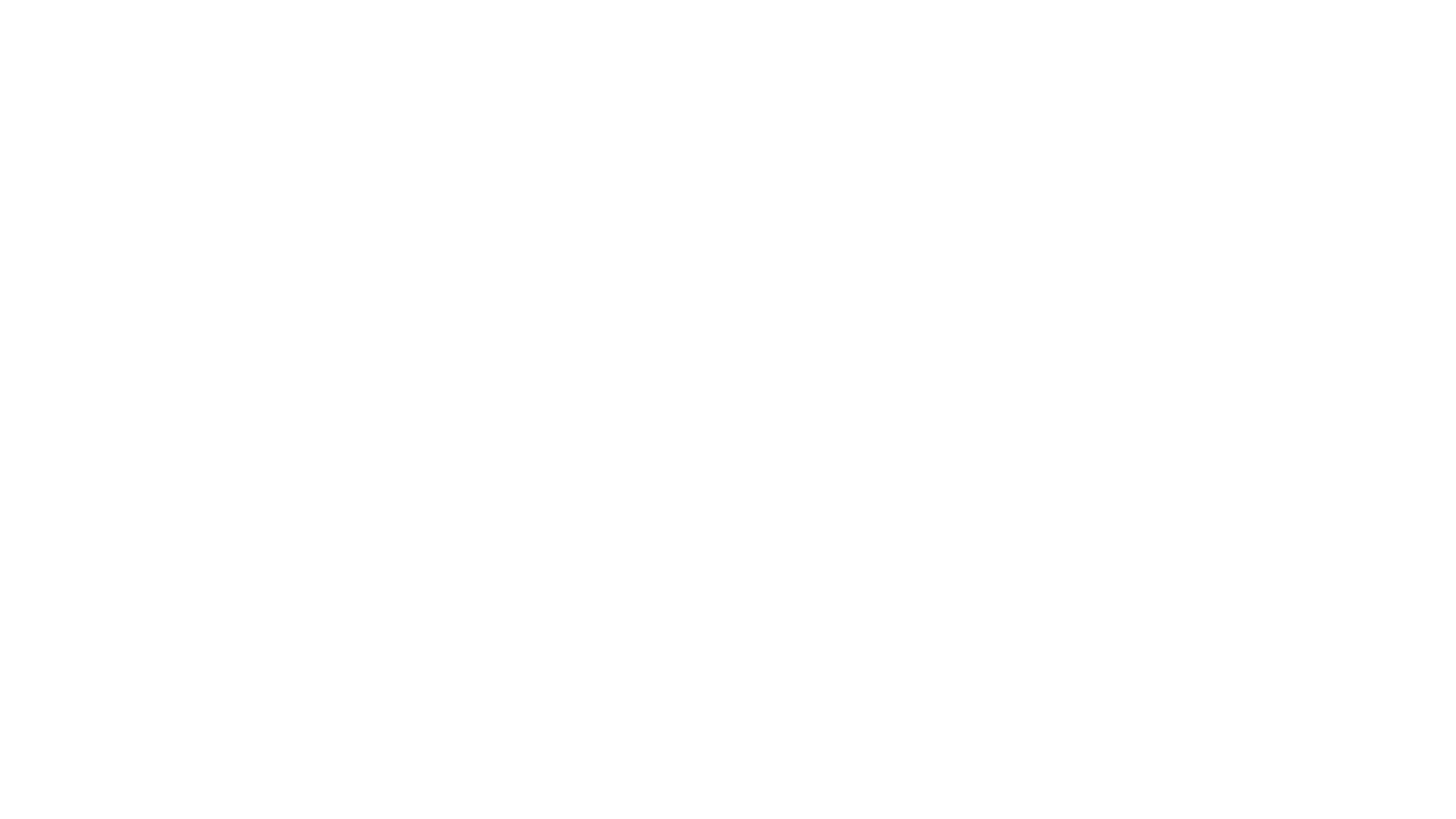
Марина Марьяшина – В пространстве обжитом
(Ганна Шевченко / Хохлома, березы и абсурд. – Москва: Литературный клуб «Классики ХХI века», 2023)
Марина Марьяшина – поэт, прозаик. Главный редактор литературного журнала «Альдебаран». Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Лауреат международного форума «Фермата» в 2017 году, «Золотой Витязь» (2019), премии Справедливой России в номинации «Молодая поэзия России» (2019) и литературной премии «Двенадцать» (2019 год). Вошла в шорт-лист Литературной премии им. А. Левитова (2024). Печаталась в журналах «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Менестрель», «Дети Ра», «Дон», «Нева», «День и ночь», «Лиterraтура», «Кольцо А» и др. Живёт в Москве.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на обложку книги стихов Ганны Шевченко, – нарочито аляпистое оформление в стиле «забубенная клюква»: здесь вам и березовая кора, и расплывшийся орнамент известного народного промысла, и черные прямоугольники, имитирующие изоленту. Элементы дизайна усиливают название, приглашая в мир русского абсурда, ставшего новой реальностью. Здесь нет деления на разделы и циклы, стихотворения даются подряд, без дат и названий.
В 2012 году в рецензии на «Домохозяйкин блюз» Елена Пестерева отметила, пожалуй, ключевую особенность поэтики Ганны Шевченко – прозаичность. «В коротком лирическом стихотворении их <персонажей> может быть один или несколько и их жизнь или часть ее может быть развернута в детальности и полноте <…> Эта особенность несколько сдвигает жанр лирических стихотворений в сторону прозаических миниатюр»[1]. Черта эта сохраняется и в сборниках «Обитатель перекрестка» (2015) и «Форточка, ветер» (2017).
Стихи, вошедшие в книгу 2023 года, напротив, будто намеренно уходят от бытописания и сюжетики к чистому переживанию. В размеренный домашний мир врывается «трансцендентальный ветерок». Причем привычное разрушается не из-за внешних событий: героиня Шевченко обращается вглубь себя, к родовой памяти, трагически раздваиваясь на Анну и Ганну (среднерусский и южный вариант имени):
В теле моем до преобразований,
до неудач и потерь,
помню, гостила какая-то Аня.
Где она бродит теперь?
Это считывается как внутренний конфликт – необходимость переосмысления себя, истории своего рода в новых реалиях. Понять, утвердить «геральдику рода, подлинный смысл синевы» – значит соотнести внутреннюю правду с правдой высшей. Встать на те внутренние опоры, где мировой сквозняк не страшен.
В сборнике Шевченко много упоминаний о родных, чьи портреты бегло очерчены какой-нибудь одной яркой деталью (бабушка по имени Мотря, например, которая поет молитвы за шитьём). Называние имен близких возвращает к памяти о них.
Геральдика подразумевает переведение уникального опыта семьи в знак, в эмблему. Поэзия тоже «запечатывает» чувственный опыт в определенную форму. Чтобы «открыть печать», то есть чтобы память перестала быть набором символов, необходим своего рода спиритический сеанс – им становится прочтение.
Для литературы и для мертвых не существует времени. Лирическая героиня Шевченко жалуется бабушке на карантин, рассказывает о вездесущем Цукерберге, который «смотрит и смотрит» на людей из фейсбука. Страшилка на уровне мема или картин Васи Ложкина, чье имя тоже звучит в этой книге не раз.
И круг проблем, очерченных в этом «разговоре», отнюдь не бытовой: сначала, дорогая бабушка, к нам пришел страшный ковид, мы изнывали в заточении, сходили с ума и перешли на онлайн-общение, а потом пришла беда пострашнее – на родной земле случились военные действия. И теперь:
везде Донбасс, куда бы мы ни ехали,
повсюду жуткий, солнечный Донбасс.
И не знаешь, как и почему это произошло, и попробуй, разберись, кто прав, кто виноват. А жить нужно. Так возникает в сборнике Ганны Шевченко примиряющая нота. И если в более ранних сборниках громче звучала мысль о засилье быта, то здесь прослеживается попытка «обжить» пространство новых смыслов, новой – пусть и абсурдной реальности.
Во времена ковида в фейбсуке была группа «Стихи во время карантина». Почти все её участники – поэты довольно известные и ещё тогда не перессорившиеся на политической почве – писали об ощущении некой нереальности происходящего. Например, похожий мотив в подборке поэта более старшего (для автора) поколения – Ольги Ивановой во втором номере журнала «Дети Ра» за 2021 год:
все дружнее раз от разу
в местевремени ненашем
с кондачка всему и сразу
улыбаемся-и-машем[2]
Вот и у Ганны Шевченко в книге пространство смыслов за пределами «обжитого» иногда становится настолько абсурдным, что существование реального мира ставится под вопрос: «мне кажется, что мир не настоящий, он голограмма в воздухе косом».
Как человек, переехавший на новое место, наводит уют в жилище, так и лирическая героиня этого сборника мудро и просто «обживает» смысловое поле сегодняшнего дня: «А в час, когда вернулась я с работы, / позолотились окнами дома, / над глобусами сдвинулись широты / и в небе потускнела хохлома». «Женская» рифмовка здесь работает как успокоительное, необходимое для принятия ситуаций, еще недавно казавшихся абсурдом.
Оптика этого сборника – тоже намеренно абсурдистская. Вещи и природные объекты очеловечиваются: «лежит, подрагивая телом, река, затянутая илом». Абстракция (в данном случае, поэтический троп) «наращивает плоть»: «я отпущу метафоры до плеч». Олицетворение выходит за рамки тропа и становится одним из ведущих приемов.
Мыслит в человеческих категориях, по Шевченко, не только природа, но и Бог. Именно это делает её поэтический мир «обжитым», этаким вселенским общежитием, где есть лирическая героиня, которая идет на работу в библиотеку, глядя в небо, и есть, например, старичок Всевышний, которому небесный Собес выдает пенсию (это бог-ремесленник, подобный людям).
Мотив одухотворенного «рабочего», «мужицкого» пространства-космоса присутствует почти в каждом стихотворении («земля... будто маленький теленок, ест космический овес»). Это очень напоминает идеи мужицкого космоса бревенчатый избы у новокрестьянских поэтов. Понимание божественного здесь явно пантеистское, но имеет свою специфику. Речка, поле или, например, шахта, так же как, например, продавщица или поэтесса, существуют в мире для труда на всеобщее благо:
Простерлось справа поле пыльное,
а слева балка слюдяная,
и небо грубое, двужильное,
светлеет, звезды пеленая.
Или:
в пространстве обжитом
сквозняк колышет шторки
Если, читая, держать в голове мысль, что, несмотря на все мировые катаклизмы, земля – место не богооставленное, то и ковидная тюрьма, и военные действия воспринимаются стоически. Даже тон для стихотворения про карантин выбран иронический:
Не слышится «Владимирский централ»,
проспекты от ветров перекосило –
прохожие отправились в астрал,
пока нас в поликлинику носило
Думается, это тот спасительный смех в моменте, когда все плохо. Где-то градус горечи нарастает, но там, где гротесковая оптика делает все смешным, появляется ощущение надежды.
Через абсурдистскую оптику иногда доносятся мысли о необходимости выбора из нескольких правд. Одна из них – отказ от «русскости» в сторону свободы, эмиграция. Другая – принятие себя в большом времени («а хочешь любви – оставайся»). Есть ли для лирического я Шевченко, «пантеистского» и аполитичного по своей природе, такой выбор? Скорее он тоже абсурден, он тоже – порождение сдвинутого мира. Возникает образ «достоевского костра». Всех жалко, всё шатко. Останешься – сгоришь на нём, уедешь, покинешь «страну нищебродов», проделаешь пирсинг в ноздре, предашь родное.
В лирической героине Г. Шевченко из этого сборника многие увидят себя. Независимо от политических взглядов и внешних событий, все они оказались в таком времени, реалии которого для человека, живущего ещё десятилетие назад, показались бы абсурдом, плодом больного воображения. Тем не менее это реальность, в которой нужно жить. И эта книга – своего рода человеческий документ и примиряющий разговор по душам. Здесь есть место спасительному смеху, воспоминаниям о родных и друзьях, ушедших «в синеву». А вот чего нет – так это четкого деления на правых и виноватых, есть мудрое человеческое принятие.
В 2012 году в рецензии на «Домохозяйкин блюз» Елена Пестерева отметила, пожалуй, ключевую особенность поэтики Ганны Шевченко – прозаичность. «В коротком лирическом стихотворении их <персонажей> может быть один или несколько и их жизнь или часть ее может быть развернута в детальности и полноте <…> Эта особенность несколько сдвигает жанр лирических стихотворений в сторону прозаических миниатюр»[1]. Черта эта сохраняется и в сборниках «Обитатель перекрестка» (2015) и «Форточка, ветер» (2017).
Стихи, вошедшие в книгу 2023 года, напротив, будто намеренно уходят от бытописания и сюжетики к чистому переживанию. В размеренный домашний мир врывается «трансцендентальный ветерок». Причем привычное разрушается не из-за внешних событий: героиня Шевченко обращается вглубь себя, к родовой памяти, трагически раздваиваясь на Анну и Ганну (среднерусский и южный вариант имени):
В теле моем до преобразований,
до неудач и потерь,
помню, гостила какая-то Аня.
Где она бродит теперь?
Это считывается как внутренний конфликт – необходимость переосмысления себя, истории своего рода в новых реалиях. Понять, утвердить «геральдику рода, подлинный смысл синевы» – значит соотнести внутреннюю правду с правдой высшей. Встать на те внутренние опоры, где мировой сквозняк не страшен.
В сборнике Шевченко много упоминаний о родных, чьи портреты бегло очерчены какой-нибудь одной яркой деталью (бабушка по имени Мотря, например, которая поет молитвы за шитьём). Называние имен близких возвращает к памяти о них.
Геральдика подразумевает переведение уникального опыта семьи в знак, в эмблему. Поэзия тоже «запечатывает» чувственный опыт в определенную форму. Чтобы «открыть печать», то есть чтобы память перестала быть набором символов, необходим своего рода спиритический сеанс – им становится прочтение.
Для литературы и для мертвых не существует времени. Лирическая героиня Шевченко жалуется бабушке на карантин, рассказывает о вездесущем Цукерберге, который «смотрит и смотрит» на людей из фейсбука. Страшилка на уровне мема или картин Васи Ложкина, чье имя тоже звучит в этой книге не раз.
И круг проблем, очерченных в этом «разговоре», отнюдь не бытовой: сначала, дорогая бабушка, к нам пришел страшный ковид, мы изнывали в заточении, сходили с ума и перешли на онлайн-общение, а потом пришла беда пострашнее – на родной земле случились военные действия. И теперь:
везде Донбасс, куда бы мы ни ехали,
повсюду жуткий, солнечный Донбасс.
И не знаешь, как и почему это произошло, и попробуй, разберись, кто прав, кто виноват. А жить нужно. Так возникает в сборнике Ганны Шевченко примиряющая нота. И если в более ранних сборниках громче звучала мысль о засилье быта, то здесь прослеживается попытка «обжить» пространство новых смыслов, новой – пусть и абсурдной реальности.
Во времена ковида в фейбсуке была группа «Стихи во время карантина». Почти все её участники – поэты довольно известные и ещё тогда не перессорившиеся на политической почве – писали об ощущении некой нереальности происходящего. Например, похожий мотив в подборке поэта более старшего (для автора) поколения – Ольги Ивановой во втором номере журнала «Дети Ра» за 2021 год:
все дружнее раз от разу
в местевремени ненашем
с кондачка всему и сразу
улыбаемся-и-машем[2]
Вот и у Ганны Шевченко в книге пространство смыслов за пределами «обжитого» иногда становится настолько абсурдным, что существование реального мира ставится под вопрос: «мне кажется, что мир не настоящий, он голограмма в воздухе косом».
Как человек, переехавший на новое место, наводит уют в жилище, так и лирическая героиня этого сборника мудро и просто «обживает» смысловое поле сегодняшнего дня: «А в час, когда вернулась я с работы, / позолотились окнами дома, / над глобусами сдвинулись широты / и в небе потускнела хохлома». «Женская» рифмовка здесь работает как успокоительное, необходимое для принятия ситуаций, еще недавно казавшихся абсурдом.
Оптика этого сборника – тоже намеренно абсурдистская. Вещи и природные объекты очеловечиваются: «лежит, подрагивая телом, река, затянутая илом». Абстракция (в данном случае, поэтический троп) «наращивает плоть»: «я отпущу метафоры до плеч». Олицетворение выходит за рамки тропа и становится одним из ведущих приемов.
Мыслит в человеческих категориях, по Шевченко, не только природа, но и Бог. Именно это делает её поэтический мир «обжитым», этаким вселенским общежитием, где есть лирическая героиня, которая идет на работу в библиотеку, глядя в небо, и есть, например, старичок Всевышний, которому небесный Собес выдает пенсию (это бог-ремесленник, подобный людям).
Мотив одухотворенного «рабочего», «мужицкого» пространства-космоса присутствует почти в каждом стихотворении («земля... будто маленький теленок, ест космический овес»). Это очень напоминает идеи мужицкого космоса бревенчатый избы у новокрестьянских поэтов. Понимание божественного здесь явно пантеистское, но имеет свою специфику. Речка, поле или, например, шахта, так же как, например, продавщица или поэтесса, существуют в мире для труда на всеобщее благо:
Простерлось справа поле пыльное,
а слева балка слюдяная,
и небо грубое, двужильное,
светлеет, звезды пеленая.
Или:
в пространстве обжитом
сквозняк колышет шторки
Если, читая, держать в голове мысль, что, несмотря на все мировые катаклизмы, земля – место не богооставленное, то и ковидная тюрьма, и военные действия воспринимаются стоически. Даже тон для стихотворения про карантин выбран иронический:
Не слышится «Владимирский централ»,
проспекты от ветров перекосило –
прохожие отправились в астрал,
пока нас в поликлинику носило
Думается, это тот спасительный смех в моменте, когда все плохо. Где-то градус горечи нарастает, но там, где гротесковая оптика делает все смешным, появляется ощущение надежды.
Через абсурдистскую оптику иногда доносятся мысли о необходимости выбора из нескольких правд. Одна из них – отказ от «русскости» в сторону свободы, эмиграция. Другая – принятие себя в большом времени («а хочешь любви – оставайся»). Есть ли для лирического я Шевченко, «пантеистского» и аполитичного по своей природе, такой выбор? Скорее он тоже абсурден, он тоже – порождение сдвинутого мира. Возникает образ «достоевского костра». Всех жалко, всё шатко. Останешься – сгоришь на нём, уедешь, покинешь «страну нищебродов», проделаешь пирсинг в ноздре, предашь родное.
В лирической героине Г. Шевченко из этого сборника многие увидят себя. Независимо от политических взглядов и внешних событий, все они оказались в таком времени, реалии которого для человека, живущего ещё десятилетие назад, показались бы абсурдом, плодом больного воображения. Тем не менее это реальность, в которой нужно жить. И эта книга – своего рода человеческий документ и примиряющий разговор по душам. Здесь есть место спасительному смеху, воспоминаниям о родных и друзьях, ушедших «в синеву». А вот чего нет – так это четкого деления на правых и виноватых, есть мудрое человеческое принятие.



