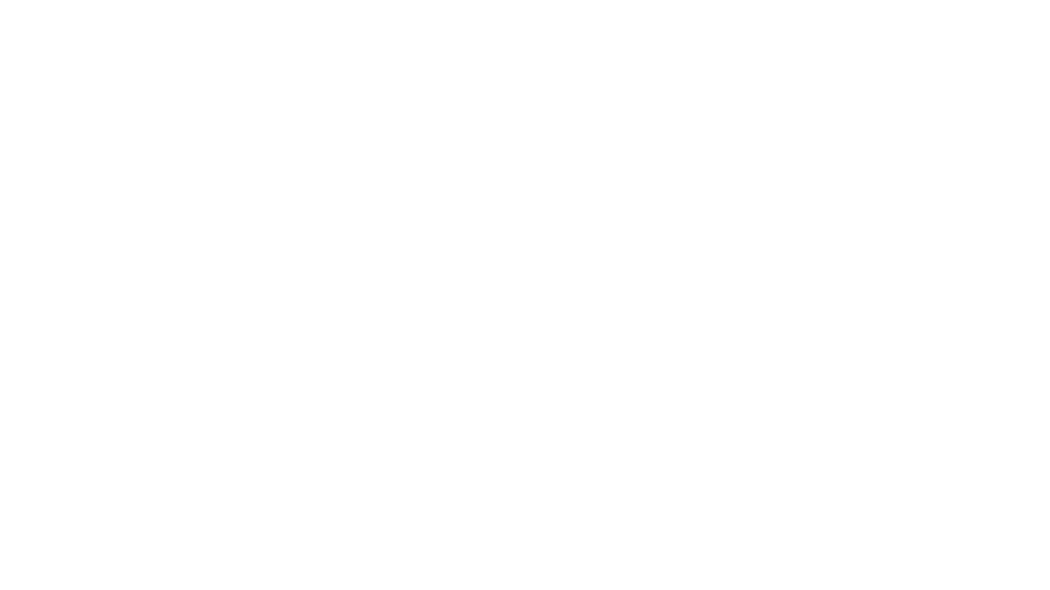
Кирилл Моргунов – Между ночью и днём
Кирилл Моргунов – поэт, прозаик. Студент Литературного института им. А. М. Горького (семинар поэзии Красникова Г.Н.), публиковался в журналах «Москва», «Урал», «Алтай», «Наш современник», финалист Волошинского конкурса 2022 года в номинации «Кто верит в жизнь, тот верит чуду…», 2024 года в номинациях «Всех миров преображенье…» и «Всё перечувствовать, всё пережить...». Живёт в Москве.
Мы возвращались домой поздней ночью или ранним утром — я не понимал, потому что ещё не разбирался во времени, но было уже светло, а небо и земля казались одним из-за густого, неподвижного тумана. Я спросил тебя: «Ещё ночь или уже день?», но ты, как всегда, желая сберечь моё детское воображение, сказала: «Мы посередине. Между ночью и днём».
Мы возвращались от твоих друзей. Для меня всегда было большой радостью ездить к ним. Правда, сейчас я почти никого не помню — ни лиц, ни имен. Но помню, что был вне себя от счастья, когда в чужом доме меня встречали с объятиями, предлагали конфеты и, смерив взрослым взглядом, говорили: «Как ты вырос!», хотя и видели меня месяц, а то и неделю назад. Потом я сидел рядом с тобой и, прихлёбывая чай, как взрослый, слушал ваши разговоры, которых я тоже не помню.
Я еле-еле дотягивался до стола, поэтому, чтобы быть хотя бы чуть-чуть ближе к вам, я подкладывал под себя несколько подушек, на которых было не так-то легко усидеть, и тогда ты назвала меня Султаном. Мне почему-то это нравилось. О чем вы говорили в тот день? Наверное, что-то говорили про отца, про его работу, благодаря которой мы всё лето могли проводить в деревне, или перемывали косточки соседям и знакомым или злобным бабкам, которых я боялся, как огня, или просто вспоминали школьные годы, молодость.
Помню, как я увидел твою детскую фотографию и не поверил, что это ты. Для меня было невозможным представить, что ты когда-то была такой же как я — маленькой, беззащитной, похожей на мальчика и на девочку сразу из-за чистой, кукольной красоты.
Это была чёрно-белая фотография. На тебе были надеты полосатый купальник и тёмная панамка с маленькой вышивкой якоря. Ты смеялась, показывая крохотные, ровные молочные зубки, и всё-таки хоть я не мог поверить, что это ты, мы были похожи. Я смотрел на себя в зеркало и на твою фотографию и мне казалось, что мы — это один и тот же человек, и от этой мысли сладко крутило живот.
Ты много смеялась со своими друзьями. Твои щеки розовели, и лицо становилось радостным – хотя я почти не помню тебя грустной и бледной. Вы пили из разноцветных стопок, морщились и нюхали огурцы и хлеб, а я все не мог понять вкусно вам или нет, потому что вы то с наслаждением и оттяжкой говорили «Хорошо-о-о!», то шипели, так будто хлебнули бензина. Мне всегда хотелось попробовать хотя бы каплю из ваших стопок, а ты запрещала мне, говоря, что я ещё маленький. Многое в вашем мире было мне непонятным, чуждым и желанным. Всё, о чем вы говорили, было для меня тайной, другим языком, на котором я мечтал научиться говорить, но никак не мог. Может быть, поэтому я ничего не помню, а очень бы хотелось.
Во сколько бы мы ни уезжали, мне всегда казалось, что мы уезжаем рано, либо я засыпал, сам того не замечая. Тогда ты ласково гладила меня по голове и говорила: «Кирюша, вставай. Нам пора ехать, милый». Я еле продирал глаза, неохотно поднимался, снова падал, хныкал, забыв о твоих друзьях, о тебе, о доме, но ты брала меня за руку, аккуратно поднимала, надевала ботиночки, говорила что-то ласковое, а я клевал носом и моё тело медленно падало на подушки, на которых я только что сидел бодрый и счастливый. Ты поднимала меня, и постепенно я возвращался к тебе.
Мы ездили к твоим друзьям на старом высоком велосипеде, на который я никогда не мог забраться сам. Специально для меня папа прикрутил на раму сиденье, и, чтобы не свалиться, я держался руками за металлическое основание руля, всегда холодное.
В тот день был сильный туман, отчего весь велосипед покрылся влагой. Ты протёрла сиденья рукавом и выкатила велосипед на дорогу. Мы помахали твоим друзьям, стоявшим у открытой калитки, ты посадила меня на высокую раму, и мы поехали. Наверное, хватило трех оборотов педалей, чтобы полностью исчезнуть из поля зрения — настолько был густой туман.
Ехать было не близко — в соседнюю деревню. На своем велосипедике я бы добирался целый день, а то и больше. Стояла пугающая тишина, только редкие птицы и мерный скрип колес напоминали о том, что мир жив. Я точно бы расплакался, окажись я в это время на дороге один, но со мной была ты.
Мы ехали медленно, чтобы не попасть в яму и не налететь на ствол дерева или камень. Дорога была проселочной, неровной, вся в колдобинах, которые папа называл лежачими полицейскими и шутил, что это он её ремонтировал. Даже в ясную погоду по ней ездили аккуратно. Руль призрачно мерцал в туманной дымке, вытяни руку — и пальцы бледнели, будто растворялись.
Деревья, утопая в тумане, то появлялись, то исчезали, то снова появлялись, как миражи, и пугали меня своей кривизной, неподвижностью, внезапной таинственностью. Мне казалось, что в них кто-то прячется и в любую секунду может выскочить и напасть на нас. Но никто не выскакивал. Деревья стояли так же неподвижно, вонзив в туман зеленые ветки.
Ещё на нашем велосипеде был разноцветный электронный клаксон – все называли его гудок, но мне почему-то нравилось именно слово «Клак-сон!». Вы с папой подарили его мне в начале лета. Когда мы куда-то ездили вместе, я всегда снимал его со своего велосипеда и прикручивал на твой. Он умел выть как пожарная сирена, сигнализация или «скорая помощь» и мерцал красным светом во все стороны, как лампочка милицейской машины. Я думал, что все должны уступать мне дорогу, когда он включен, но пока что не проверял.
Когда я услышал шорох (из-за тумана не было понятно, откуда он доносился), то резко нажал на первую попавшуюся кнопку. Завыла пожарная сирена, красный свет заскользил по туману. Ты вздрогнула и дёрнула рулём. «Сынок, – сдержанно сказала ты, – не надо его включать, пожалуйста». «Ну, я хотел спугнуть…» – ответил я виновато. «Кого?» — улыбнулась ты. Я не видел твоего лица, но знал, что ты улыбнулась. «Не знаю, — задумался я, — кабанов…» Ты засмеялась.
Чем глубже я вглядывался в туман, тем больше фантазировал. Мне виделись медведи и волки, преступники с ножами и пистолетами и неизвестные существа, которые меня пугали. Но не все мои фантазии были жуткими. Я видел бабушку, собирающую цветы – глуповато, бессмысленно улыбающуюся. Она часто бродила по этой дороге. Вдруг, подумал я, она собирает их днём и ночью, но сейчас ведь не день и не ночь, а, как сказала мама, что-то посередине, между. Значит, никого кроме нас здесь быть не может. «Мама, — спросил я, — но ведь обычно мы в это время cпим. Значит, сейчас ночь?». Ты была уставшей и ответила не сразу. «Мам!» «Не знаю, сынок». Ты всегда отвечала так, когда была уставшей или печальной. Тогда я понимал, что не нужно тебя донимать.
Я смотрел на твои загорелые руки, крепко державшие руль. Как такие сильные руки могут быть такими нежными? Я хорошо помню, как ты работала на сенокосе. Я прыгал на травяные кучки, дурачился, а ты бросала траву большими вилами. Я знал, что они тяжелые, потому что сам пробовал поднять их и подцепить сено, но они перевешивали меня, вонзались в мягкую землю и падали потемневшим черенком на траву.
Где мы едем? Скоро ли доберёмся до дома? И доберёмся ли мы до него через этот туман? Я не хотел донимать тебя вопросами. Как странно, как жутко, как прекрасно было ехать с тобой по родной дороге и не узнавать ничего вокруг!
Мне становилось скучно, я устал от своих мыслей и фантазий, от тумана. Я начал клевать носом. «Не спи, милый, а то упадёшь, — сказала ты, — потерпи ещё чуть-чуть. Скоро уже будем дома». Я обрадовался, что ты сама со мной заговорила. И тут же спросил: «А где мы едем?» «У Савинского», — ответила ты. Я знал только, что Савинское находится посередине между нашей деревней и Никольским Торжком, откуда мы выехали. Значит, осталось ещё столько же.
Казалось, туман сгущался, потому что даже деревьев видно не было. После Савинского лес стоял поодаль от дороги, а по обе стороны пролегали поля, усыпанные стогами, но ничего не было видно. Я изо всех сил старался разглядеть дорогу сквозь туман, и мне казалось, что ещё чуть-чуть и у меня откроется суперспособность, но что-то выскочило навстречу, ты вскрикнула и резко повернула руль.
От страха я успел только невнятно промычать: «Ма-а-а-ма!» Всё самое жуткое пронеслось перед моими глазами в ту секунду. На нас бежали дикие кабаны с огромными бивнями, медведи разрывали нас на части, злодеи вонзали ножи в наши тела и стреляли из пистолетов.
У меня перехватило дыхание. Наш велосипед чуть не рухнул, но ты удержала его и как-то поймала меня. Я вцепился в тебя и прижался к твоей ноге. «Ну тихо, тихо, — сказала ты, — всё хорошо». Потом твой голос поменялся. «Надо по правой стороне ездить!» — сказала ты, как говорила со мной, когда я хулиганил или не слушал тебя. Мужской хриплый голос ответил: «Эх, бабочка, прости. Вон туман какой! Хрен поймешь где право, где лево!».
Я открыл глаза. Рядом с нами стоял дедушка и придерживал велосипед, очень похожий на наш, но, конечно, без второго седла и красивого клаксона. Из его рюкзака торчала маленькая удочка, и она была похожа на антенну. Я чувствовал свое сердце — как оно бешено стучит, и думал, что ты, наверное, тоже его слышишь! Перед глазами пульсировали белые пятна. Увидев дедушку, я успокоился.
«Нина, ты чтоль?» — спросил он, подойдя ближе, и я узнал в нём дядю Сёму. Вы немного поговорили, а потом он потрепал меня по голове большой твердой рукой, прыгнул на велосипед и исчез в тумане. Дядя Сёма тоже был между ночью и днём – прямо как мы. И я подумал, что он очень смелый, раз не боится ехать в одиночку.
Ты обняла меня. «Давай пройдемся пешком? — сказала ты, — всё равно до дома немного осталось, а то опасно. Туман совсем сгустился». Туман и правда был гуще, чем в Никольском Торжке. Я не мог разглядеть даже ботинки. Мы пошли пешком. «Мама, — сказал я, — а можно я нажму, чтобы посветить чуть-чуть?». «Нажми», — не глядя сказала ты. Не прошло и секунды, как посреди тишины раздался вой полицейской машины. Лампочки засветились, но лучше видно не стало.
Ты везла велосипед, я полубежал рядом. Я потёр сонные глаза, лицо было влажным, как будто только что умылся. «Мам, потри лицо… вот так» — показал я радостно. Ты устало смахнула влагу со лба. Ты была такой высокой, твоё красивое уставшее лицо как будто плыло в облаках.
Мы всё шли. Я распинывал маленькие камни, валяющиеся на дороге, и пытался руками развести туман, и у меня даже чуть-чуть получалось. Скоро появились очертания домов (я подумал, что я настолько хорошо размахивал туман, что мы смогли увидеть дома!), и мы уже вошли в деревню, где было совсем необязательно видеть — ноги сами обходили ямки и вели к дому.
Как странно выглядели знакомые дома в тумане! В этих домах спали люди и даже не думали, что все они плывут, как под водой, между ночью и днём, и что открой они дверь и сделай шаг за порог — исчезли бы, растворились, как капля в море. Мне захотелось нажать на мой клаксон, чтобы включилась самая громкая сирена — пожарная. И чтобы все бабушки и дедушки вскочили со своих кроватей, выбежали из своих старых, покосившихся домов и увидели нас и этот туман и… Как бы ты заругалась на меня!
Но мы с тобой плыли мимо призрачных домов, единственные живые, и почему-то эта мысль меня очень радовала, но было жаль, что скоро мы придём домой, что встанет солнце, рассеется туман и начнется день.
Ты приставила велосипед к невысокому забору, открыла дверь в дом и отошла в сторону, чтобы я зашёл первым, но я уже качался на качели, привязанной к берёзе, и рассекал туман. «Пойдём домой, милый, я очень устала», — сказала ты. Мы вошли в сени, тихонечко прошли через гостиную, где, отвернувшись к печке, громко храпела бабушка, и вошли в спальню. Я быстро разделся, прыгнул в кровать и замотался в одеяло. «Я сейчас приду», — сказала ты, и вышла в гостиную. Почему-то тебя долго не было.
Я смотрел в большие незанавешенные окна. Всё исчезло в тумане – и деревья, и угол нашего сарая, и дом баб Раи, стоявший через дорогу. Только кусты сирени зе́лено выглядывали из тумана, едва касаясь стёкол, будто стучались в окна и просили войти. Я подумал, что мы теперь тоже, как все – внутри большого-большого корабля, и стоит только уснуть – он снимется с якоря, тронется и поплывет бог знает куда.
Мы возвращались от твоих друзей. Для меня всегда было большой радостью ездить к ним. Правда, сейчас я почти никого не помню — ни лиц, ни имен. Но помню, что был вне себя от счастья, когда в чужом доме меня встречали с объятиями, предлагали конфеты и, смерив взрослым взглядом, говорили: «Как ты вырос!», хотя и видели меня месяц, а то и неделю назад. Потом я сидел рядом с тобой и, прихлёбывая чай, как взрослый, слушал ваши разговоры, которых я тоже не помню.
Я еле-еле дотягивался до стола, поэтому, чтобы быть хотя бы чуть-чуть ближе к вам, я подкладывал под себя несколько подушек, на которых было не так-то легко усидеть, и тогда ты назвала меня Султаном. Мне почему-то это нравилось. О чем вы говорили в тот день? Наверное, что-то говорили про отца, про его работу, благодаря которой мы всё лето могли проводить в деревне, или перемывали косточки соседям и знакомым или злобным бабкам, которых я боялся, как огня, или просто вспоминали школьные годы, молодость.
Помню, как я увидел твою детскую фотографию и не поверил, что это ты. Для меня было невозможным представить, что ты когда-то была такой же как я — маленькой, беззащитной, похожей на мальчика и на девочку сразу из-за чистой, кукольной красоты.
Это была чёрно-белая фотография. На тебе были надеты полосатый купальник и тёмная панамка с маленькой вышивкой якоря. Ты смеялась, показывая крохотные, ровные молочные зубки, и всё-таки хоть я не мог поверить, что это ты, мы были похожи. Я смотрел на себя в зеркало и на твою фотографию и мне казалось, что мы — это один и тот же человек, и от этой мысли сладко крутило живот.
Ты много смеялась со своими друзьями. Твои щеки розовели, и лицо становилось радостным – хотя я почти не помню тебя грустной и бледной. Вы пили из разноцветных стопок, морщились и нюхали огурцы и хлеб, а я все не мог понять вкусно вам или нет, потому что вы то с наслаждением и оттяжкой говорили «Хорошо-о-о!», то шипели, так будто хлебнули бензина. Мне всегда хотелось попробовать хотя бы каплю из ваших стопок, а ты запрещала мне, говоря, что я ещё маленький. Многое в вашем мире было мне непонятным, чуждым и желанным. Всё, о чем вы говорили, было для меня тайной, другим языком, на котором я мечтал научиться говорить, но никак не мог. Может быть, поэтому я ничего не помню, а очень бы хотелось.
Во сколько бы мы ни уезжали, мне всегда казалось, что мы уезжаем рано, либо я засыпал, сам того не замечая. Тогда ты ласково гладила меня по голове и говорила: «Кирюша, вставай. Нам пора ехать, милый». Я еле продирал глаза, неохотно поднимался, снова падал, хныкал, забыв о твоих друзьях, о тебе, о доме, но ты брала меня за руку, аккуратно поднимала, надевала ботиночки, говорила что-то ласковое, а я клевал носом и моё тело медленно падало на подушки, на которых я только что сидел бодрый и счастливый. Ты поднимала меня, и постепенно я возвращался к тебе.
Мы ездили к твоим друзьям на старом высоком велосипеде, на который я никогда не мог забраться сам. Специально для меня папа прикрутил на раму сиденье, и, чтобы не свалиться, я держался руками за металлическое основание руля, всегда холодное.
В тот день был сильный туман, отчего весь велосипед покрылся влагой. Ты протёрла сиденья рукавом и выкатила велосипед на дорогу. Мы помахали твоим друзьям, стоявшим у открытой калитки, ты посадила меня на высокую раму, и мы поехали. Наверное, хватило трех оборотов педалей, чтобы полностью исчезнуть из поля зрения — настолько был густой туман.
Ехать было не близко — в соседнюю деревню. На своем велосипедике я бы добирался целый день, а то и больше. Стояла пугающая тишина, только редкие птицы и мерный скрип колес напоминали о том, что мир жив. Я точно бы расплакался, окажись я в это время на дороге один, но со мной была ты.
Мы ехали медленно, чтобы не попасть в яму и не налететь на ствол дерева или камень. Дорога была проселочной, неровной, вся в колдобинах, которые папа называл лежачими полицейскими и шутил, что это он её ремонтировал. Даже в ясную погоду по ней ездили аккуратно. Руль призрачно мерцал в туманной дымке, вытяни руку — и пальцы бледнели, будто растворялись.
Деревья, утопая в тумане, то появлялись, то исчезали, то снова появлялись, как миражи, и пугали меня своей кривизной, неподвижностью, внезапной таинственностью. Мне казалось, что в них кто-то прячется и в любую секунду может выскочить и напасть на нас. Но никто не выскакивал. Деревья стояли так же неподвижно, вонзив в туман зеленые ветки.
Ещё на нашем велосипеде был разноцветный электронный клаксон – все называли его гудок, но мне почему-то нравилось именно слово «Клак-сон!». Вы с папой подарили его мне в начале лета. Когда мы куда-то ездили вместе, я всегда снимал его со своего велосипеда и прикручивал на твой. Он умел выть как пожарная сирена, сигнализация или «скорая помощь» и мерцал красным светом во все стороны, как лампочка милицейской машины. Я думал, что все должны уступать мне дорогу, когда он включен, но пока что не проверял.
Когда я услышал шорох (из-за тумана не было понятно, откуда он доносился), то резко нажал на первую попавшуюся кнопку. Завыла пожарная сирена, красный свет заскользил по туману. Ты вздрогнула и дёрнула рулём. «Сынок, – сдержанно сказала ты, – не надо его включать, пожалуйста». «Ну, я хотел спугнуть…» – ответил я виновато. «Кого?» — улыбнулась ты. Я не видел твоего лица, но знал, что ты улыбнулась. «Не знаю, — задумался я, — кабанов…» Ты засмеялась.
Чем глубже я вглядывался в туман, тем больше фантазировал. Мне виделись медведи и волки, преступники с ножами и пистолетами и неизвестные существа, которые меня пугали. Но не все мои фантазии были жуткими. Я видел бабушку, собирающую цветы – глуповато, бессмысленно улыбающуюся. Она часто бродила по этой дороге. Вдруг, подумал я, она собирает их днём и ночью, но сейчас ведь не день и не ночь, а, как сказала мама, что-то посередине, между. Значит, никого кроме нас здесь быть не может. «Мама, — спросил я, — но ведь обычно мы в это время cпим. Значит, сейчас ночь?». Ты была уставшей и ответила не сразу. «Мам!» «Не знаю, сынок». Ты всегда отвечала так, когда была уставшей или печальной. Тогда я понимал, что не нужно тебя донимать.
Я смотрел на твои загорелые руки, крепко державшие руль. Как такие сильные руки могут быть такими нежными? Я хорошо помню, как ты работала на сенокосе. Я прыгал на травяные кучки, дурачился, а ты бросала траву большими вилами. Я знал, что они тяжелые, потому что сам пробовал поднять их и подцепить сено, но они перевешивали меня, вонзались в мягкую землю и падали потемневшим черенком на траву.
Где мы едем? Скоро ли доберёмся до дома? И доберёмся ли мы до него через этот туман? Я не хотел донимать тебя вопросами. Как странно, как жутко, как прекрасно было ехать с тобой по родной дороге и не узнавать ничего вокруг!
Мне становилось скучно, я устал от своих мыслей и фантазий, от тумана. Я начал клевать носом. «Не спи, милый, а то упадёшь, — сказала ты, — потерпи ещё чуть-чуть. Скоро уже будем дома». Я обрадовался, что ты сама со мной заговорила. И тут же спросил: «А где мы едем?» «У Савинского», — ответила ты. Я знал только, что Савинское находится посередине между нашей деревней и Никольским Торжком, откуда мы выехали. Значит, осталось ещё столько же.
Казалось, туман сгущался, потому что даже деревьев видно не было. После Савинского лес стоял поодаль от дороги, а по обе стороны пролегали поля, усыпанные стогами, но ничего не было видно. Я изо всех сил старался разглядеть дорогу сквозь туман, и мне казалось, что ещё чуть-чуть и у меня откроется суперспособность, но что-то выскочило навстречу, ты вскрикнула и резко повернула руль.
От страха я успел только невнятно промычать: «Ма-а-а-ма!» Всё самое жуткое пронеслось перед моими глазами в ту секунду. На нас бежали дикие кабаны с огромными бивнями, медведи разрывали нас на части, злодеи вонзали ножи в наши тела и стреляли из пистолетов.
У меня перехватило дыхание. Наш велосипед чуть не рухнул, но ты удержала его и как-то поймала меня. Я вцепился в тебя и прижался к твоей ноге. «Ну тихо, тихо, — сказала ты, — всё хорошо». Потом твой голос поменялся. «Надо по правой стороне ездить!» — сказала ты, как говорила со мной, когда я хулиганил или не слушал тебя. Мужской хриплый голос ответил: «Эх, бабочка, прости. Вон туман какой! Хрен поймешь где право, где лево!».
Я открыл глаза. Рядом с нами стоял дедушка и придерживал велосипед, очень похожий на наш, но, конечно, без второго седла и красивого клаксона. Из его рюкзака торчала маленькая удочка, и она была похожа на антенну. Я чувствовал свое сердце — как оно бешено стучит, и думал, что ты, наверное, тоже его слышишь! Перед глазами пульсировали белые пятна. Увидев дедушку, я успокоился.
«Нина, ты чтоль?» — спросил он, подойдя ближе, и я узнал в нём дядю Сёму. Вы немного поговорили, а потом он потрепал меня по голове большой твердой рукой, прыгнул на велосипед и исчез в тумане. Дядя Сёма тоже был между ночью и днём – прямо как мы. И я подумал, что он очень смелый, раз не боится ехать в одиночку.
Ты обняла меня. «Давай пройдемся пешком? — сказала ты, — всё равно до дома немного осталось, а то опасно. Туман совсем сгустился». Туман и правда был гуще, чем в Никольском Торжке. Я не мог разглядеть даже ботинки. Мы пошли пешком. «Мама, — сказал я, — а можно я нажму, чтобы посветить чуть-чуть?». «Нажми», — не глядя сказала ты. Не прошло и секунды, как посреди тишины раздался вой полицейской машины. Лампочки засветились, но лучше видно не стало.
Ты везла велосипед, я полубежал рядом. Я потёр сонные глаза, лицо было влажным, как будто только что умылся. «Мам, потри лицо… вот так» — показал я радостно. Ты устало смахнула влагу со лба. Ты была такой высокой, твоё красивое уставшее лицо как будто плыло в облаках.
Мы всё шли. Я распинывал маленькие камни, валяющиеся на дороге, и пытался руками развести туман, и у меня даже чуть-чуть получалось. Скоро появились очертания домов (я подумал, что я настолько хорошо размахивал туман, что мы смогли увидеть дома!), и мы уже вошли в деревню, где было совсем необязательно видеть — ноги сами обходили ямки и вели к дому.
Как странно выглядели знакомые дома в тумане! В этих домах спали люди и даже не думали, что все они плывут, как под водой, между ночью и днём, и что открой они дверь и сделай шаг за порог — исчезли бы, растворились, как капля в море. Мне захотелось нажать на мой клаксон, чтобы включилась самая громкая сирена — пожарная. И чтобы все бабушки и дедушки вскочили со своих кроватей, выбежали из своих старых, покосившихся домов и увидели нас и этот туман и… Как бы ты заругалась на меня!
Но мы с тобой плыли мимо призрачных домов, единственные живые, и почему-то эта мысль меня очень радовала, но было жаль, что скоро мы придём домой, что встанет солнце, рассеется туман и начнется день.
Ты приставила велосипед к невысокому забору, открыла дверь в дом и отошла в сторону, чтобы я зашёл первым, но я уже качался на качели, привязанной к берёзе, и рассекал туман. «Пойдём домой, милый, я очень устала», — сказала ты. Мы вошли в сени, тихонечко прошли через гостиную, где, отвернувшись к печке, громко храпела бабушка, и вошли в спальню. Я быстро разделся, прыгнул в кровать и замотался в одеяло. «Я сейчас приду», — сказала ты, и вышла в гостиную. Почему-то тебя долго не было.
Я смотрел в большие незанавешенные окна. Всё исчезло в тумане – и деревья, и угол нашего сарая, и дом баб Раи, стоявший через дорогу. Только кусты сирени зе́лено выглядывали из тумана, едва касаясь стёкол, будто стучались в окна и просили войти. Я подумал, что мы теперь тоже, как все – внутри большого-большого корабля, и стоит только уснуть – он снимется с якоря, тронется и поплывет бог знает куда.



