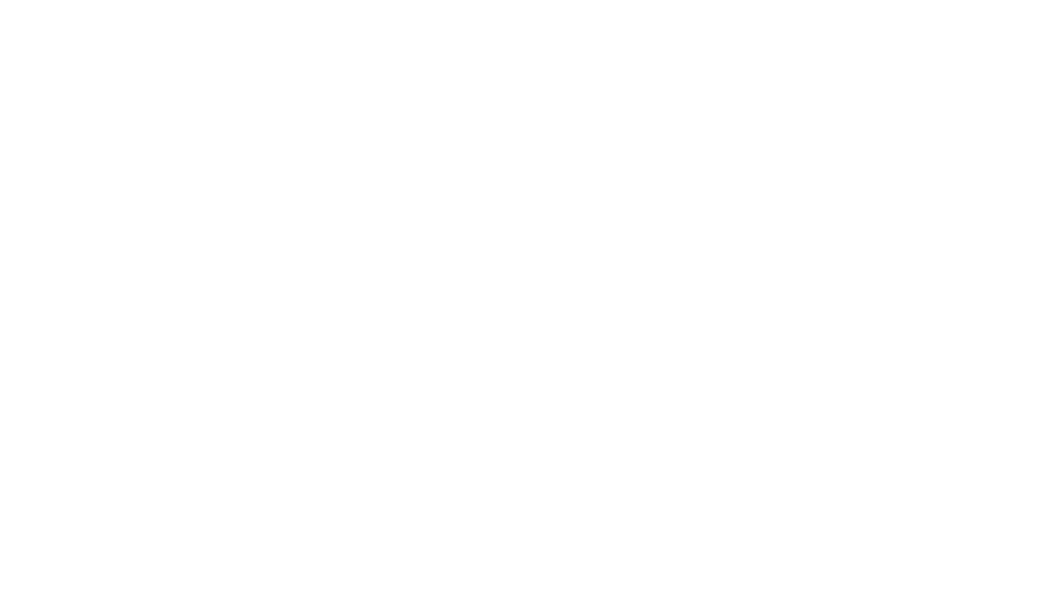
Кирилл Моргунов — Сарафан отечественного стихотворчества
(Князев, Г. Живые буквы / Г. Князев. — Москва: АСПИ, 2022. — 124 с.)
Кирилл Моргунов. Родился в г. Череповец, Вологодской обл. Учится в Литературном институте им. А. М. Горького на 3-м курсе (семинар поэзии Г. Н. Красникова). Публиковался в журналах «Москва», «Урал», «Алтай». Входил в шорт-лист Волошинского фестиваля в номинации «Кто верит в жизнь, тот верит чуду…» В настоящее время живёт в Москве.
Крупные, а подчас ключевые явления русской поэзии укладывались в тоненькие брошюры — та же «Тяжелая Лира» В. Ходасевича, которая до сих пор продаётся в букинистических магазинах. «Камень» Мандельштама насчитывал чуть больше тридцати страниц, а «Вечер» двадцатитрехлетней Ахматовой включал в себя всего сорок стихотворений. Совсем небольшими по объему делали книги и наши современники: О. Чухонцев («Фифиа»), М. Гронас («Дорогие Сироты»), Г. Дашевский («Дума Иван-Чая») и т. д. Маленькие книги всегда говорили о «величии замысла» и масштабе автора.
Книга Г. Князева занимает 124 страницы и состоит из довольно большого количества стихотворений, разделённых на «взрослые» и «детские». Это вызывает недоумение – то ли автор хочет, чтобы книгу читали «и те, и те», то ли пытается показать, что может «и так, и эдак».
Желание развернуть поэтическое высказывание и показать масштаб (и, видимо, многогранность) своего творчества оборачивается у Князева семантической и тематической избыточностью, отчего тексты сливаются и звучат «на один лад». Так, мотив души, заключённой в тюрьму тела, используется в нескольких стихотворениях:
Лишь ночь сомкнётся, свет глуша
на кухне, в спальне и прихожей
из тела вылетит душа,
мерцавшая под тонкой кожей.
Мало того, что этот мотив старее Кантемира, но и разворачивается он банально: душа летает «то вдаль, то ввысь», а потом возвращается в тело. Как известно, настоящее стихотворение невозможно пересказать. А здесь даже довольно точный пересказ звучит до боли знакомо. Вот ещё подобные строчки: «Натуру, личность, душу где мою / Найду, как отличу её…» Так и мы, подобно лирическому герою, с трудом отличаем одно от другого.
Лирический герой «Живых букв» то бродит по весенним улицам, кладбищам, родным местам, то совершает умозрительный шаг в «ныбытиё» и «чёрный ваккум». Движимый любовью к жизни и страхом смерти — в общем-то самыми простыми, и самыми сильными чувствами — он хватается за всё предметное и ощутимое, чтобы глубже «врасти» в жизнь и артикулирует сложнейшие ощущения точно и внятно: «За всякую материю живую / Беспомощно хватаясь на ходу». Тут концентрируется то главное и ценное, что есть в книге: ощущение свободного падения через жизнь, и редчайшие моменты, когда получается за что-то схватиться, на миг остановить это падение и взглянуть на мир по-другому, глубоко проникая в природу, людей и собственное «я»: «Жизнь творится на ходу, / И нечаянная радость…»
Жаль, что подобные удачи теряются среди большого количества литературных игр (и заигрываний — стихотворение «Живые буквы»), этюдов, квази-философских, а подчас и просто заурядных мыслей, одетых в сарафан «отечественного стихотворчества»:
Что знаю о себе, и надо ли,
Две бездны — жизнь и смерть — тая,
Куда слова и сны попадали,
Встречаться мне с моим же «я»?
<…>
Касаясь своего предплечья,
Свои же кудри теребя,
Что если никогда не встречу я
И не услышу сам себя?
Здесь не сообщается ничего нового, а говорится лишь известное известным языком. Стилистическая высокопарность (которая, кстати сказать, особенно сквозит в стихах о поэзии: «нас тянет к сферам высшим / поэзьи вещество»), вкупе с общими местами («…Бежим — и сердце на засов») и классической, чуть приподнятой интонацией — возможно, поэтов XIX века — даёт не стихотворения, но симулякры стихотворений. Хотя и крепко написанные.
Из-за этого порой кажется, что Князев не следует русской стихотворной традиции, а эксплуатирует её, то есть использует уже готовую сшитую и отглаженную лирическую материю. Так в стихотворении «Кто жил с горячей головой» мы слышим разноголосицу XIX века — и Пушкина, и Баратынского, и Батюшкова, но не слышим Князева:
И ты, нарушивший запрет,
Так много сам себе позволил:
Как сумасшедший, нёс ты бред,
Как проповедник, ты глаголил!
Четверостишие напоминает стилизацию, но это — не приём и не метод, а плотно укоренившийся способ говорения — чужими голосами. А ведь у Князева есть голос, и очень интересный — по-детски наивный, но в то же время говорящий о сложном простым и внятным языком: «Нам любовь во смиренье дана — / Чтоб остаться детьми друг для друга». Но пробивается этот голос редко. Количество в данном случае вредит качеству и не позволяет простить неудачи, даже учитывая мастерство, необыкновенную оптику свободного падения через жизнь и другие, уже обозначенные, достоинства.
Как и всякая поэтическая книга, «Живые буквы» — это попытка сказать весомое слово в поэзии. В ней есть широкий охват серьезных тем, богатство поэтических приёмов и методов — видно, что книга составлена с любовью и старанием. Но нет главного: события, новости. Традиция не обогащает, но поглощает Князева, обезличивает, делает его зависимым, сбивает все ориентиры. Вроде бы читаешь поэта Князева (по крайней мере так обозначено на обложке), но всякий раз задаешься вопросом: «Его ли это язык? Принадлежит ли он ему?» Говорить таким языком сейчас — всё равно что строить небоскрёб из брёвен и гвоздей от русской избы. Я ни в коем случае не призываю вписываться в ландшафт «актуальной поэзии», но повторяю известную истину: из старого нельзя создать новое.
Книга Г. Князева занимает 124 страницы и состоит из довольно большого количества стихотворений, разделённых на «взрослые» и «детские». Это вызывает недоумение – то ли автор хочет, чтобы книгу читали «и те, и те», то ли пытается показать, что может «и так, и эдак».
Желание развернуть поэтическое высказывание и показать масштаб (и, видимо, многогранность) своего творчества оборачивается у Князева семантической и тематической избыточностью, отчего тексты сливаются и звучат «на один лад». Так, мотив души, заключённой в тюрьму тела, используется в нескольких стихотворениях:
Лишь ночь сомкнётся, свет глуша
на кухне, в спальне и прихожей
из тела вылетит душа,
мерцавшая под тонкой кожей.
Мало того, что этот мотив старее Кантемира, но и разворачивается он банально: душа летает «то вдаль, то ввысь», а потом возвращается в тело. Как известно, настоящее стихотворение невозможно пересказать. А здесь даже довольно точный пересказ звучит до боли знакомо. Вот ещё подобные строчки: «Натуру, личность, душу где мою / Найду, как отличу её…» Так и мы, подобно лирическому герою, с трудом отличаем одно от другого.
Лирический герой «Живых букв» то бродит по весенним улицам, кладбищам, родным местам, то совершает умозрительный шаг в «ныбытиё» и «чёрный ваккум». Движимый любовью к жизни и страхом смерти — в общем-то самыми простыми, и самыми сильными чувствами — он хватается за всё предметное и ощутимое, чтобы глубже «врасти» в жизнь и артикулирует сложнейшие ощущения точно и внятно: «За всякую материю живую / Беспомощно хватаясь на ходу». Тут концентрируется то главное и ценное, что есть в книге: ощущение свободного падения через жизнь, и редчайшие моменты, когда получается за что-то схватиться, на миг остановить это падение и взглянуть на мир по-другому, глубоко проникая в природу, людей и собственное «я»: «Жизнь творится на ходу, / И нечаянная радость…»
Жаль, что подобные удачи теряются среди большого количества литературных игр (и заигрываний — стихотворение «Живые буквы»), этюдов, квази-философских, а подчас и просто заурядных мыслей, одетых в сарафан «отечественного стихотворчества»:
Что знаю о себе, и надо ли,
Две бездны — жизнь и смерть — тая,
Куда слова и сны попадали,
Встречаться мне с моим же «я»?
<…>
Касаясь своего предплечья,
Свои же кудри теребя,
Что если никогда не встречу я
И не услышу сам себя?
Здесь не сообщается ничего нового, а говорится лишь известное известным языком. Стилистическая высокопарность (которая, кстати сказать, особенно сквозит в стихах о поэзии: «нас тянет к сферам высшим / поэзьи вещество»), вкупе с общими местами («…Бежим — и сердце на засов») и классической, чуть приподнятой интонацией — возможно, поэтов XIX века — даёт не стихотворения, но симулякры стихотворений. Хотя и крепко написанные.
Из-за этого порой кажется, что Князев не следует русской стихотворной традиции, а эксплуатирует её, то есть использует уже готовую сшитую и отглаженную лирическую материю. Так в стихотворении «Кто жил с горячей головой» мы слышим разноголосицу XIX века — и Пушкина, и Баратынского, и Батюшкова, но не слышим Князева:
И ты, нарушивший запрет,
Так много сам себе позволил:
Как сумасшедший, нёс ты бред,
Как проповедник, ты глаголил!
Четверостишие напоминает стилизацию, но это — не приём и не метод, а плотно укоренившийся способ говорения — чужими голосами. А ведь у Князева есть голос, и очень интересный — по-детски наивный, но в то же время говорящий о сложном простым и внятным языком: «Нам любовь во смиренье дана — / Чтоб остаться детьми друг для друга». Но пробивается этот голос редко. Количество в данном случае вредит качеству и не позволяет простить неудачи, даже учитывая мастерство, необыкновенную оптику свободного падения через жизнь и другие, уже обозначенные, достоинства.
Как и всякая поэтическая книга, «Живые буквы» — это попытка сказать весомое слово в поэзии. В ней есть широкий охват серьезных тем, богатство поэтических приёмов и методов — видно, что книга составлена с любовью и старанием. Но нет главного: события, новости. Традиция не обогащает, но поглощает Князева, обезличивает, делает его зависимым, сбивает все ориентиры. Вроде бы читаешь поэта Князева (по крайней мере так обозначено на обложке), но всякий раз задаешься вопросом: «Его ли это язык? Принадлежит ли он ему?» Говорить таким языком сейчас — всё равно что строить небоскрёб из брёвен и гвоздей от русской избы. Я ни в коем случае не призываю вписываться в ландшафт «актуальной поэзии», но повторяю известную истину: из старого нельзя создать новое.



