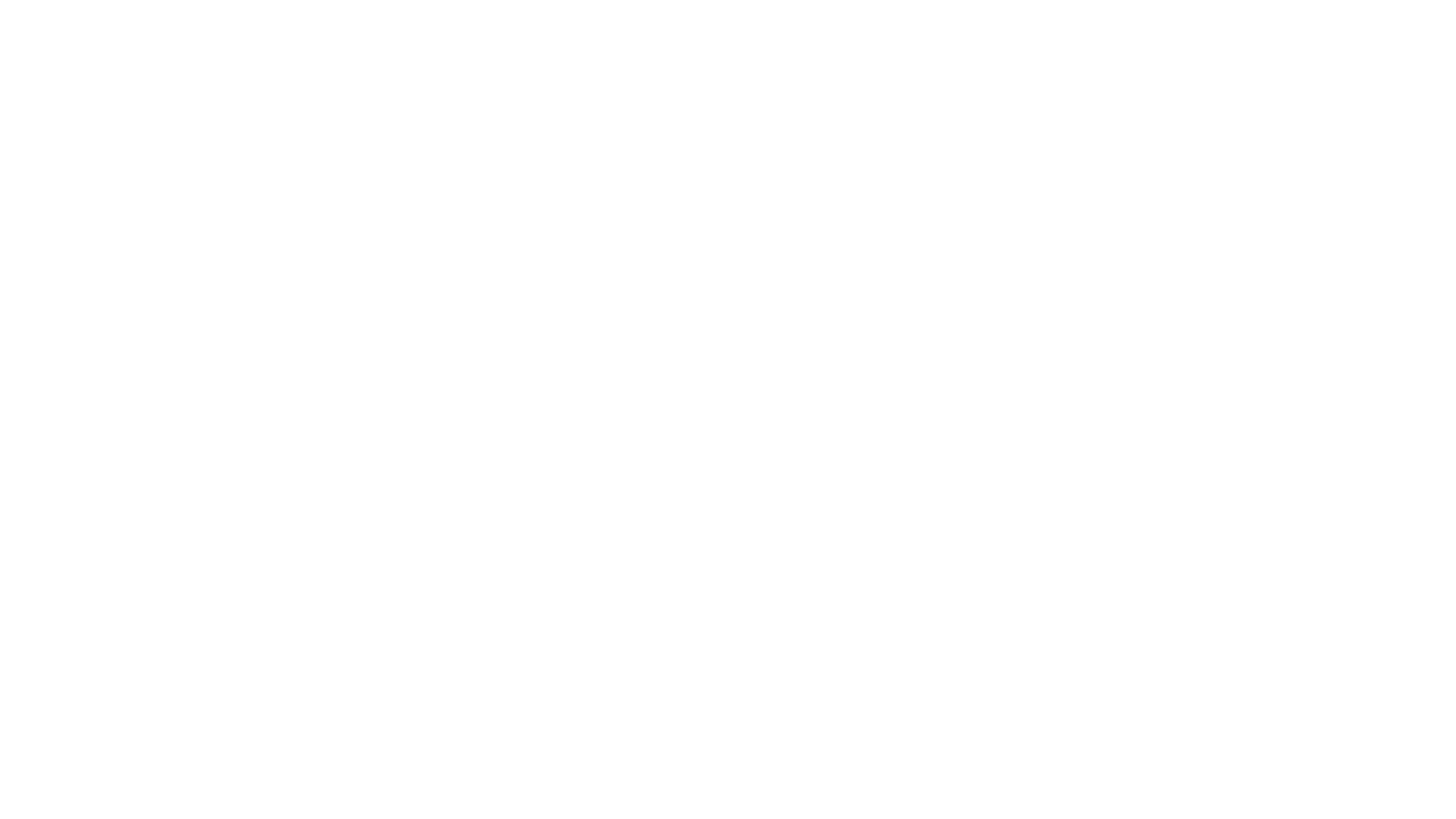
Алексей Мошков — Изобретение жанра, или Возвращение к истоку
От фонаря / Владимир Гандельсман. — М.: Новое литературное обозрение, 2024.
Бытует такое мнение, что если поэт (подчёркнем, что речь идет о действительно значительных поэтах) обращает к форме романа (точнее, к большой прозаической форме, коей может быть и повесть), то последний всегда выступает как бы некоей вершиной, чуть ли не квинтэссенцией его творчества (что подтверждается, допустим, такими примерами, как «Доктор Живаго» Пастернака или та же «Старуха» Хармса). Однако, тут же нельзя не отметить её спорности и даже определённой противоречивости данной точки зрения нельзя, так как поэзия в сопоставлении с прозой всегда стояла на ступеньку выше: от «дара богов» (Гёльдерлин) до «высшей формы словесности» (Бродский); даже Хайдеггер, не делающий различия меж «чистой поэзией» и «чистой прозой», уделял внимание исключительно поэтам: Гёльдерлину, Траклю и Рильке. К тому же даже те примеры, которые якобы подтверждают справедливость этого положения, не могут претендовать на универсальность, то есть убедить большинство, имеющее то или иное отношение к литературе (взять того же Бориса Леонидовича, к которому претензий как к прозаику куда больше, чем как к поэту).
Но тем не менее представим, что данное мнение не только имеет право на существование (а такое право оно, без сомнения, имеет), но и является верным. Разумеется, только на время и в качестве отправной точки, что, в свою очередь, как раз и вызвано обращением к прозе одного из главных/ведущих поэтов современности (имеется в виду русскоязычное пространство) Владимира Гандельсмана. И здесь, конечно, было бы очень удобно обратиться к заданному взгляду, тем более что на уровне содержания во многом его роман под – отчасти и на первый взгляд – слегка хулиганским названием «От фонаря», как бы соответствует сему тезису, вбирая многие темы его поэтического творчества. Однако, перевернув последнюю страницу, приходится констатировать наличие серьезной проблемы, а именно: проблемы определения. Ибо, как бы это ни звучало странно, но «От фонаря» не подпадает под определение «романа» и вообще плохо поддаётся определению. Текст, который лишен контекста, в смысле отсутствия ряда предшественников, неких столбов-ориентиров, посредством сопоставления с которыми «От фонаря» можно было бы поместить в некую систему координат на строго определенное для неё место – условно – в точку пересечения оси х и y (пусть даже в качестве вершины творчества, но в ряду предшественников, влияний и проч., то есть в рамках некоей – и необязательно классической – традиции). Но в случае Гандельсмана как – условно – прозаика это сделать не выходит.
Но тем не менее представим, что данное мнение не только имеет право на существование (а такое право оно, без сомнения, имеет), но и является верным. Разумеется, только на время и в качестве отправной точки, что, в свою очередь, как раз и вызвано обращением к прозе одного из главных/ведущих поэтов современности (имеется в виду русскоязычное пространство) Владимира Гандельсмана. И здесь, конечно, было бы очень удобно обратиться к заданному взгляду, тем более что на уровне содержания во многом его роман под – отчасти и на первый взгляд – слегка хулиганским названием «От фонаря», как бы соответствует сему тезису, вбирая многие темы его поэтического творчества. Однако, перевернув последнюю страницу, приходится констатировать наличие серьезной проблемы, а именно: проблемы определения. Ибо, как бы это ни звучало странно, но «От фонаря» не подпадает под определение «романа» и вообще плохо поддаётся определению. Текст, который лишен контекста, в смысле отсутствия ряда предшественников, неких столбов-ориентиров, посредством сопоставления с которыми «От фонаря» можно было бы поместить в некую систему координат на строго определенное для неё место – условно – в точку пересечения оси х и y (пусть даже в качестве вершины творчества, но в ряду предшественников, влияний и проч., то есть в рамках некоей – и необязательно классической – традиции). Но в случае Гандельсмана как – условно – прозаика это сделать не выходит.
«От фонаря» не подпадает под определение «романа» и вообще плохо поддаётся определению. Это текст, который лишен контекста.
Да и в какой ряд его «укомплектовать», с кем его сопоставить?
Может, с Прустом, тем более что тот упоминается в тексте несколько раз (и не мимоходом: «На протяжении многих лет Пруст был нашим с Дмитрием избранником»), что при известном желании вполне можно интерпретировать как намёк? Возможно, но только если апофатически. То есть Пруст поглощен страстью по ушедшему (памяти), по времени, которое он может обрести, только его зафиксировав, причем по возможности максимально въедливо и точно, и тут без романной формы не обойтись. У Владимира Аркадьевича совсем иной корень: «Я хотел бы избавиться от памяти. Не обрести время, а избавиться от него. Для того и существуют, видимо, стихи. Не потому, что в них автор вспоминает что-то, чтобы забыть, а потому, что ничего не помнит. А в прозе всегда есть досадная необязательность. Разница в том, что стихи, когда захотят, тогда и приходят, сами и с тем, что придумано не им самим, не поэтом, не поспоришь, а прозу надо собирать скрупулезно и умышленно, и еще неизвестно, что подберешь в своем мелочном поиске красок для крупного полотна», – говорит он в своём тексте (пока все-таки лучше избегать определения «роман»). И потом возвращается к этой мысли, уточняя: «Смысл поисков утраченного времени состоит не в конечном обретении его (это невозможно), но в утрачиваемом времени, в том времени, которое уходит на поиски… Я интуитивно стремился к тому, чтобы выпадать в это, по существу, безвременье. Именно так. Я останавливаюсь. Я хочу это повторить. Находясь в поисках утраченного времени, мы находим и обретаем утрачиваемое время. И это главное. Правда, о нем нельзя сказать «находим и обретаем». Вернее сказать – мы в нем бесследно исчезаем. А раз бесследно, значит, счастливо, – там нет горя».
Может, с Прустом, тем более что тот упоминается в тексте несколько раз (и не мимоходом: «На протяжении многих лет Пруст был нашим с Дмитрием избранником»), что при известном желании вполне можно интерпретировать как намёк? Возможно, но только если апофатически. То есть Пруст поглощен страстью по ушедшему (памяти), по времени, которое он может обрести, только его зафиксировав, причем по возможности максимально въедливо и точно, и тут без романной формы не обойтись. У Владимира Аркадьевича совсем иной корень: «Я хотел бы избавиться от памяти. Не обрести время, а избавиться от него. Для того и существуют, видимо, стихи. Не потому, что в них автор вспоминает что-то, чтобы забыть, а потому, что ничего не помнит. А в прозе всегда есть досадная необязательность. Разница в том, что стихи, когда захотят, тогда и приходят, сами и с тем, что придумано не им самим, не поэтом, не поспоришь, а прозу надо собирать скрупулезно и умышленно, и еще неизвестно, что подберешь в своем мелочном поиске красок для крупного полотна», – говорит он в своём тексте (пока все-таки лучше избегать определения «роман»). И потом возвращается к этой мысли, уточняя: «Смысл поисков утраченного времени состоит не в конечном обретении его (это невозможно), но в утрачиваемом времени, в том времени, которое уходит на поиски… Я интуитивно стремился к тому, чтобы выпадать в это, по существу, безвременье. Именно так. Я останавливаюсь. Я хочу это повторить. Находясь в поисках утраченного времени, мы находим и обретаем утрачиваемое время. И это главное. Правда, о нем нельзя сказать «находим и обретаем». Вернее сказать – мы в нем бесследно исчезаем. А раз бесследно, значит, счастливо, – там нет горя».
«Я хотел бы избавиться от памяти. Не обрести время, а избавиться от него. Для того и существуют, видимо, стихи».
И это, понятно, не может не отражаться на самой структуре произведения, которая в противовес прустовской дотошности, если не сказать феноменальной зацикленности (что не отметает, но усиливает как бы изнутри связность и линейность повествования) – обрывочна и фрагментарна. Что не ускользает и от самого автора (его взгляд в качестве стороннего наблюдателя – строг и внимателен), к примеру, такой диалог:
«— Знаешь, почему ты не хочешь писать «намеренную прозу»?
— Мне это не дано.
— Не потому, что не дано, — тут Дым решил загладить резкость первой фразы, хотя чего там заглаживать, это его манера, — а потому, что все мировые рекорды, которые устанавливали Пруст, Джойс и прочие, которые поменьше, устарели до того, как их начали устанавливать графоманы-новобранцы…»
В «От фонаря» нет линейного повествования, что не является синонимом отсутствия связности: он ведет нескольких персонажей (трёх, не считая самого автора и его брата – автора своего романа, попутно затрагивая ещё нескольких) и доводит их до конечной логической точки – смерти (тут же давая ответ, почему так: «Все творчества — кульминация головокружительного ужаса смерти»), но не прямыми путями, а, скорее, окольными, кривыми, пользуясь и «чужими» рассказами, и своими, и воспоминаниями, и снами, и проч. Можно сказать, как бог на душу положит, что отличает (в случае с Гандельсманом от этого рефрена, думается, не избавиться) его от классики фрагментарной прозы, взять, к примеру, хоть «Пока нас держат» Энн Майклз, где та же фрагментация строго продумана и композиционно выстроена: структурирована. У Владимира Аркадьевича совершенно иначе (как бы в голове есть несколько нарративов, но который актуализируется в данный момент – не ведает и сам автор). Элемент случайности (как дальше будет видно) или даже так: его величество Случай становится методом, напоминая дневник («Вот уже сорок лет я веду дневник, но никому не показываю, почти никто и не знает о моем тайном увлечении»; как вариант – записная книжка: «Жизнь превратилась в записную книжку. В то, чем она всегда была, но не признавала, претендуя на сюжет. Если сказать в духе ложно-выразительной прозы, то в юности жизнь вроде перекидного календаря — вперед пролистнул, отбросил назад — ничего не меняется. Но в старости мы имеем дело с календарем отрывным. И записи становятся отрывочными…»).
Но – лишь напоминая: «От фонаря» – это, с одной стороны, не сугубо форма, в которую облачена некая история (как в «Тошноте» Сартра) и не записи сугубо «от фонаря» (второй, поверхностный смысл названия, что я и назвал «хулиганским» элементом; о других ниже) (как в том же «Дневнике неудачника» Лимонова или же «Записках психопата» Ерофеева), хотя местами автор и уходит в тотальную фрагментированность/афористичность, точно бы соперничая, и не безуспешно, с признанным мастером жанра Эмилем Чораном («Но с некоторых (и уже давнишних) пор ум мало что и занимает, потому что сосредоточиться на чем-то, что отвлекает от слегка ошеломительной заброшенности в жизнь, уже не могу. Сейчас я меньше верю в то, что жизнь — это лишь происходящее со мной и вокруг, что она — вот это видимое и чувствительное расположение тел в пространстве и во времени, и только. Но я еще очень привязан к этой варварской вере»), но снова же гандельсмановские «горькие силлогизмы» (а их можно было бы издать и отдельной книжицей, они стоят того) – они не являются какими-то инородными телами, украшениями, вставками-для-разнообразия, но сообразуются с общей линией (условной и кривой), общим ходом повествования.
И это – только первая часть, а есть ещё и вторая, которая представляет собой роман его (протагониста) брата Александра, представленный в виде стихов, снабженных комментариями (а некоторые комментарии снабжены ещё и комментариями самого главного героя). На первый взгляд, тут само собой напрашивается аналогия с «Бледным огнём» Набокова. Но снова же: если у Владимира Владимировича это вполне монолитная конструкция, то у Владимира Аркадьевича связь не так крепка: её будто бы и нет вовсе (кроме разве что жизни Александра), любое стихотворение можно переставить или вообще изъять. Здесь любитель бабочек и его тёзка соотносятся как модернист и постмодернист. Кстати говоря, это соотношение прослеживается ещё раз, если вернуться к первой части текста Гандельсмана: включением в оную стихотворений, что делал и Набоков. Но если у последнего стихотворения – это именно стихотворения (пусть и персонажа), то у Гандельсмана такой дифференциации не наблюдается: стихотворения у него выступают в качестве продолжения прозаического текста (вернее, было бы наоборот, но поскольку сам текст начинается с прозы – пойдем в установленном порядке), а кое-где и вовсе его замещают (одна из глав представлена в виде поэмы), демонстрируя равенство двух начал – поэтического и прозаического, транслируемого автором как нечто целостное, равнозначное и неделимое (да, с перекосом, но перекосом выравниваемым: если в первой части в качестве центрального начала выступает все же проза, то во второй – уже стихи).
«— Знаешь, почему ты не хочешь писать «намеренную прозу»?
— Мне это не дано.
— Не потому, что не дано, — тут Дым решил загладить резкость первой фразы, хотя чего там заглаживать, это его манера, — а потому, что все мировые рекорды, которые устанавливали Пруст, Джойс и прочие, которые поменьше, устарели до того, как их начали устанавливать графоманы-новобранцы…»
В «От фонаря» нет линейного повествования, что не является синонимом отсутствия связности: он ведет нескольких персонажей (трёх, не считая самого автора и его брата – автора своего романа, попутно затрагивая ещё нескольких) и доводит их до конечной логической точки – смерти (тут же давая ответ, почему так: «Все творчества — кульминация головокружительного ужаса смерти»), но не прямыми путями, а, скорее, окольными, кривыми, пользуясь и «чужими» рассказами, и своими, и воспоминаниями, и снами, и проч. Можно сказать, как бог на душу положит, что отличает (в случае с Гандельсманом от этого рефрена, думается, не избавиться) его от классики фрагментарной прозы, взять, к примеру, хоть «Пока нас держат» Энн Майклз, где та же фрагментация строго продумана и композиционно выстроена: структурирована. У Владимира Аркадьевича совершенно иначе (как бы в голове есть несколько нарративов, но который актуализируется в данный момент – не ведает и сам автор). Элемент случайности (как дальше будет видно) или даже так: его величество Случай становится методом, напоминая дневник («Вот уже сорок лет я веду дневник, но никому не показываю, почти никто и не знает о моем тайном увлечении»; как вариант – записная книжка: «Жизнь превратилась в записную книжку. В то, чем она всегда была, но не признавала, претендуя на сюжет. Если сказать в духе ложно-выразительной прозы, то в юности жизнь вроде перекидного календаря — вперед пролистнул, отбросил назад — ничего не меняется. Но в старости мы имеем дело с календарем отрывным. И записи становятся отрывочными…»).
Но – лишь напоминая: «От фонаря» – это, с одной стороны, не сугубо форма, в которую облачена некая история (как в «Тошноте» Сартра) и не записи сугубо «от фонаря» (второй, поверхностный смысл названия, что я и назвал «хулиганским» элементом; о других ниже) (как в том же «Дневнике неудачника» Лимонова или же «Записках психопата» Ерофеева), хотя местами автор и уходит в тотальную фрагментированность/афористичность, точно бы соперничая, и не безуспешно, с признанным мастером жанра Эмилем Чораном («Но с некоторых (и уже давнишних) пор ум мало что и занимает, потому что сосредоточиться на чем-то, что отвлекает от слегка ошеломительной заброшенности в жизнь, уже не могу. Сейчас я меньше верю в то, что жизнь — это лишь происходящее со мной и вокруг, что она — вот это видимое и чувствительное расположение тел в пространстве и во времени, и только. Но я еще очень привязан к этой варварской вере»), но снова же гандельсмановские «горькие силлогизмы» (а их можно было бы издать и отдельной книжицей, они стоят того) – они не являются какими-то инородными телами, украшениями, вставками-для-разнообразия, но сообразуются с общей линией (условной и кривой), общим ходом повествования.
И это – только первая часть, а есть ещё и вторая, которая представляет собой роман его (протагониста) брата Александра, представленный в виде стихов, снабженных комментариями (а некоторые комментарии снабжены ещё и комментариями самого главного героя). На первый взгляд, тут само собой напрашивается аналогия с «Бледным огнём» Набокова. Но снова же: если у Владимира Владимировича это вполне монолитная конструкция, то у Владимира Аркадьевича связь не так крепка: её будто бы и нет вовсе (кроме разве что жизни Александра), любое стихотворение можно переставить или вообще изъять. Здесь любитель бабочек и его тёзка соотносятся как модернист и постмодернист. Кстати говоря, это соотношение прослеживается ещё раз, если вернуться к первой части текста Гандельсмана: включением в оную стихотворений, что делал и Набоков. Но если у последнего стихотворения – это именно стихотворения (пусть и персонажа), то у Гандельсмана такой дифференциации не наблюдается: стихотворения у него выступают в качестве продолжения прозаического текста (вернее, было бы наоборот, но поскольку сам текст начинается с прозы – пойдем в установленном порядке), а кое-где и вовсе его замещают (одна из глав представлена в виде поэмы), демонстрируя равенство двух начал – поэтического и прозаического, транслируемого автором как нечто целостное, равнозначное и неделимое (да, с перекосом, но перекосом выравниваемым: если в первой части в качестве центрального начала выступает все же проза, то во второй – уже стихи).
Стихотворения у Гандельсмана выступают в качестве продолжения прозаического текста, а кое-где и вовсе его замещают (одна из глав представлена в виде поэмы), демонстрируя равенство двух начал – поэтического и прозаического.
Так, может, тогда поместить его в ряд «нового романа» (точнее, его реаниматора)? Из той когорты ближе всех к Гандельсману стоит Пессоа. И, действительно, какие-то параллели с его «Книгой непокоя» отыскать можно, но если у него идёт концентрация на внутреннем мире, как бы в отрыве от внешнего (чего, впрочем, в полной мере, разумеется, не выходит: из «Книги» читатель узнает довольно много о внешней стороне жизни протагониста), а потому позиционируется как «автобиография без фактов», то Гандельсман «фактов» не страшится решительно и категорически (если предположить, что его текст автобиографичен хоть отчасти), наоборот именно на них выстраивая нарратив/-ы «От фонаря» (истории друзей, брата, да и своя собственная).
Тогда метароман? Да, Владимир Аркадьевич делает определенные шаги в эту сторону, приоткрывая двери во «внутреннюю кухню» своего творческого процесса (те же пассажи о дневнике и записной книжке, описания того, как к нему приходит та или иная мысль, как он её забывает, не успев донести до бумаги:
«После очередного обхода фонарей и долгой обратной дороги я захожу в кафе рядом с моим домом. Хотел что-то «взять на заметку», но забыл что. Вот сию секунду хотел и сию же секунду забыл. Иногда является мысль, а записать нечем. Я знаю, как поступать в таких случаях: не пытаться ее удержать, но помнить только, что она есть. Я стараюсь не стараться ее воспроизвести. Я знаю, что иначе непременно забуду. Именно это и произошло. Ничего страшного. Если она решит, что никто лучше меня ее не запишет, что это она забыла меня и что я такого жестокого забвения не заслуживаю, – вернется»); как делает правку либо отказывается от нее с указанием мотивировки: «В сентябре 1976 года Андрея Львовича забрали на военные сборы в Кронштадт. Написал “загребли”, потом “заграбастали”, потом “забрали”. Не хочу производить намеренно живую прозу. Слышу Дыма: “Не волнуйся, все равно не получится – ни умышленно, ни нечаянно!” Но делаю вид, что не слышу, и продолжаю: хочу обходиться своими скромными силами, без намерений».
Однако автор не сосредоточен на том «как», для него важен сам процесс выговаривания, в который входит и «как» (если входит; попутно). В этот процесс входит много чего: всё вышеперечисленное, так и то, что находится за пределом непосредственно художественной прозы, в частности, литературная эссеистика, которая тоже, по примеру с «метароманными вставками», входит в текст, и не сказать, что даже дополняет его, вносит некие новые смыслы (хотя и это тоже), поскольку – что важно – является равноправным членом иных и в том числе более традиционных практик письма (в смысле – жанров), представляя одно сплошное выговаривание.
И вот здесь я уже подхожу к сути того, что есть «От фонаря» (и, думается, уже довольно понятно, куда клоню). Впрочем, об этом нам намекает и сам автор в начале текста: «Я хочу, чтобы стихи стояли спокойными попутными фонарями на пути прозы, не обязательно мои. Пусть освещают». То есть Гандельсман выстраивает текст – условно прозаический – отталкиваясь от стихов, но не как от исходного материала – столба фонаря, но его света (и в этом главный смысл названия текста) – того, что неосязаемо, и то, что – по крайней мере, в метафорическом и метафизическом смыслах – может длиться/продолжаться/развертываться и в темноте (и даже (и особенности!) в виде паузы, (у?)молчания: «Я иду от фонаря до фонаря. Сажусь на скамейку, записываю, дальше иду. Сядь на пенек, съешь пирожок… Не жизнь — сказка. Жизнь стала отрывочной радостью. Настолько, что стенографировать не обязательно. Не потому, что несущественно, а наоборот: не стоит отвлекаться. На днях я прочитал в письме Витгенштейна издателю: “Моя работа состоит из двух частей: той, что представлена здесь, плюс все то, что я не написал. И именно эта вторая часть является наиболее важной”. Подходящий текст»). То есть проза/темнота, будучи неким мостком/пространством между стихотворениями/ поэзией уже не есть нечто самодостаточное (на что нам указывает исходный вектор), но производное от последней, которая – в случае Гандельсмана – не будучи способной оставаться в этом своём промежуточном/вторичном статусе/состоянии, поглощается оной, принимая уже поэтический дискурс: становясь иным, но сугубо поэтическим продолжением стихотворения (в пользу этого свидетельствует и то, что Гандельсман, по сути, не делает различий – по крайней мере, в первом отделении – на стихи и прозу (а одна из глав, не будем забывать, вообще представляет собой поэму), в частности, внедряя в последнюю сугубо поэтические приёмы («…погрузившись в чадное облако, в облако чад…», «…видя, как в киношном повторе, тот проход: тюльпаны, поющий Дарик, светлейший скверик, воздушный шарик, бурливый Терек…»)).
Тогда метароман? Да, Владимир Аркадьевич делает определенные шаги в эту сторону, приоткрывая двери во «внутреннюю кухню» своего творческого процесса (те же пассажи о дневнике и записной книжке, описания того, как к нему приходит та или иная мысль, как он её забывает, не успев донести до бумаги:
«После очередного обхода фонарей и долгой обратной дороги я захожу в кафе рядом с моим домом. Хотел что-то «взять на заметку», но забыл что. Вот сию секунду хотел и сию же секунду забыл. Иногда является мысль, а записать нечем. Я знаю, как поступать в таких случаях: не пытаться ее удержать, но помнить только, что она есть. Я стараюсь не стараться ее воспроизвести. Я знаю, что иначе непременно забуду. Именно это и произошло. Ничего страшного. Если она решит, что никто лучше меня ее не запишет, что это она забыла меня и что я такого жестокого забвения не заслуживаю, – вернется»); как делает правку либо отказывается от нее с указанием мотивировки: «В сентябре 1976 года Андрея Львовича забрали на военные сборы в Кронштадт. Написал “загребли”, потом “заграбастали”, потом “забрали”. Не хочу производить намеренно живую прозу. Слышу Дыма: “Не волнуйся, все равно не получится – ни умышленно, ни нечаянно!” Но делаю вид, что не слышу, и продолжаю: хочу обходиться своими скромными силами, без намерений».
Однако автор не сосредоточен на том «как», для него важен сам процесс выговаривания, в который входит и «как» (если входит; попутно). В этот процесс входит много чего: всё вышеперечисленное, так и то, что находится за пределом непосредственно художественной прозы, в частности, литературная эссеистика, которая тоже, по примеру с «метароманными вставками», входит в текст, и не сказать, что даже дополняет его, вносит некие новые смыслы (хотя и это тоже), поскольку – что важно – является равноправным членом иных и в том числе более традиционных практик письма (в смысле – жанров), представляя одно сплошное выговаривание.
И вот здесь я уже подхожу к сути того, что есть «От фонаря» (и, думается, уже довольно понятно, куда клоню). Впрочем, об этом нам намекает и сам автор в начале текста: «Я хочу, чтобы стихи стояли спокойными попутными фонарями на пути прозы, не обязательно мои. Пусть освещают». То есть Гандельсман выстраивает текст – условно прозаический – отталкиваясь от стихов, но не как от исходного материала – столба фонаря, но его света (и в этом главный смысл названия текста) – того, что неосязаемо, и то, что – по крайней мере, в метафорическом и метафизическом смыслах – может длиться/продолжаться/развертываться и в темноте (и даже (и особенности!) в виде паузы, (у?)молчания: «Я иду от фонаря до фонаря. Сажусь на скамейку, записываю, дальше иду. Сядь на пенек, съешь пирожок… Не жизнь — сказка. Жизнь стала отрывочной радостью. Настолько, что стенографировать не обязательно. Не потому, что несущественно, а наоборот: не стоит отвлекаться. На днях я прочитал в письме Витгенштейна издателю: “Моя работа состоит из двух частей: той, что представлена здесь, плюс все то, что я не написал. И именно эта вторая часть является наиболее важной”. Подходящий текст»). То есть проза/темнота, будучи неким мостком/пространством между стихотворениями/ поэзией уже не есть нечто самодостаточное (на что нам указывает исходный вектор), но производное от последней, которая – в случае Гандельсмана – не будучи способной оставаться в этом своём промежуточном/вторичном статусе/состоянии, поглощается оной, принимая уже поэтический дискурс: становясь иным, но сугубо поэтическим продолжением стихотворения (в пользу этого свидетельствует и то, что Гандельсман, по сути, не делает различий – по крайней мере, в первом отделении – на стихи и прозу (а одна из глав, не будем забывать, вообще представляет собой поэму), в частности, внедряя в последнюю сугубо поэтические приёмы («…погрузившись в чадное облако, в облако чад…», «…видя, как в киношном повторе, тот проход: тюльпаны, поющий Дарик, светлейший скверик, воздушный шарик, бурливый Терек…»)).
«...На днях я прочитал в письме Витгенштейна издателю: “Моя работа состоит из двух частей: той, что представлена здесь, плюс все то, что я не написал. И именно эта вторая часть является наиболее важной”».
Говоря иначе, Гандельсман – подобно средневековому алхимику – производит трансмутацию прозы как таковой в поэзию. И таким образом «От фонаря» есть поэтический текст от первого и до последнего слова: роман-поэма. Не поэма в прозе, как те же «Москва-Петушки» или «Мертвые души», но именно роман-поэма, когда поэтический импульс расходясь – в темноте – в пространстве текста, трансформирует оный на свой лад. Что и будет тождественно выговариванию, если под ним подразумевать непосредственный процесс создания/трансляции стихотворения (тут вспоминается: «Я живу тогда в другом времени, в прошедшем, а не в том, в котором нахожусь на самом деле; я могу представлять себя современником Сезариу Верде, и во мне живут не стихи, подобные его стихам, но некая субстанция, что присутствует в его стихах», – писал Пессоа в своей «автобиографии без фактов» – что, если убрать указание на Верде и заменив его поэзией как таковой, и будет в полной мере верным для текста Гандельсмана).
Но, кроме этого, есть еще один момент, связанный с семантикой фонаря на который, момент то есть, следует обратить внимание: герой, который, как и автор, поэт (о чём можно сделать вывод по вышеприведенной цитате со стихами, что стояли бы попутными фонарями на пути прозы) работает фонарщиком (бывший ученик пристроил его после болезни на необременительную работу), что, в свою очередь, отсылает нас к «Белому доминиканцу» Густава Майринка, главный герой которого, Христофор Таубеншлаг, тоже трудится фонарщиком, выступая неким посредником между миром дневным и миром ночным, миром посю- и потусторонним. В функционал героя романа-поэмы Гандельсмана, правда, не входит непосредственный акт зажигания фонарей, но если держать в голове, что, говоря о фонарях, он говорит о стихах, и трактовать это в метафизическом смысле, то он делает, по сути, то же самое, будучи, как и герой Майринка, связующим звеном двух миров («Я никогда не забываю ни одного из тех, кого знал и кого не стало. Не из морально-гигиенических соображений, но вопреки всем соображениям. Ушедшие сами являются, и что ни день, то на краткий миг обретают во мне свои летучие черты. Проносятся — и все. Не я посещаю кладбище, наоборот. Но и кладбищем этот бесплотный и живой пролет не назовешь. Это способ жизни неугасимого потрясения: куда они делись? Где те, кого нет?»; или: «Я начал встречать на улице умерших, в лицах детей молниеносно видеть черты будущих стариков, а в лицах стариков — бывших детей. Случилось нечто необычное из разряда того, в общем, обычного (а вернее — привычного), что происходит с человеком в жизни и что в конце концов сходит по неподатливому и елозящему трапу в объятия опередившей родни»).
Но, кроме этого, есть еще один момент, связанный с семантикой фонаря на который, момент то есть, следует обратить внимание: герой, который, как и автор, поэт (о чём можно сделать вывод по вышеприведенной цитате со стихами, что стояли бы попутными фонарями на пути прозы) работает фонарщиком (бывший ученик пристроил его после болезни на необременительную работу), что, в свою очередь, отсылает нас к «Белому доминиканцу» Густава Майринка, главный герой которого, Христофор Таубеншлаг, тоже трудится фонарщиком, выступая неким посредником между миром дневным и миром ночным, миром посю- и потусторонним. В функционал героя романа-поэмы Гандельсмана, правда, не входит непосредственный акт зажигания фонарей, но если держать в голове, что, говоря о фонарях, он говорит о стихах, и трактовать это в метафизическом смысле, то он делает, по сути, то же самое, будучи, как и герой Майринка, связующим звеном двух миров («Я никогда не забываю ни одного из тех, кого знал и кого не стало. Не из морально-гигиенических соображений, но вопреки всем соображениям. Ушедшие сами являются, и что ни день, то на краткий миг обретают во мне свои летучие черты. Проносятся — и все. Не я посещаю кладбище, наоборот. Но и кладбищем этот бесплотный и живой пролет не назовешь. Это способ жизни неугасимого потрясения: куда они делись? Где те, кого нет?»; или: «Я начал встречать на улице умерших, в лицах детей молниеносно видеть черты будущих стариков, а в лицах стариков — бывших детей. Случилось нечто необычное из разряда того, в общем, обычного (а вернее — привычного), что происходит с человеком в жизни и что в конце концов сходит по неподатливому и елозящему трапу в объятия опередившей родни»).
Герой Гандельсмана, работает фонарщиком, как и герой «Белого доминиканца» Густава Майринка, выступая неким посредником между миром дневным и миром ночным, миром посю- и потусторонним. В его функционал, правда, не входит непосредственный акт зажигания фонарей, но если держать в голове, что, говоря о фонарях, Гандельсман говорит о стихах, то он делает, по сути, то же самое, будучи, как и герой Майринка, связующим звеном двух миров.
И тут уже идет речь о том (и если Владимир Аркадьевич с «Белым доминиканцем» не знаком, тем ещё ценнее), что для автора есть поэт как таковой (и в этом третий, уже тайный, смысл названия романа-поэмы). Очевидно, что Гандельсман здесь следует в духе эзотерической традиции, согласно которой поэт есть вестник богов: тот, кто передает их послания людям (и кому, если следовать уже за Гёльдерлином, то есть идти в русле романтической традиции, боги обязаны своим существованием), даёт им возможность приобщиться к музыке сфер. И не то ли делает и сам Гандельсман?
Вопрос, конечно, риторический. Да, Владимир Аркадьевич избегает громких слов о назначении и миссии поэта (что вполне оправдано: поэт потерял в современном мире своё сакральное значение, что, впрочем, не говорит о том, что понимание этого значения потерял и сам поэт, тем более Большой). Но как бы исподволь, без страха показаться смешным напоминает об этом.Делая нечто парадоксальное, но, как свидетельствует текст, не невозможное (а говоря точнее, буквально реализуя один из майских лозунгов 68-го: «Будьте реалистами – требуйте невозможного»): создавая новый жанр, отсылает к истокам.
Вопрос, конечно, риторический. Да, Владимир Аркадьевич избегает громких слов о назначении и миссии поэта (что вполне оправдано: поэт потерял в современном мире своё сакральное значение, что, впрочем, не говорит о том, что понимание этого значения потерял и сам поэт, тем более Большой). Но как бы исподволь, без страха показаться смешным напоминает об этом.Делая нечто парадоксальное, но, как свидетельствует текст, не невозможное (а говоря точнее, буквально реализуя один из майских лозунгов 68-го: «Будьте реалистами – требуйте невозможного»): создавая новый жанр, отсылает к истокам.



