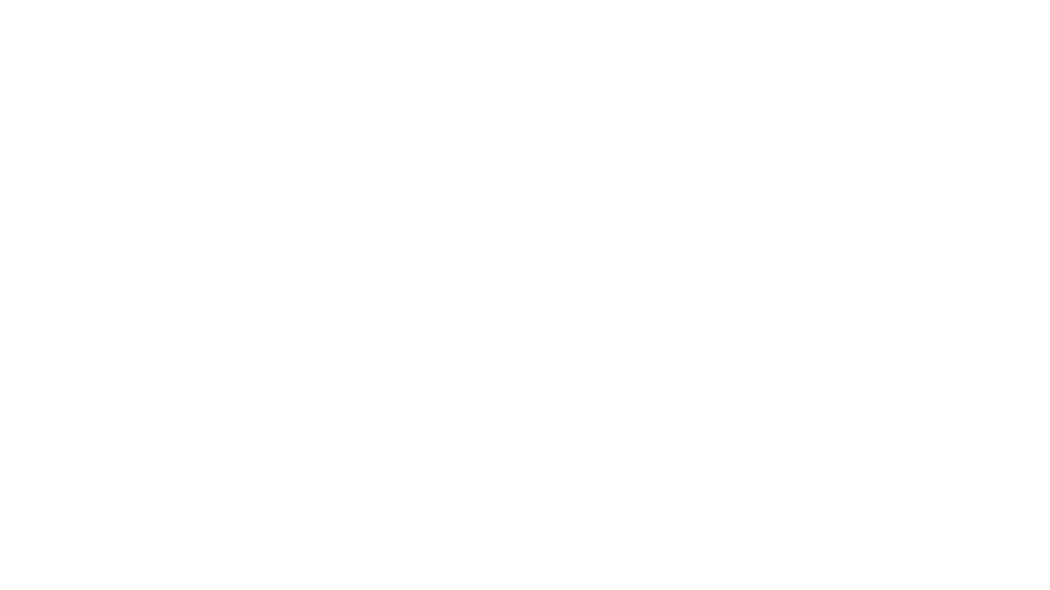
Марина Перова — Смертный грех
Марина Перова родилась в 1991 году, выросла в селах Старые Байдары, Половинное, Сумки Половинского района, закончила Сумкинскую среднюю школу и Курганский государственный университет. Магистр философии, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, журналист. Преподает на кафедре истории и документоведения КГУ, работает в редакции городской газеты «Курган и курганцы» и на сайте kikonline.ru, ведет занятия по йоге. Участник международных и всероссийских совещаний молодых писателей. Лауреат VI Международной открытой Южно-уральской литературной премии (2018). Стипендиат Союза российских писателей (Челябинск, межрегиональное совещание молодых писателей, 2017) и Министерства культуры РФ (Иркутск, Международный Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки», 2017). Автор сборника стихотворений «Небо над Тоболом». Публиковалась в журналах «Наш современник» (Москва), «Чаша круговая» (Екатеринбург), «Веретено» (Калининград), «Образ» (Кемерово), «Тобол» (Курган), сборниках «Заря» (Москва), «Направление мысли» (Челябинск) и др.
Славка Быков почти касался носом оконного стекла и оставлял на нем пар. Кажется, выдыхаешь воздух, а на самом деле из тебя выходит вода. Славка нарисовал на запотевшем стекле крест и дом. Отодвинулся и уперся подбородком в ладони. Он ни разу не был в гостях у бабы Таси, хотя Старое Замарье не так уж далеко от поселка, где жили Быковы. Несколько раз она сама навещала их. Но это было давно. В последний ее приезд Славка ходил во второй класс, а сестренка Вера — в садик.
Баба Тася казалась мальчику сказочным персонажем. Невысокая, щупленькая, в платочке и длинной юбке. В одной руке трость — она называла ее «клюка». В другой — матерчатая сумка «кошелка». В кошелке всегда оказывались гостинцы. Смешные — огурцы, помидоры, маленькие арбузы. Все это у Быковых и так было. Но, сам не зная почему, Славка их ждал. Овощи из кошелки казались ему вкуснее и сочнее обыкновенных. Баба Тася смотрела, как он хрустит огурцом, улыбалась и приговаривала: «Ты мой баской». Он не знал, что значит слово «баской», и представлял зверька с гладкой блестящей шерстью. Перед поездкой хотел посмотреть в словаре, но забыл.
Лилии уже закрывались на ночь, когда скрипнула калитка. Под окном прошла ссутулившаяся маленькая старушка. За ней — двое мужчин с женщинами и две девочки вериного возраста. Заскрипели половицы в сенях, дверь в избу.
— У, вы мои баские, идите скорее к бабусе! — баба Тася улыбалась, раскрывая руки для объятий.
Славка не заметил, как прыгнул с табурета и оказался у ее правого бока. Бабушка стала еще ниже ростом, славкина макушка сравнялась с ее плечом. Слева прижималась Вера. Бабушка отпустила их и легонько оттолкнула от двери.
Мужчины назвались дядей Витей и дядей Толей — троюродными племянниками бабы Таси. Женщины — их женами. Девочки — детьми. Славке не понравилось, что они пришли. На кухне стало тесно и душно. Все двигалось, говорило, звенело посудой. Воздух переполнился дыханием и словами. Детей быстро усадили за стол, накрытый пожелтевшей скатертью. Накормили вареной картошкой с гуляшом. Отправили в горницу.
Вера играла с новыми сестрами в больницу. Славке, как старшему, предлагали роль доктора, но он отказался. Сидел у окна, смотрел в темноту двора и слушал, что делают взрослые. Над ухом зудел комар.
Утром Славка проснулся от того, что сестра стянула с него одеяло. Бабы Таси не было. За кухонным столом спали родители. Мамина стопка опрокинулась, на юбке темнело пятно. Папин плащ валялся под ногами. Славка вздохнул и открыл дверь, впуская свежий воздух.
Баба Тася приехала в Старое Замарье еще до революции. Никто толком не знал, почему. Отправили в ссылку или сама захотела вольной жизни на сибирских просторах. Знали только, что в гражданскую войну она была в комбеде и распределяла зерно, вывезенное из амбаров богатых замарьевцев. А потом, еще до коллективизации, устроила здесь коммуну.
На комсомольское рождество, которое в Старом Замарье объявили вместо привычного православного праздника, перепившие коммунары заспорили о Боге. Спорили долго. Наконец самый решительный вышел из сельсоветской избы и пошел к церкви. Товарищи подхватили шапки, у кого были, и зашагали следом.
Церковь стояла на небольшой возвышенности в минуте от сельсовета. Крепкий сруб из толстых бревен, выделявшийся в лунном свете. Четырехскатная крыша, увенчанная крестом. Высокие прямоугольные окна. Между ними иконы — не изнутри церкви, как обычно, а снаружи — высотой с оконные рамы.
Каждое утро приходил священник и очищал иконы от снега. Топил в церкви печь собранным в березовой роще валежником, читал Часы или Псалтырь, а по воскресеньям служил литургию, даже если в храме никого не было. Вечером чистил подсвечники, протирал образа и мыл полы. Закончив работу, садился на высокое крыльцо под треугольным навесом. Смотрел на село и небо.
В рождественскую ночь церковь была открыта, в окнах теплились огоньки. Комсомольцы ввалились внутрь и вдруг замерли, будто разом вспомнили что-то. Священник стоял на коленях в открытых Царских вратах. Руки его были подняты ладонями к потолку, туда же обращено лицо. «Иже херувимы тайно образующее и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающее, всякое ныне житейское отложим попечение…».
«Давай, кончай с этой поповской дурью, ребята!», — вывел товарищей из оцепенения решительный комсомолец.
Втроем волокли священника из алтаря, а потом из храма. Он продолжал бормотать молитвы. Несколько раз ударили в живот, но он глотал воздух и снова молился вслух. В конце концов, рот ему заткнули рукавицей, и били все вместе — уже ногами. Когда надоело, полезли на крышу срубать крест. Священник лежал у порога измочаленной кучей тряпья, и одному из коммунаров пришла в голову задорная мысль. Крест вкопали в снег, привезли несколько фляг воды из колодца.
«Раздевайся, поп, крестить тебя будем».
Привязали к кресту и облили водой. Одно ведро. Второе. Десятое.
Утром у обезглавленной церкви стояла ледяная глыба. Люди украдкой осеняли себя крестом, прятали глаза и уходили в избы. Церковь объявили национализированной. Иконы на срубе заколотили досками, а в самой церкви сделали клуб.
Бабу Тасю после этого Рождества долго не видели. Говорили, совесть замучила — она, все-таки, эту коммуну собрала. Еще говорили, что баба Тася вынесла из церкви распятие с лампадкой и тайно молится дома. Всем хотелось, чтобы так и было: казалось, после убийства священника над Старым Замарьем навис смертный грех. Кто-то же должен его отмаливать.
Коммуна скоро развалилась. Но из райкома спустили план всеобщей коллективизации, так что пришлось собираться заново, теперь уже в колхоз. И не по желанию, а всем поголовно. Постучались и к бабе Тасе — взяли ее дояркой.
Во дворе, в одном ряду с баней, сарайкой и дровяником стояла малушка — однокомнатная избушка-мазанка. В правом углу хранились березовые веники. В левом стояла металлическая печка-буржуйка. У одинокого окна напротив входа — деревянный стол. На жерди под крышей висели пучки трав, оставшиеся с прошлого года. Земляной пол устилала грязная солома — зимой на ней грелись свиньи.
Славка вымел солому метлой. Дядя Витя принес железную койку-сетку. Собрал ее у стены и бросил сверху старый в желтых пятнах матрац. Так Быковы стали жить отдельно от бабы Таси.
Июль был жаркий. Даже с наступлением темноты раскалившийся за день воздух не остывал. Жался к земле, придавленный низким небом, и казался густым до осязаемости. В такие ночи Славка спал во дворе, постелив на прохладный конотоп старую фуфайку.
Он ложился поперек, от правого борта к левому, но длины фуфайки все равно не хватало, и ноги оказывались на траве. Загрубевшую кожу покалывали былинки, щекотали неведомые маленькие жучки. Славка смотрел на звезды, висевшие над ним в неподвижном черном воздухе. Слушал стрекот кузнечиков и шаги бесчисленных жучьих лапок.
Сначала происходящее с родителями ему даже нравилось. Не нужно читать книги из списка на лето или вспоминать, как решаются уравнения с двумя неизвестными. Никто не заставляет каждое утро чистить зубы и умываться перед сном, а гулять можно сколько и где угодно.
Но прошло пол-лета, и Славке надоело. Папа и мама все реже просыпались от пьяного беспамятства и почти не показывались из малушки. Дядя Витя приходил иногда, брал у них деньги и возвращался с покупкой. В такие вечера они сидели втроем. Иногда присоединялся кто-то еще, именуясь дальней родней.
Добротная одежда Быковых превратилась в грязные тряпки, лица одновременно распухли и усохли. В самой малушке пахло свиньями, табачным дымом и перегаром. Под столом валялись бутылки — целые и разбитые.
Однажды Вера поранилась об осколок и заплакала, но мама только неразборчиво пробормотала что-то и неловко дернула рукой. Славка нашел в избе чистую простынь, оторвал полоску и перевязал сестре ногу. Пробовал поговорить с бабой Тасей, но всякий раз, когда заводил речь о родителях, она только качала головой: «Потерпи, баской». В тот вечер он снова не выдержал.
— Зачем ты это делаешь? — он стоял босой на тропинке перед домом. Баба Тася сидела на своем желтом крыльце и, сгорбившись, мыла в тазу свежевыкопанную картошку.
— Что делаю, внучик? — сморщенные, покрытые старческими веснушками руки продолжали двигаться в мутной воде.
— Так поступаешь с нами.
— Кормлю и пою вас, крышу предлагаю?
— Зачем позвала нас сюда? Почему их не останавливаешь? И разрешаешь приходить дяде Вите?
Баба Тася бросила чистую картофелину в алюминиевое ведро, обтерла руки о фартук.
— Я никому ничего не разрешаю и не запрещаю, внучик. Зачем мне чужой крест на себя брать? Мне свой-то бы донести.
К сентябрю Быковы, как говорили в деревне, просохли. Скопленные деньги закончились, пить стало не на что. А может, просто устали. Славка грыз яблоко, упавшее с дерева, и смотрел, как посеревшая мама стирает во дворе белье. Руки у нее распарились и припухли, а белье никак не желало принимать прежний цвет. Солнце играло мыльными пузырями.
Через два дня переехали из малушки. Вместо обещанного при переезде в Замарье крестового дома колхоз выделил старенький пятистенник в десяти минутах от бабы Таси. Экономиста и бухгалтера, должности которых должны были занять Быковы, выписали из райцентра еще в середине лета. А Быковых устроили скотником и дояркой.
В новой школе Славка стыдился родителей и самого себя. Вместо хорошей одежды на нем были непонятного цвета обноски. Из нормального оставался только портфель. Сначала Славка складывал в него учебники, собираясь быть самым лучшим в классе, как раньше. Но через два месяца бросил уроки и решил устраиваться в колхоз. Взяли подпаском на половину рабочего дня, сказали, мал еще для большего. Но когда отец снова запил после получки, Славка вышел за него и отработал полторы смены — его полную и свою половинку. Прошло больше недели, пока деньги не кончились и отец не вернулся. Похудевший и повзрослевший Славка попросил оплатить отработанные дни ему лично. Так было всякий раз, когда родители пили. К зиме он скопил Вере на теплое пальто, сапожки и новую школьную форму.
Новогодним вечером, вычистив колхозный коровник, брел по селу мимо закрытых калиток и желтых окон. Низкое небо сыпало снег. В клубе только что закончился самодеятельный спектакль, актеры и зрители разбегались по домам на праздничный ужин. Завклубом повесил замок на дверь и тоже ушел. Славка устроился отдыхать на ступеньках под деревянным навесом. Смотрел на дорогу, снег, дым из труб, столбами поднимавшийся вверх. Думал о сестре, родителях, бабе Тасе. Не мог понять, почему она вызвала их сюда, в Старое Замарье, и позволила всему этому случиться. Уже собирался идти домой, когда услышал скрип снега.
Сгорбленная фигурка с клюкой вышла из тени в полоску лунного света. Когда она поравнялась с крыльцом, Славка услышал негромкий шепот: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешну». Мальчик замер в тени у стены, бабушка не заметила его и ушла за клуб. Через несколько минут снова показалась у ступенек. Затем — снова. Она ходила вокруг бывшей церкви и бормотала молитвы. Славка смутно чувствовал, что в этом есть какой-то смысл, относящийся и к его жизни тоже. Но какой — разгадать не мог. Казалось, бабушка принесла его семью — маму, папу, Веру, его самого — в жертву за какую-то собственную непомерно большую ошибку. В этом было и самоотречение, и новое страшное преступление. Славка дрожал изнутри — уже не от холода. Когда баба Тася в очередной раз свернула за клуб, он скатился со ступенек и, не оглядываясь, побежал к дому.
Родителей не было. Вера сидела одна у погасшей печки и вытирала слезы. Славка развел огонь, достал из кармана деревянную куклу, которую выстрогал неделю назад под наставления старшего скотника. Разогрел картошку и приготовленный утром борщ.
— Ну, пойдем праздновать.
Наелись, убрали посуду. Вера подмела в горнице — сказала, что в праздник дома должно быть чисто. Легли спать. Их металлические койки-сетки стояли у соседних стен, голова к голове. Славка долго не спал. Слушал, дыхание сестры и гудение проводов. Оконное стекло подрагивало от порывов ветра. Ночная темнота за стеклами казалось белой от снега. Снег заметал Старое Замарье, пока славкины ресницы склеивались тяжелой дремотой. Наутро остались только печные трубы.
Баба Тася казалась мальчику сказочным персонажем. Невысокая, щупленькая, в платочке и длинной юбке. В одной руке трость — она называла ее «клюка». В другой — матерчатая сумка «кошелка». В кошелке всегда оказывались гостинцы. Смешные — огурцы, помидоры, маленькие арбузы. Все это у Быковых и так было. Но, сам не зная почему, Славка их ждал. Овощи из кошелки казались ему вкуснее и сочнее обыкновенных. Баба Тася смотрела, как он хрустит огурцом, улыбалась и приговаривала: «Ты мой баской». Он не знал, что значит слово «баской», и представлял зверька с гладкой блестящей шерстью. Перед поездкой хотел посмотреть в словаре, но забыл.
Лилии уже закрывались на ночь, когда скрипнула калитка. Под окном прошла ссутулившаяся маленькая старушка. За ней — двое мужчин с женщинами и две девочки вериного возраста. Заскрипели половицы в сенях, дверь в избу.
— У, вы мои баские, идите скорее к бабусе! — баба Тася улыбалась, раскрывая руки для объятий.
Славка не заметил, как прыгнул с табурета и оказался у ее правого бока. Бабушка стала еще ниже ростом, славкина макушка сравнялась с ее плечом. Слева прижималась Вера. Бабушка отпустила их и легонько оттолкнула от двери.
Мужчины назвались дядей Витей и дядей Толей — троюродными племянниками бабы Таси. Женщины — их женами. Девочки — детьми. Славке не понравилось, что они пришли. На кухне стало тесно и душно. Все двигалось, говорило, звенело посудой. Воздух переполнился дыханием и словами. Детей быстро усадили за стол, накрытый пожелтевшей скатертью. Накормили вареной картошкой с гуляшом. Отправили в горницу.
Вера играла с новыми сестрами в больницу. Славке, как старшему, предлагали роль доктора, но он отказался. Сидел у окна, смотрел в темноту двора и слушал, что делают взрослые. Над ухом зудел комар.
Утром Славка проснулся от того, что сестра стянула с него одеяло. Бабы Таси не было. За кухонным столом спали родители. Мамина стопка опрокинулась, на юбке темнело пятно. Папин плащ валялся под ногами. Славка вздохнул и открыл дверь, впуская свежий воздух.
Баба Тася приехала в Старое Замарье еще до революции. Никто толком не знал, почему. Отправили в ссылку или сама захотела вольной жизни на сибирских просторах. Знали только, что в гражданскую войну она была в комбеде и распределяла зерно, вывезенное из амбаров богатых замарьевцев. А потом, еще до коллективизации, устроила здесь коммуну.
На комсомольское рождество, которое в Старом Замарье объявили вместо привычного православного праздника, перепившие коммунары заспорили о Боге. Спорили долго. Наконец самый решительный вышел из сельсоветской избы и пошел к церкви. Товарищи подхватили шапки, у кого были, и зашагали следом.
Церковь стояла на небольшой возвышенности в минуте от сельсовета. Крепкий сруб из толстых бревен, выделявшийся в лунном свете. Четырехскатная крыша, увенчанная крестом. Высокие прямоугольные окна. Между ними иконы — не изнутри церкви, как обычно, а снаружи — высотой с оконные рамы.
Каждое утро приходил священник и очищал иконы от снега. Топил в церкви печь собранным в березовой роще валежником, читал Часы или Псалтырь, а по воскресеньям служил литургию, даже если в храме никого не было. Вечером чистил подсвечники, протирал образа и мыл полы. Закончив работу, садился на высокое крыльцо под треугольным навесом. Смотрел на село и небо.
В рождественскую ночь церковь была открыта, в окнах теплились огоньки. Комсомольцы ввалились внутрь и вдруг замерли, будто разом вспомнили что-то. Священник стоял на коленях в открытых Царских вратах. Руки его были подняты ладонями к потолку, туда же обращено лицо. «Иже херувимы тайно образующее и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающее, всякое ныне житейское отложим попечение…».
«Давай, кончай с этой поповской дурью, ребята!», — вывел товарищей из оцепенения решительный комсомолец.
Втроем волокли священника из алтаря, а потом из храма. Он продолжал бормотать молитвы. Несколько раз ударили в живот, но он глотал воздух и снова молился вслух. В конце концов, рот ему заткнули рукавицей, и били все вместе — уже ногами. Когда надоело, полезли на крышу срубать крест. Священник лежал у порога измочаленной кучей тряпья, и одному из коммунаров пришла в голову задорная мысль. Крест вкопали в снег, привезли несколько фляг воды из колодца.
«Раздевайся, поп, крестить тебя будем».
Привязали к кресту и облили водой. Одно ведро. Второе. Десятое.
Утром у обезглавленной церкви стояла ледяная глыба. Люди украдкой осеняли себя крестом, прятали глаза и уходили в избы. Церковь объявили национализированной. Иконы на срубе заколотили досками, а в самой церкви сделали клуб.
Бабу Тасю после этого Рождества долго не видели. Говорили, совесть замучила — она, все-таки, эту коммуну собрала. Еще говорили, что баба Тася вынесла из церкви распятие с лампадкой и тайно молится дома. Всем хотелось, чтобы так и было: казалось, после убийства священника над Старым Замарьем навис смертный грех. Кто-то же должен его отмаливать.
Коммуна скоро развалилась. Но из райкома спустили план всеобщей коллективизации, так что пришлось собираться заново, теперь уже в колхоз. И не по желанию, а всем поголовно. Постучались и к бабе Тасе — взяли ее дояркой.
Во дворе, в одном ряду с баней, сарайкой и дровяником стояла малушка — однокомнатная избушка-мазанка. В правом углу хранились березовые веники. В левом стояла металлическая печка-буржуйка. У одинокого окна напротив входа — деревянный стол. На жерди под крышей висели пучки трав, оставшиеся с прошлого года. Земляной пол устилала грязная солома — зимой на ней грелись свиньи.
Славка вымел солому метлой. Дядя Витя принес железную койку-сетку. Собрал ее у стены и бросил сверху старый в желтых пятнах матрац. Так Быковы стали жить отдельно от бабы Таси.
Июль был жаркий. Даже с наступлением темноты раскалившийся за день воздух не остывал. Жался к земле, придавленный низким небом, и казался густым до осязаемости. В такие ночи Славка спал во дворе, постелив на прохладный конотоп старую фуфайку.
Он ложился поперек, от правого борта к левому, но длины фуфайки все равно не хватало, и ноги оказывались на траве. Загрубевшую кожу покалывали былинки, щекотали неведомые маленькие жучки. Славка смотрел на звезды, висевшие над ним в неподвижном черном воздухе. Слушал стрекот кузнечиков и шаги бесчисленных жучьих лапок.
Сначала происходящее с родителями ему даже нравилось. Не нужно читать книги из списка на лето или вспоминать, как решаются уравнения с двумя неизвестными. Никто не заставляет каждое утро чистить зубы и умываться перед сном, а гулять можно сколько и где угодно.
Но прошло пол-лета, и Славке надоело. Папа и мама все реже просыпались от пьяного беспамятства и почти не показывались из малушки. Дядя Витя приходил иногда, брал у них деньги и возвращался с покупкой. В такие вечера они сидели втроем. Иногда присоединялся кто-то еще, именуясь дальней родней.
Добротная одежда Быковых превратилась в грязные тряпки, лица одновременно распухли и усохли. В самой малушке пахло свиньями, табачным дымом и перегаром. Под столом валялись бутылки — целые и разбитые.
Однажды Вера поранилась об осколок и заплакала, но мама только неразборчиво пробормотала что-то и неловко дернула рукой. Славка нашел в избе чистую простынь, оторвал полоску и перевязал сестре ногу. Пробовал поговорить с бабой Тасей, но всякий раз, когда заводил речь о родителях, она только качала головой: «Потерпи, баской». В тот вечер он снова не выдержал.
— Зачем ты это делаешь? — он стоял босой на тропинке перед домом. Баба Тася сидела на своем желтом крыльце и, сгорбившись, мыла в тазу свежевыкопанную картошку.
— Что делаю, внучик? — сморщенные, покрытые старческими веснушками руки продолжали двигаться в мутной воде.
— Так поступаешь с нами.
— Кормлю и пою вас, крышу предлагаю?
— Зачем позвала нас сюда? Почему их не останавливаешь? И разрешаешь приходить дяде Вите?
Баба Тася бросила чистую картофелину в алюминиевое ведро, обтерла руки о фартук.
— Я никому ничего не разрешаю и не запрещаю, внучик. Зачем мне чужой крест на себя брать? Мне свой-то бы донести.
К сентябрю Быковы, как говорили в деревне, просохли. Скопленные деньги закончились, пить стало не на что. А может, просто устали. Славка грыз яблоко, упавшее с дерева, и смотрел, как посеревшая мама стирает во дворе белье. Руки у нее распарились и припухли, а белье никак не желало принимать прежний цвет. Солнце играло мыльными пузырями.
Через два дня переехали из малушки. Вместо обещанного при переезде в Замарье крестового дома колхоз выделил старенький пятистенник в десяти минутах от бабы Таси. Экономиста и бухгалтера, должности которых должны были занять Быковы, выписали из райцентра еще в середине лета. А Быковых устроили скотником и дояркой.
В новой школе Славка стыдился родителей и самого себя. Вместо хорошей одежды на нем были непонятного цвета обноски. Из нормального оставался только портфель. Сначала Славка складывал в него учебники, собираясь быть самым лучшим в классе, как раньше. Но через два месяца бросил уроки и решил устраиваться в колхоз. Взяли подпаском на половину рабочего дня, сказали, мал еще для большего. Но когда отец снова запил после получки, Славка вышел за него и отработал полторы смены — его полную и свою половинку. Прошло больше недели, пока деньги не кончились и отец не вернулся. Похудевший и повзрослевший Славка попросил оплатить отработанные дни ему лично. Так было всякий раз, когда родители пили. К зиме он скопил Вере на теплое пальто, сапожки и новую школьную форму.
Новогодним вечером, вычистив колхозный коровник, брел по селу мимо закрытых калиток и желтых окон. Низкое небо сыпало снег. В клубе только что закончился самодеятельный спектакль, актеры и зрители разбегались по домам на праздничный ужин. Завклубом повесил замок на дверь и тоже ушел. Славка устроился отдыхать на ступеньках под деревянным навесом. Смотрел на дорогу, снег, дым из труб, столбами поднимавшийся вверх. Думал о сестре, родителях, бабе Тасе. Не мог понять, почему она вызвала их сюда, в Старое Замарье, и позволила всему этому случиться. Уже собирался идти домой, когда услышал скрип снега.
Сгорбленная фигурка с клюкой вышла из тени в полоску лунного света. Когда она поравнялась с крыльцом, Славка услышал негромкий шепот: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешну». Мальчик замер в тени у стены, бабушка не заметила его и ушла за клуб. Через несколько минут снова показалась у ступенек. Затем — снова. Она ходила вокруг бывшей церкви и бормотала молитвы. Славка смутно чувствовал, что в этом есть какой-то смысл, относящийся и к его жизни тоже. Но какой — разгадать не мог. Казалось, бабушка принесла его семью — маму, папу, Веру, его самого — в жертву за какую-то собственную непомерно большую ошибку. В этом было и самоотречение, и новое страшное преступление. Славка дрожал изнутри — уже не от холода. Когда баба Тася в очередной раз свернула за клуб, он скатился со ступенек и, не оглядываясь, побежал к дому.
Родителей не было. Вера сидела одна у погасшей печки и вытирала слезы. Славка развел огонь, достал из кармана деревянную куклу, которую выстрогал неделю назад под наставления старшего скотника. Разогрел картошку и приготовленный утром борщ.
— Ну, пойдем праздновать.
Наелись, убрали посуду. Вера подмела в горнице — сказала, что в праздник дома должно быть чисто. Легли спать. Их металлические койки-сетки стояли у соседних стен, голова к голове. Славка долго не спал. Слушал, дыхание сестры и гудение проводов. Оконное стекло подрагивало от порывов ветра. Ночная темнота за стеклами казалось белой от снега. Снег заметал Старое Замарье, пока славкины ресницы склеивались тяжелой дремотой. Наутро остались только печные трубы.



