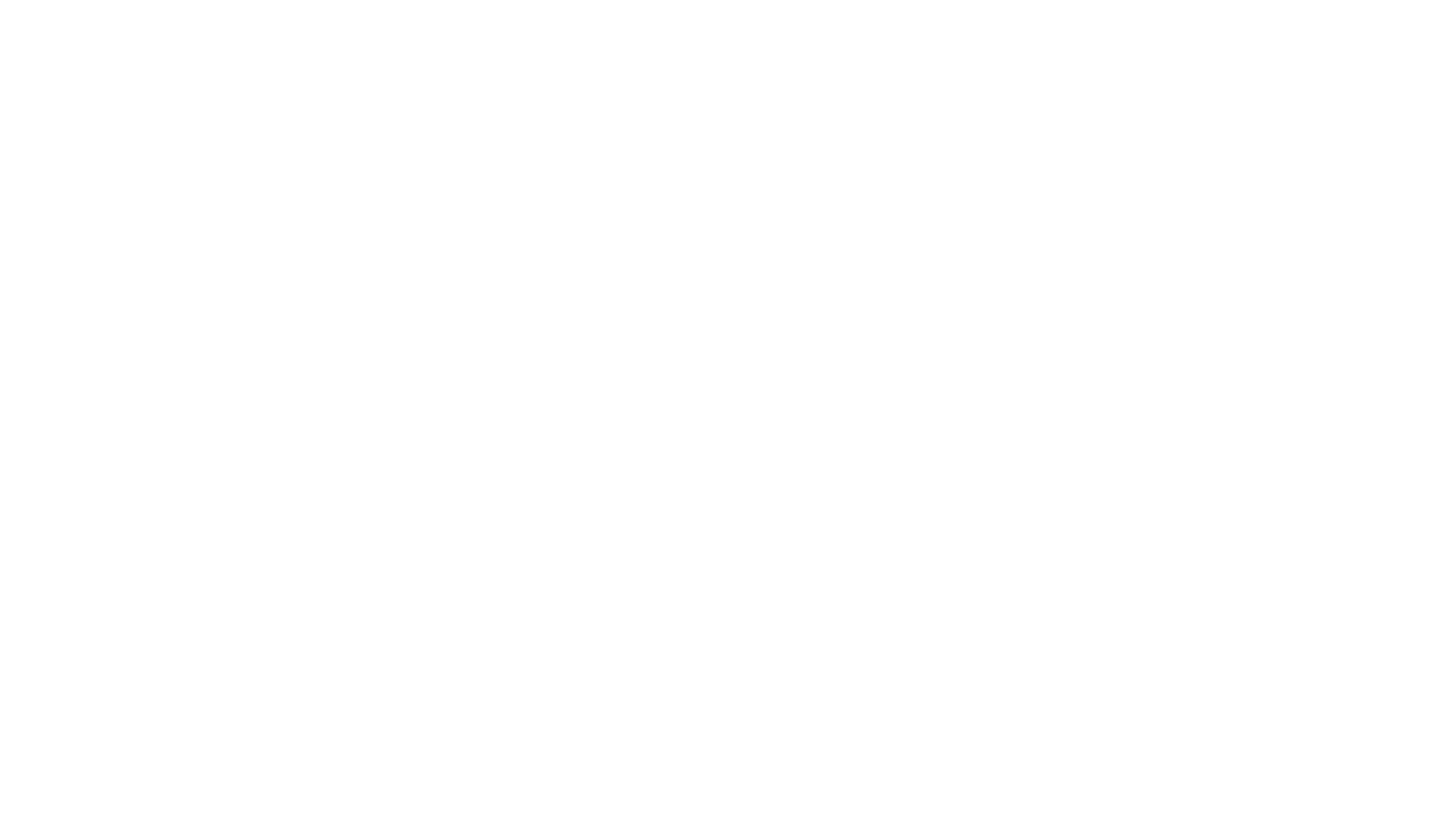
Станислава Новикова — Абсолютный ноль по Кельвину
Новикова Станислава Дмитриевна - 1999 г.р., Москва. Занимается литературным творчеством и художественным переводом. Входила в длинный список молодежного литературного конкурса журнала «Север» («Северная звезда»-2021). Публиковалась в журналах «Нижний Новгород» и «Mallette». Лауреат литературного фестиваля им. Л.И. Ошанина.
Виктор Марич выходит из дома в половину первого и полтора часа стоит в пробке на Третьем транспортном кольце, после чего бросает машину и пересаживается на метро. В метро пыльно и душно как всегда, и рубашка прилипает к телу как всегда, когда он уступает место и прижимается спиной к дверям вагона. Букет цветов, который он купил с утра, уже выглядит мертвым.
Он поднимается из метро у парка Горького, надевает солнечные очки и идет по Ленинскому проспекту в сторону площади Гагарина, торопясь и перепрыгивая бордюрные камни. Он успевает к больнице номер один еще до обеда и спотыкается на самой последней ступеньке.
В регистратуре медсестра в форменной шапочке разговаривает по телефону, наматывает на палец прядь волос и советует кому-то разогреть котлеты вместе с подливой, чтобы они не получились сухими. Виктор терпеливо ждет, пока она закончит разговор и попрощается.
– Маску наденьте, – говорит медсестра Виктору. – Чего вам?
– Я посетитель, – объясняет Виктор, – пришел навестить маму с ребенком. Новорожденным.
– Читайте, что написано, – она показывает на плакат за спиной у Виктора. Он читает сощурившись. Плакат сообщает, что посетителей в родильном отделении ждут после трех часов дня. Сейчас половина третьего.
– Ее сегодня выписывают, – говорит Виктор. Медсестра в шапочке делает вид, что не слышит его.
Выругавшись, он выходит на улицу, прихватив цветы, теперь уже похожие на веник. Ему хочется закурить, но он не может найти пепельницу у выхода. Иногда ему кажется, что вся его жизнь проходит в бессмысленном поиске пепельницы там, где не курят. Наконец он находит урну с пепельницей во внутреннем дворике около скамейки, с наслаждением закуривает сигарету и обнаруживает, что она оказалась последней. В такие дни, как сегодня, кажется, что все против него.
Он достает телефон и ищет ближайший табачный магазин, а потом сует цветы под мышку и направляется через сквер. Ленинский проспект за оградой шумный и грязный. В табачном магазине его опять просят надеть маску, а заодно и предъявить паспорт, хотя Виктору уже двадцать четыре. Он знает, что на свой возраст не выглядит – не то, что Давид с его хриплым голосом, шикарным носом и щетиной, которая пробивается уже после двенадцати. Виктор смотрит на это с восхищением, но без зависти, как на красивую до нелепости античную статую – если бы статуи бывали греческими только наполовину, как сам Давид. Завидовать бессмысленно, потому что в Давиде совершенно все, кроме, пожалуй, ступней, но всякому понятно, что ступни не играют в жизни особой роли. Виктор находит вполне закономерным, что именно Давид, а не он, пользуется таким успехом, и редкие девушки, которые первыми заговаривают с Виктором, обычно делают это для того, чтобы спросить, как зовут его друга, этого высокого парня с таким наглым взглядом.
Виктору, наверное, не следует удивляться насчет Виктории тоже. Она дочь авиатора и с рождения привыкла к самому лучшему – новым иномаркам, а не припаркованной у метро машине без кондиционера; ресторанам с видом, а не шоколадкам, которые он таскал ей, уверенный, что она любит шоколад; красоте, а не тому, что Виктор каждый день видит в зеркале после того, как наденет контактные линзы.
Виктор докуривает сигарету и возвращается. В больнице он дает измерить себе температуру и надевает халат для посетителей. В коридорах чисто и пахнет хлором, как всегда в больницах. Ему странно, что Виктория может быть тут, она не любит все стерильное и скучное – по крайней мере, она была такой раньше.
Он помнит ее в десять лет, ее круглые щеки и белые волосы – первый день в новой школе, где они оказались за соседними партами. Они так и просидели до выпускного – он справа, она слева, она носила учебники, а он решал за них обоих задачи по генетике и уравнения на метод электронного баланса, переводил заданную в контрольной температуру из шкалы Цельсия в Кельвины по формуле, которую она никак не могла выучить. Не может быть, чтобы с того времени так многое изменилось.
Виктор проходит через турникет, придерживая халат на плечах. Он заходит в лифт и нажимает кнопку, когда чей-то голос просит его подождать. Он находит кнопку открытия дверей и смотрит, как медсестра в розовой медицинской рубашке заходит в лифт, толкая перед собой каталку с новорожденными. На них одинаковые распашонки и шапочки, и они выглядят совершенно неотличимыми друг от друга. Виктор смотрит на них и не испытывает ничего, кроме легкой тошноты от удушающе сладкого запаха. Он думает, может ли один из них быть ребенком Виктории.
– Вам на какой этаж? – спрашивает медсестра, кивая в сторону панели лифта.
– Третий.
– Нам туда же, – она улыбается ему, у нее загорелое лицо в веснушках, – мы на обед едем, – поправляет одеяло одному из младенцев. – Поздравляю Вас.
– Это не меня, – говорит Виктор, – мою подругу. Я…просто навещаю.
Лифт останавливается, она понимающе кивает и подталкивает каталку к выходу.
– До свидания.
Она выходит первой, энергично толкая тележку перед собой, Виктор идет за ней, не слишком уверенный, где нужная ему палата. От цветочной пыльцы и хлорки ему хочется чихать.
Он наконец находит нужную дверь в конце коридора. Виктория в палате на двоих, ее койка у окна, а на другой спит темноволосая женщина. Виктор стучит и останавливается на пороге. Палата такая крошечная, что ему негде будет сесть.
– Эй, – она машет ему рукой, и он замечает, что выглядит она ужасно – у нее опухшее лицо и мокрые волосы, которые она высушила только наполовину.
– Привет.
Она садится, чтобы обнять его, раскрывает одеяло, и он видит ее большой живот. Она перехватывает его взгляд, опускает глаза и одергивает рубашку.
– Ты..?
– Живот еще не втянулся, – говорит она и виновато улыбается. Виктор понимающе кивает, ему неловко, они обнимаются, и это выходит натянуто, потому что он старается не прижимать ее к себе.
– Это тебе, – он сует ей цветы, хотя они совсем в неподходящем виде, их и поставить здесь некуда – на тумбочке чайник, зарядка для телефона и открытки от ее родственников. Виктор поспешно выходит в коридор и просит медсестру принести вазу. В палате они с Викторией усаживаются на ее одеяло, он складывает руки на коленях, она молча смотрит на него.
– Поздравляю. Значит, мальчик?
– Да, – она невольно улыбается, когда он спрашивает, – почти четыре килограмма. Пятьдесят три сантиметра. Будет высокий, не то что я.
– Ага, – говорит Виктор. – Уже придумали, как назовете?
– Ну, – она залезает под одеяло и натягивает его на живот, – я думала…может, Василий. Знаешь, в честь папы.
Виктор не знает, что сказать, он помнит вечер, когда умер ее отец. Виктор приехал сразу, она стояла в прихожей, еще накрашенная в своем черном пальто, он все говорил что-то, пытался ее отвлечь, а она смотрела мимо его плеча и ничего ему не отвечала, и это было самое страшное. Они никогда не говорили о серьезных вещах, и вот тогда пришлось, никто не знал, как надо. В день похорон было душно, а потом пошел дождь, и Виктор запомнил только красные цветы на свежей могиле.
Они оба молчат, за окном слышно стройку – строят новое больничное крыло, пыль поднимается в неподвижном летнем воздухе и дребезжит дрель.
– Очень было больно? – спрашивает Виктор. Она морщится и неопределенно машет ладонью.
– Ну, – поворачивает подушку, чтобы сесть поудобнее, – сначала да, а потом я попросила обезболивающее, но оно действует только два часа, так что…
– А всего?
– Восемь. С половиной. Он ночью родился.
Виктор чувствует, как у него непроизвольно дергаются мышцы, как если бы кто-нибудь ударил его кулаком в живот.
– Ух. Ну ты герой. Героиня, – поправляет себя сам. – Настоящая.
Виктория пожимает плечами.
– Есть только очень хочется. Тут ничего нельзя нормального, ни сладкого, ни соли…
– Я понял, – говорит Виктор, – вот выпишем тебя отсюда, и с меня чебурек. С мясом, как ты любишь.
Виктория улыбается.
– И бульоном?
– Обязательно! – говорит Виктор, и они оба смеются, глядя друг на друга, и на секунду ему кажется, что все будет по-старому, хотя он знает, что это не так. Виктория откидывается назад и смотрит на него, на солнце у нее до нелепости голубые глаза – наследство от матери-эстонки, на которую она совсем не похожа.
– А Давид…ты его видел?
– Давида? Да, конечно, – ни секунды не думая, бодро врет – он не может сказать ей, что не видел Давида с прошлой недели, когда он злой и дерганый зашел что-то спросить, цеплялся к каждому слову и ушел, открыв дверь пинком своих бордовых мартинсов и так ничего и не объяснив. – Он очень рад.
– Правда?
Что-то меняется у нее в лице, Виктор не знает что, но ему неудобно, и он чувствует облегчение, когда в комнату заходит медсестра. У нее на руках двое младенцев, Виктория начинает улыбаться и дергает Виктора за рукав.
– Который?
– Справа, – говорит она, и он смотрит, но оба ребенка, запеленатые так туго, что они похожи на инопланетян, выглядят совершенно одинаково. Медсестра с очень загорелым лицом будит соседку Виктории. Один из детей – невозможно разобрать, мальчик это или девочка – начинает хныкать, это быстро перерастает в плач, и скоро оба младенца заходятся таким криком, что у Виктора тут же закладывает правое ухо.
– По-моему, кто-то очень голодный, – весело говорит медсестра, пока соседка Виктории забирает у нее ребенка. Сын Виктории у нее на руках издает звуки, наводящие на Виктора мысли о чем-то потустороннем. Виктория выглядит завороженной, когда медсестра передает мальчика ей.
– Привет, малыш, – говорит она, приподнимая его съехавшую на лоб шапочку. Виктор перепроверяет, он никогда раньше не слышал, чтобы она с кем-нибудь так разговаривала, никакого сарказма, даже голос другой, спокойный и мягкий. – Он такой красивый, правда?
Виктору очень хочется с ней согласиться, он смотрит, но решительно не видит ничего красивого в красном, опухшем, нечеловеческом лице с шелушащейся на щеках кожей. Он не узнает ничего ни от Виктории, ни от Давида, потому что, как ни неудобно ему себе в этом признаться, ребенок больше всего похож на красную нечищеную картофелину. Мальчик перестает плакать, открывает глаза, которые оказываются почти черными, и так серьезно смотрит на Виктора, что ему становится немного не по себе.
– Очень, – наконец говорит он, – кричит просто, как банши.
– Что?
Виктория поднимает на него глаза, у нее нахмуренные брови и немного растерянный вид. Ребенок дергается у нее на руках, и она дает ему мизинец, который он тут же начинает сосать.
– Это ведьмы…в Ирландии, – говорит Виктор и сразу понимает, что шутка не удалась, – так значит Василий?
Виктория смотрит, как возможный Василий старательно сосет ее палец.
– Я не знаю, – она убирает волосы со лба свободной рукой, – мы не…я еще не обсуждала это с Давидом. Я не уверена, понравится ему или нет, может, у него есть какие-то идеи…
Ребенок снова начинает плакать. Виктор непроизвольно улыбается.
– Смотри, понял, что его обманули, – говорит он Виктории, – знаешь, я думаю, решать должна ты. Ты же рожала и вообще.
Слова даются ему с трудом – вся эта ситуация кажется ему нереальной, как бредовый сон или условия задачи в школьном учебнике. Такие, как Виктория, не рожают детей – для этого есть обычные женщины, которые на самом деле любят детей, а не пиво «Туборг», работают на нормальных работах, а не играют на ударных в рок-группе, выходят замуж, а не спят с чужими парнями.
По крайней мере, теперь Виктор не сомневается, что она и Давид действительно спали.
– Вы его кормить собираетесь? – громко спрашивает у них над ухом загорелая медсестра. – Мы вас сегодня выписываем.
– А, да, – Виктория извинительно смотрит на него, – слушай, может быть, ты…
Медсестра перебивает ее все тем же громогласным командным тоном.
– Папаша, подождите в коридоре.
– Я не папаша, – уточняет Виктор, поднимаясь на ноги, – но…да. Я внизу буду, окей? Ты тут собирайся пока.
Виктория рассеяно кивает, расстегивая рубашку. Виктор поспешно выходит из палаты, пока кто-нибудь из детей снова не начал плакать, и в дверях с его плеч соскальзывает больничный халат. Он хочет спуститься, но к нему дважды приходит лифт, идущий вверх, и он идет по лестнице, где ступеньки раскрошены через одну. Он думает о том, что ему до невозможности хочется пить, а еще о том, как изменилась Виктория.
В вестибюле постепенно начинает собираться народ несмотря на жару и сиесту. Виктор обходит холл кругом, раз за разом, пока женщина из регистратуры не начинает озираться на него с подозрением. Он садится на неудобную до ужаса скамейку и достает телефон, который с писком выдает сообщение о разрядившейся батарее. Ему сегодня везет.
Виктору ничего не остается, как смотреть в окно на подъезжающие машины. Одна из них, черный «Мерседес», тормозит с визгом. Водитель небрежно паркуется, занимая сразу два парковочных места. Виктор следит, как он спешно пересекает парковку и открывает дверь ногой.
– Наденьте маску, пожалуйста, – кричит женщина из-за стойки, прижимая к уху телефон.
– Да идите вы к дьяволу!
У посетителя раздраженный тон и такие же, как у Давида, вьющиеся волосы и высокомерный взгляд. Только одет он по-другому, никаких подведенных глаз и мартинсов, вместо этого – ботинки из итальянской кожи, очевидно дорогой костюм и часы фирмы «Таг Хоэр», которые Виктор хотел, но так и не получил на свой двадцать первый день рождения.
– Добрый день, Дмитрий Сергеевич! – говорит Виктор.
Тот кивает, у него серьезный и не слишком довольный вид. – Здравствуй. Он еще не пришел?
Виктор несколько секунд делает вид, что ищет Давида среди посетителей, и мотает головой.
– Я ему позвоню, – Дмитрий Сергеевич оглядывает холл вслед за ним и вытаскивает телефон из кармана, – никогда он ничего не может сделать нормально.
– Все в порядке, – говорит Виктор, но Дмитрий Сергеевич его не слушает.
– Мария подъедет позже, – он говорит быстро и по-деловому, как если бы вел привычное собрание акционеров, – она… она в парикмахерской. Делает прическу. Женщины…
Он изображает подобие улыбки, когда говорит о своей жене-гречанке. Виктор вынужден улыбнуться тоже. На самом же деле он дорого бы дал за возможность не участвовать в этой сцене.
До сегодняшнего дня он видел отца Давида только мельком, и, если верить последнему, это самый отвратительный из всех отцов, которые только бывают на свете. Из-за него Давид ни одного дня за двадцать пять лет не работал, учился в Лондоне, а теперь живет в двух шагах от Остоженки и имеет самую жуткую кредитную историю среди москвичей.
Виктор, который до сих пор живет с родителями, за такое, пожалуй, и согласился бы потерпеть тиранию Дмитрия Сергеевича.
– Как она? – спрашивает отец Давида, прикладывая телефон к уху, отмеряя шагами вестибюль.
– Кто «она»?
– Эта девочка…мать ребёнка.
Виктору и в самом деле начинает казаться, что он снимается в кино – не очень хорошем, вроде низкобюджетного сериала по кабельному, и ждет не дождется команды «стоп», чтобы можно было выйти из кадра и отправиться по своим делам.
Вместо этого он отвечает, стараясь попасть в то ухо Дмитрия Сергеевича, которое свободно от телефона.
– Все в порядке. Ее через час должны выписать.
Дмитрий Сергеевич слишком занят попытками дозвониться до сына, чтобы расслышать ответ.
– Они же с Давидом не расписаны, – говорит он, – а эта девица? С которой он жил? Какой был скандал, когда она узнала, Боже мой…
– Простите, – говорит Виктор. В нескольких шагах отсюда, в коридоре, он только что заметил сортир, который сейчас кажется ему куда более приятным местом, чем соседство с Дмитрием Сергеевичем.
– Но ребенок…это же мальчик, так? Мой внук. Первый внук, у нас по мужской линии всегда одни мальчики…
– Вы, должно быть, очень взволнованы, – подсказывает Виктор. Его умственные силы на исходе, и он жалеет, что сегодня утром бросил автомобиль и поехал на метро. Сейчас он мог бы стоять в пробке в своей машине, где не работает кондиционер, зато есть радио, а главное – можно остаться одному и спокойно заниматься своими делами.
Он и так чувствует, что вторгся в личную жизнь Давида куда больше, чем следует, и в этой жизни оказалось на удивление мало Виктории.
Наконец Давид вторгается и сам, появляясь в больнице с недовольным лицом и двадцатиминутным опозданием. Без падающих на лицо кудрей и толпы обожателей по пятам он в своей мятой рубашке выглядит таким обычным, что Виктор немного оживляется.
– Черт, – он растягивает это слово так, что оно звучит не ругательством, а скорее приветствием. – Я ведь опоздал, да?
Он никогда не чувствовал себя виноватым, не чувствует и сейчас – смотрит лениво и с вызовом, как будто это окружающие провинились тем, что не перевели часы на двадцать минут назад. Его вопрос остается без ответа, хотя в вестибюле не продохнуть от друзей и родственников всех мастей. Эстонская мать Виктории со своими прибалтийскими манерами даже не оборачивается в его сторону, и тогда он обращается к Виктору.
– Блин, такой нервяк, – он шумно выдыхает, – я вообще думал не приходить, ну…
Виктору вспоминается прежний Давид, всегда такой смелый, самый лучший везде и во всем – его громкий голос, его позы и заявления, его несдержанный смех и обидные штуки. Одного стука каблуков его ботинок всегда было достаточно, чтобы Виктория переключила свое внимание и оставила все, чем она занималась – даже если это был Виктор.
Сейчас Давид стоит так близко, что ощутим запах его сигарет, а на загорелом лице видны проступившие капельки пота.
Трус.
Виктору хочется сказать Давиду об этом, высказать все, что он думает, но он никогда не осмелится. Вместо этого он оборачивается как раз вовремя, чтобы увидеть Викторию с ребенком и дурацкой улыбкой.
– Эй!
– Голову надо поддерживать, я же тебе говорила. Дай я покажу. Ты иди, спроси про свидетельство о рождении.
Женщины вокруг громко восхищаются младенцем. Виктория закатывает глаза – так, чтобы это не заметила мать, но увидел Виктор. Стоящий рядом Давид раскачивается на пятках.
– Эй!
Давид делает шаг вперед и целует ее раскрытый в глупой улыбке рот – целует чуточку дольше, чем требуется. Она ниже его ровно настолько, чтобы стоять на цыпочках было неудобно.
– Больше ты ничего сказать не хочешь?
– Пап…
Ребенком завладел Дмитрий Сергеевич – держит его, как ружье, и торжествующе поглядывает на всех вокруг. Виктор с удивлением думает о том, как мальчик может спать в такой обстановке.
– Ты только посмотри, какая фактура – настоящий Сафонов.
– Мне кажется, он на тебя похож, – говорит Виктория Давиду, они все еще стоят в сантиметре друг от друга.
– Ну, наверное…да, – он неуверенно наклоняет голову, вглядываясь в крошечное лицо. – Как его зовут? В смысле, ты уже придумала или нет?
Виктория снова улыбается.
– Я у тебя хотела спросить…ну, то есть у меня есть пара вариантов, но если ты…
Давид кивает. Его красивые изогнутые брови сдвигаются друг к другу – глубокая задумчивость.
– Может, Марк…или Гарри. Как Гарри Поттер. Слушай, да! Гарри Сафонов. Чума вообще.
Дмитрий Сергеевич цокает языком.
– Вот еще! Неужели нет нормальных русских имен? – он смотрит на ребенка, потом переводит взгляд на Викторию, – ты хотя бы скажи ему. Назовите, к примеру, Сергей – как твоего, Давид, деда. Хорошее, благородное имя.
– Я сейчас, – говорит Виктория, – нужно забрать свидетельство и вещи.
Она неумело берет начинающего скулить ребенка и уходит вместе с матерью. Виктор смотрит ей вслед, молча мечтая о том, чтобы ему можно было пойти с ней. Давид делает шаг назад, машет головой, стряхивая падающие на лоб волосы,
– Слушай, пап, – говорит он, – тебе обязательно сейчас комментировать, а? Это мой ребенок и вообще…
– И мой внук! – говорит Дмитрий Сергеевич так громко, что на него оборачиваются, – и я не позволю, чтобы ты давал ему клоунское имя, как какой-нибудь американец, и чтобы его дразнили в школе и…
– Ах да, – Давид тоже повышает голос, он весь в отца, даже голову запрокидывает также, – это я придумал, поэтому это плохо, так? Я же никогда ничего не могу сделать нормально, да, пап?
Виктор не вмешивается, но слушает с интересом и легким ощущением неловкости за другого человека. Давид всегда ведет себя так, как будто он на сцене и за каждым его движением следят несколько сотен человек – и этому веришь, люди и правда начинают смотреть, на него всегда косятся, поглядывают, наблюдают, такие не забываются, и каждый присутствующий может в этом убедиться.
– Я этого не говорил.
– Не говорил, да, – Давид уже кричит во весь голос, срываясь, лицо некрасиво неузнаваемое, – да тебе никогда не нравилось ничего из того, что я делаю! Не так говорю, не так одеваюсь, не так себя веду, теперь еще это!
– Посмотри на себя, Давид, – тихо говорит Дмитрий Сергеевич.
– И ты пришел сюда и ты даже не хочешь сделать вид, что ты за меня рад, потому что…потому что это бы значило, что тебе не плевать, а тебе же всегда было на меня наплевать! Зачем тебе этот блудный сын, да?
Виктор, да и не он один, явно заинтересован в развязке развернувшейся драмы, но женщина из регистратуры, по виду – старшая из медсестер в пестрой форме и компрессионных чулках, подходит к Давиду и трогает его за плечо.
– Вы что себе позволяете?! Выйдите сейчас же, такой шум подняли, когда у людей праздник…
Виктор не остается послушать, что ответит ей Давид и как отреагируют собравшиеся в больнице люди. Он выходит первым, замечая в дверях побледневшее лицо Виктории. Она взмахивает рукой, пытаясь привлечь его внимание, идет за ним и ловит его на крыльце.
– Ты же еще не уходишь? – спрашивает она на одном дыхании и оглядывается через плечо, смотрит сквозь двери обратно, внутрь. – Так много нужно сделать, все эти вещи и еще установить автокресло, ну, детское, а Давид…
Виктор вспоминает сцену в вестибюле – искаженное лицо Давида, то, как он топал ногой в бордовых мартинсах и все всегда получалось по-его – с родителями, с девушками, с друзьями, с каждым, кому не повезло попасться ему на пути.
Он вспоминает и Викторию – ту, другую, ее круглые щеки и блестящие кроссовки, ее драные джинсы и голубые глаза, которые всегда, еще в пятом классе пристально следили за Виктором, но никогда, никогда толком его не видели. Она вся увешена сумками и пакетами, выглядит еще меньше, чем обычно, цепляется за него взглядом. Наверное, Виктор должен чувствовать что-то – нежность, жалость, участие, но он не чувствует ничего. Абсолютный ноль.
– Нет, прости, – говорит Виктор и повторяет еще раз, твёрдо, – я все-таки пойду. Мне нужно забрать машину.
Именно это он и делает. На запыленном Ленинском проспекте дышится удивительно легко.
Он поднимается из метро у парка Горького, надевает солнечные очки и идет по Ленинскому проспекту в сторону площади Гагарина, торопясь и перепрыгивая бордюрные камни. Он успевает к больнице номер один еще до обеда и спотыкается на самой последней ступеньке.
В регистратуре медсестра в форменной шапочке разговаривает по телефону, наматывает на палец прядь волос и советует кому-то разогреть котлеты вместе с подливой, чтобы они не получились сухими. Виктор терпеливо ждет, пока она закончит разговор и попрощается.
– Маску наденьте, – говорит медсестра Виктору. – Чего вам?
– Я посетитель, – объясняет Виктор, – пришел навестить маму с ребенком. Новорожденным.
– Читайте, что написано, – она показывает на плакат за спиной у Виктора. Он читает сощурившись. Плакат сообщает, что посетителей в родильном отделении ждут после трех часов дня. Сейчас половина третьего.
– Ее сегодня выписывают, – говорит Виктор. Медсестра в шапочке делает вид, что не слышит его.
Выругавшись, он выходит на улицу, прихватив цветы, теперь уже похожие на веник. Ему хочется закурить, но он не может найти пепельницу у выхода. Иногда ему кажется, что вся его жизнь проходит в бессмысленном поиске пепельницы там, где не курят. Наконец он находит урну с пепельницей во внутреннем дворике около скамейки, с наслаждением закуривает сигарету и обнаруживает, что она оказалась последней. В такие дни, как сегодня, кажется, что все против него.
Он достает телефон и ищет ближайший табачный магазин, а потом сует цветы под мышку и направляется через сквер. Ленинский проспект за оградой шумный и грязный. В табачном магазине его опять просят надеть маску, а заодно и предъявить паспорт, хотя Виктору уже двадцать четыре. Он знает, что на свой возраст не выглядит – не то, что Давид с его хриплым голосом, шикарным носом и щетиной, которая пробивается уже после двенадцати. Виктор смотрит на это с восхищением, но без зависти, как на красивую до нелепости античную статую – если бы статуи бывали греческими только наполовину, как сам Давид. Завидовать бессмысленно, потому что в Давиде совершенно все, кроме, пожалуй, ступней, но всякому понятно, что ступни не играют в жизни особой роли. Виктор находит вполне закономерным, что именно Давид, а не он, пользуется таким успехом, и редкие девушки, которые первыми заговаривают с Виктором, обычно делают это для того, чтобы спросить, как зовут его друга, этого высокого парня с таким наглым взглядом.
Виктору, наверное, не следует удивляться насчет Виктории тоже. Она дочь авиатора и с рождения привыкла к самому лучшему – новым иномаркам, а не припаркованной у метро машине без кондиционера; ресторанам с видом, а не шоколадкам, которые он таскал ей, уверенный, что она любит шоколад; красоте, а не тому, что Виктор каждый день видит в зеркале после того, как наденет контактные линзы.
Виктор докуривает сигарету и возвращается. В больнице он дает измерить себе температуру и надевает халат для посетителей. В коридорах чисто и пахнет хлором, как всегда в больницах. Ему странно, что Виктория может быть тут, она не любит все стерильное и скучное – по крайней мере, она была такой раньше.
Он помнит ее в десять лет, ее круглые щеки и белые волосы – первый день в новой школе, где они оказались за соседними партами. Они так и просидели до выпускного – он справа, она слева, она носила учебники, а он решал за них обоих задачи по генетике и уравнения на метод электронного баланса, переводил заданную в контрольной температуру из шкалы Цельсия в Кельвины по формуле, которую она никак не могла выучить. Не может быть, чтобы с того времени так многое изменилось.
Виктор проходит через турникет, придерживая халат на плечах. Он заходит в лифт и нажимает кнопку, когда чей-то голос просит его подождать. Он находит кнопку открытия дверей и смотрит, как медсестра в розовой медицинской рубашке заходит в лифт, толкая перед собой каталку с новорожденными. На них одинаковые распашонки и шапочки, и они выглядят совершенно неотличимыми друг от друга. Виктор смотрит на них и не испытывает ничего, кроме легкой тошноты от удушающе сладкого запаха. Он думает, может ли один из них быть ребенком Виктории.
– Вам на какой этаж? – спрашивает медсестра, кивая в сторону панели лифта.
– Третий.
– Нам туда же, – она улыбается ему, у нее загорелое лицо в веснушках, – мы на обед едем, – поправляет одеяло одному из младенцев. – Поздравляю Вас.
– Это не меня, – говорит Виктор, – мою подругу. Я…просто навещаю.
Лифт останавливается, она понимающе кивает и подталкивает каталку к выходу.
– До свидания.
Она выходит первой, энергично толкая тележку перед собой, Виктор идет за ней, не слишком уверенный, где нужная ему палата. От цветочной пыльцы и хлорки ему хочется чихать.
Он наконец находит нужную дверь в конце коридора. Виктория в палате на двоих, ее койка у окна, а на другой спит темноволосая женщина. Виктор стучит и останавливается на пороге. Палата такая крошечная, что ему негде будет сесть.
– Эй, – она машет ему рукой, и он замечает, что выглядит она ужасно – у нее опухшее лицо и мокрые волосы, которые она высушила только наполовину.
– Привет.
Она садится, чтобы обнять его, раскрывает одеяло, и он видит ее большой живот. Она перехватывает его взгляд, опускает глаза и одергивает рубашку.
– Ты..?
– Живот еще не втянулся, – говорит она и виновато улыбается. Виктор понимающе кивает, ему неловко, они обнимаются, и это выходит натянуто, потому что он старается не прижимать ее к себе.
– Это тебе, – он сует ей цветы, хотя они совсем в неподходящем виде, их и поставить здесь некуда – на тумбочке чайник, зарядка для телефона и открытки от ее родственников. Виктор поспешно выходит в коридор и просит медсестру принести вазу. В палате они с Викторией усаживаются на ее одеяло, он складывает руки на коленях, она молча смотрит на него.
– Поздравляю. Значит, мальчик?
– Да, – она невольно улыбается, когда он спрашивает, – почти четыре килограмма. Пятьдесят три сантиметра. Будет высокий, не то что я.
– Ага, – говорит Виктор. – Уже придумали, как назовете?
– Ну, – она залезает под одеяло и натягивает его на живот, – я думала…может, Василий. Знаешь, в честь папы.
Виктор не знает, что сказать, он помнит вечер, когда умер ее отец. Виктор приехал сразу, она стояла в прихожей, еще накрашенная в своем черном пальто, он все говорил что-то, пытался ее отвлечь, а она смотрела мимо его плеча и ничего ему не отвечала, и это было самое страшное. Они никогда не говорили о серьезных вещах, и вот тогда пришлось, никто не знал, как надо. В день похорон было душно, а потом пошел дождь, и Виктор запомнил только красные цветы на свежей могиле.
Они оба молчат, за окном слышно стройку – строят новое больничное крыло, пыль поднимается в неподвижном летнем воздухе и дребезжит дрель.
– Очень было больно? – спрашивает Виктор. Она морщится и неопределенно машет ладонью.
– Ну, – поворачивает подушку, чтобы сесть поудобнее, – сначала да, а потом я попросила обезболивающее, но оно действует только два часа, так что…
– А всего?
– Восемь. С половиной. Он ночью родился.
Виктор чувствует, как у него непроизвольно дергаются мышцы, как если бы кто-нибудь ударил его кулаком в живот.
– Ух. Ну ты герой. Героиня, – поправляет себя сам. – Настоящая.
Виктория пожимает плечами.
– Есть только очень хочется. Тут ничего нельзя нормального, ни сладкого, ни соли…
– Я понял, – говорит Виктор, – вот выпишем тебя отсюда, и с меня чебурек. С мясом, как ты любишь.
Виктория улыбается.
– И бульоном?
– Обязательно! – говорит Виктор, и они оба смеются, глядя друг на друга, и на секунду ему кажется, что все будет по-старому, хотя он знает, что это не так. Виктория откидывается назад и смотрит на него, на солнце у нее до нелепости голубые глаза – наследство от матери-эстонки, на которую она совсем не похожа.
– А Давид…ты его видел?
– Давида? Да, конечно, – ни секунды не думая, бодро врет – он не может сказать ей, что не видел Давида с прошлой недели, когда он злой и дерганый зашел что-то спросить, цеплялся к каждому слову и ушел, открыв дверь пинком своих бордовых мартинсов и так ничего и не объяснив. – Он очень рад.
– Правда?
Что-то меняется у нее в лице, Виктор не знает что, но ему неудобно, и он чувствует облегчение, когда в комнату заходит медсестра. У нее на руках двое младенцев, Виктория начинает улыбаться и дергает Виктора за рукав.
– Который?
– Справа, – говорит она, и он смотрит, но оба ребенка, запеленатые так туго, что они похожи на инопланетян, выглядят совершенно одинаково. Медсестра с очень загорелым лицом будит соседку Виктории. Один из детей – невозможно разобрать, мальчик это или девочка – начинает хныкать, это быстро перерастает в плач, и скоро оба младенца заходятся таким криком, что у Виктора тут же закладывает правое ухо.
– По-моему, кто-то очень голодный, – весело говорит медсестра, пока соседка Виктории забирает у нее ребенка. Сын Виктории у нее на руках издает звуки, наводящие на Виктора мысли о чем-то потустороннем. Виктория выглядит завороженной, когда медсестра передает мальчика ей.
– Привет, малыш, – говорит она, приподнимая его съехавшую на лоб шапочку. Виктор перепроверяет, он никогда раньше не слышал, чтобы она с кем-нибудь так разговаривала, никакого сарказма, даже голос другой, спокойный и мягкий. – Он такой красивый, правда?
Виктору очень хочется с ней согласиться, он смотрит, но решительно не видит ничего красивого в красном, опухшем, нечеловеческом лице с шелушащейся на щеках кожей. Он не узнает ничего ни от Виктории, ни от Давида, потому что, как ни неудобно ему себе в этом признаться, ребенок больше всего похож на красную нечищеную картофелину. Мальчик перестает плакать, открывает глаза, которые оказываются почти черными, и так серьезно смотрит на Виктора, что ему становится немного не по себе.
– Очень, – наконец говорит он, – кричит просто, как банши.
– Что?
Виктория поднимает на него глаза, у нее нахмуренные брови и немного растерянный вид. Ребенок дергается у нее на руках, и она дает ему мизинец, который он тут же начинает сосать.
– Это ведьмы…в Ирландии, – говорит Виктор и сразу понимает, что шутка не удалась, – так значит Василий?
Виктория смотрит, как возможный Василий старательно сосет ее палец.
– Я не знаю, – она убирает волосы со лба свободной рукой, – мы не…я еще не обсуждала это с Давидом. Я не уверена, понравится ему или нет, может, у него есть какие-то идеи…
Ребенок снова начинает плакать. Виктор непроизвольно улыбается.
– Смотри, понял, что его обманули, – говорит он Виктории, – знаешь, я думаю, решать должна ты. Ты же рожала и вообще.
Слова даются ему с трудом – вся эта ситуация кажется ему нереальной, как бредовый сон или условия задачи в школьном учебнике. Такие, как Виктория, не рожают детей – для этого есть обычные женщины, которые на самом деле любят детей, а не пиво «Туборг», работают на нормальных работах, а не играют на ударных в рок-группе, выходят замуж, а не спят с чужими парнями.
По крайней мере, теперь Виктор не сомневается, что она и Давид действительно спали.
– Вы его кормить собираетесь? – громко спрашивает у них над ухом загорелая медсестра. – Мы вас сегодня выписываем.
– А, да, – Виктория извинительно смотрит на него, – слушай, может быть, ты…
Медсестра перебивает ее все тем же громогласным командным тоном.
– Папаша, подождите в коридоре.
– Я не папаша, – уточняет Виктор, поднимаясь на ноги, – но…да. Я внизу буду, окей? Ты тут собирайся пока.
Виктория рассеяно кивает, расстегивая рубашку. Виктор поспешно выходит из палаты, пока кто-нибудь из детей снова не начал плакать, и в дверях с его плеч соскальзывает больничный халат. Он хочет спуститься, но к нему дважды приходит лифт, идущий вверх, и он идет по лестнице, где ступеньки раскрошены через одну. Он думает о том, что ему до невозможности хочется пить, а еще о том, как изменилась Виктория.
В вестибюле постепенно начинает собираться народ несмотря на жару и сиесту. Виктор обходит холл кругом, раз за разом, пока женщина из регистратуры не начинает озираться на него с подозрением. Он садится на неудобную до ужаса скамейку и достает телефон, который с писком выдает сообщение о разрядившейся батарее. Ему сегодня везет.
Виктору ничего не остается, как смотреть в окно на подъезжающие машины. Одна из них, черный «Мерседес», тормозит с визгом. Водитель небрежно паркуется, занимая сразу два парковочных места. Виктор следит, как он спешно пересекает парковку и открывает дверь ногой.
– Наденьте маску, пожалуйста, – кричит женщина из-за стойки, прижимая к уху телефон.
– Да идите вы к дьяволу!
У посетителя раздраженный тон и такие же, как у Давида, вьющиеся волосы и высокомерный взгляд. Только одет он по-другому, никаких подведенных глаз и мартинсов, вместо этого – ботинки из итальянской кожи, очевидно дорогой костюм и часы фирмы «Таг Хоэр», которые Виктор хотел, но так и не получил на свой двадцать первый день рождения.
– Добрый день, Дмитрий Сергеевич! – говорит Виктор.
Тот кивает, у него серьезный и не слишком довольный вид. – Здравствуй. Он еще не пришел?
Виктор несколько секунд делает вид, что ищет Давида среди посетителей, и мотает головой.
– Я ему позвоню, – Дмитрий Сергеевич оглядывает холл вслед за ним и вытаскивает телефон из кармана, – никогда он ничего не может сделать нормально.
– Все в порядке, – говорит Виктор, но Дмитрий Сергеевич его не слушает.
– Мария подъедет позже, – он говорит быстро и по-деловому, как если бы вел привычное собрание акционеров, – она… она в парикмахерской. Делает прическу. Женщины…
Он изображает подобие улыбки, когда говорит о своей жене-гречанке. Виктор вынужден улыбнуться тоже. На самом же деле он дорого бы дал за возможность не участвовать в этой сцене.
До сегодняшнего дня он видел отца Давида только мельком, и, если верить последнему, это самый отвратительный из всех отцов, которые только бывают на свете. Из-за него Давид ни одного дня за двадцать пять лет не работал, учился в Лондоне, а теперь живет в двух шагах от Остоженки и имеет самую жуткую кредитную историю среди москвичей.
Виктор, который до сих пор живет с родителями, за такое, пожалуй, и согласился бы потерпеть тиранию Дмитрия Сергеевича.
– Как она? – спрашивает отец Давида, прикладывая телефон к уху, отмеряя шагами вестибюль.
– Кто «она»?
– Эта девочка…мать ребёнка.
Виктору и в самом деле начинает казаться, что он снимается в кино – не очень хорошем, вроде низкобюджетного сериала по кабельному, и ждет не дождется команды «стоп», чтобы можно было выйти из кадра и отправиться по своим делам.
Вместо этого он отвечает, стараясь попасть в то ухо Дмитрия Сергеевича, которое свободно от телефона.
– Все в порядке. Ее через час должны выписать.
Дмитрий Сергеевич слишком занят попытками дозвониться до сына, чтобы расслышать ответ.
– Они же с Давидом не расписаны, – говорит он, – а эта девица? С которой он жил? Какой был скандал, когда она узнала, Боже мой…
– Простите, – говорит Виктор. В нескольких шагах отсюда, в коридоре, он только что заметил сортир, который сейчас кажется ему куда более приятным местом, чем соседство с Дмитрием Сергеевичем.
– Но ребенок…это же мальчик, так? Мой внук. Первый внук, у нас по мужской линии всегда одни мальчики…
– Вы, должно быть, очень взволнованы, – подсказывает Виктор. Его умственные силы на исходе, и он жалеет, что сегодня утром бросил автомобиль и поехал на метро. Сейчас он мог бы стоять в пробке в своей машине, где не работает кондиционер, зато есть радио, а главное – можно остаться одному и спокойно заниматься своими делами.
Он и так чувствует, что вторгся в личную жизнь Давида куда больше, чем следует, и в этой жизни оказалось на удивление мало Виктории.
Наконец Давид вторгается и сам, появляясь в больнице с недовольным лицом и двадцатиминутным опозданием. Без падающих на лицо кудрей и толпы обожателей по пятам он в своей мятой рубашке выглядит таким обычным, что Виктор немного оживляется.
– Черт, – он растягивает это слово так, что оно звучит не ругательством, а скорее приветствием. – Я ведь опоздал, да?
Он никогда не чувствовал себя виноватым, не чувствует и сейчас – смотрит лениво и с вызовом, как будто это окружающие провинились тем, что не перевели часы на двадцать минут назад. Его вопрос остается без ответа, хотя в вестибюле не продохнуть от друзей и родственников всех мастей. Эстонская мать Виктории со своими прибалтийскими манерами даже не оборачивается в его сторону, и тогда он обращается к Виктору.
– Блин, такой нервяк, – он шумно выдыхает, – я вообще думал не приходить, ну…
Виктору вспоминается прежний Давид, всегда такой смелый, самый лучший везде и во всем – его громкий голос, его позы и заявления, его несдержанный смех и обидные штуки. Одного стука каблуков его ботинок всегда было достаточно, чтобы Виктория переключила свое внимание и оставила все, чем она занималась – даже если это был Виктор.
Сейчас Давид стоит так близко, что ощутим запах его сигарет, а на загорелом лице видны проступившие капельки пота.
Трус.
Виктору хочется сказать Давиду об этом, высказать все, что он думает, но он никогда не осмелится. Вместо этого он оборачивается как раз вовремя, чтобы увидеть Викторию с ребенком и дурацкой улыбкой.
– Эй!
– Голову надо поддерживать, я же тебе говорила. Дай я покажу. Ты иди, спроси про свидетельство о рождении.
Женщины вокруг громко восхищаются младенцем. Виктория закатывает глаза – так, чтобы это не заметила мать, но увидел Виктор. Стоящий рядом Давид раскачивается на пятках.
– Эй!
Давид делает шаг вперед и целует ее раскрытый в глупой улыбке рот – целует чуточку дольше, чем требуется. Она ниже его ровно настолько, чтобы стоять на цыпочках было неудобно.
– Больше ты ничего сказать не хочешь?
– Пап…
Ребенком завладел Дмитрий Сергеевич – держит его, как ружье, и торжествующе поглядывает на всех вокруг. Виктор с удивлением думает о том, как мальчик может спать в такой обстановке.
– Ты только посмотри, какая фактура – настоящий Сафонов.
– Мне кажется, он на тебя похож, – говорит Виктория Давиду, они все еще стоят в сантиметре друг от друга.
– Ну, наверное…да, – он неуверенно наклоняет голову, вглядываясь в крошечное лицо. – Как его зовут? В смысле, ты уже придумала или нет?
Виктория снова улыбается.
– Я у тебя хотела спросить…ну, то есть у меня есть пара вариантов, но если ты…
Давид кивает. Его красивые изогнутые брови сдвигаются друг к другу – глубокая задумчивость.
– Может, Марк…или Гарри. Как Гарри Поттер. Слушай, да! Гарри Сафонов. Чума вообще.
Дмитрий Сергеевич цокает языком.
– Вот еще! Неужели нет нормальных русских имен? – он смотрит на ребенка, потом переводит взгляд на Викторию, – ты хотя бы скажи ему. Назовите, к примеру, Сергей – как твоего, Давид, деда. Хорошее, благородное имя.
– Я сейчас, – говорит Виктория, – нужно забрать свидетельство и вещи.
Она неумело берет начинающего скулить ребенка и уходит вместе с матерью. Виктор смотрит ей вслед, молча мечтая о том, чтобы ему можно было пойти с ней. Давид делает шаг назад, машет головой, стряхивая падающие на лоб волосы,
– Слушай, пап, – говорит он, – тебе обязательно сейчас комментировать, а? Это мой ребенок и вообще…
– И мой внук! – говорит Дмитрий Сергеевич так громко, что на него оборачиваются, – и я не позволю, чтобы ты давал ему клоунское имя, как какой-нибудь американец, и чтобы его дразнили в школе и…
– Ах да, – Давид тоже повышает голос, он весь в отца, даже голову запрокидывает также, – это я придумал, поэтому это плохо, так? Я же никогда ничего не могу сделать нормально, да, пап?
Виктор не вмешивается, но слушает с интересом и легким ощущением неловкости за другого человека. Давид всегда ведет себя так, как будто он на сцене и за каждым его движением следят несколько сотен человек – и этому веришь, люди и правда начинают смотреть, на него всегда косятся, поглядывают, наблюдают, такие не забываются, и каждый присутствующий может в этом убедиться.
– Я этого не говорил.
– Не говорил, да, – Давид уже кричит во весь голос, срываясь, лицо некрасиво неузнаваемое, – да тебе никогда не нравилось ничего из того, что я делаю! Не так говорю, не так одеваюсь, не так себя веду, теперь еще это!
– Посмотри на себя, Давид, – тихо говорит Дмитрий Сергеевич.
– И ты пришел сюда и ты даже не хочешь сделать вид, что ты за меня рад, потому что…потому что это бы значило, что тебе не плевать, а тебе же всегда было на меня наплевать! Зачем тебе этот блудный сын, да?
Виктор, да и не он один, явно заинтересован в развязке развернувшейся драмы, но женщина из регистратуры, по виду – старшая из медсестер в пестрой форме и компрессионных чулках, подходит к Давиду и трогает его за плечо.
– Вы что себе позволяете?! Выйдите сейчас же, такой шум подняли, когда у людей праздник…
Виктор не остается послушать, что ответит ей Давид и как отреагируют собравшиеся в больнице люди. Он выходит первым, замечая в дверях побледневшее лицо Виктории. Она взмахивает рукой, пытаясь привлечь его внимание, идет за ним и ловит его на крыльце.
– Ты же еще не уходишь? – спрашивает она на одном дыхании и оглядывается через плечо, смотрит сквозь двери обратно, внутрь. – Так много нужно сделать, все эти вещи и еще установить автокресло, ну, детское, а Давид…
Виктор вспоминает сцену в вестибюле – искаженное лицо Давида, то, как он топал ногой в бордовых мартинсах и все всегда получалось по-его – с родителями, с девушками, с друзьями, с каждым, кому не повезло попасться ему на пути.
Он вспоминает и Викторию – ту, другую, ее круглые щеки и блестящие кроссовки, ее драные джинсы и голубые глаза, которые всегда, еще в пятом классе пристально следили за Виктором, но никогда, никогда толком его не видели. Она вся увешена сумками и пакетами, выглядит еще меньше, чем обычно, цепляется за него взглядом. Наверное, Виктор должен чувствовать что-то – нежность, жалость, участие, но он не чувствует ничего. Абсолютный ноль.
– Нет, прости, – говорит Виктор и повторяет еще раз, твёрдо, – я все-таки пойду. Мне нужно забрать машину.
Именно это он и делает. На запыленном Ленинском проспекте дышится удивительно легко.



