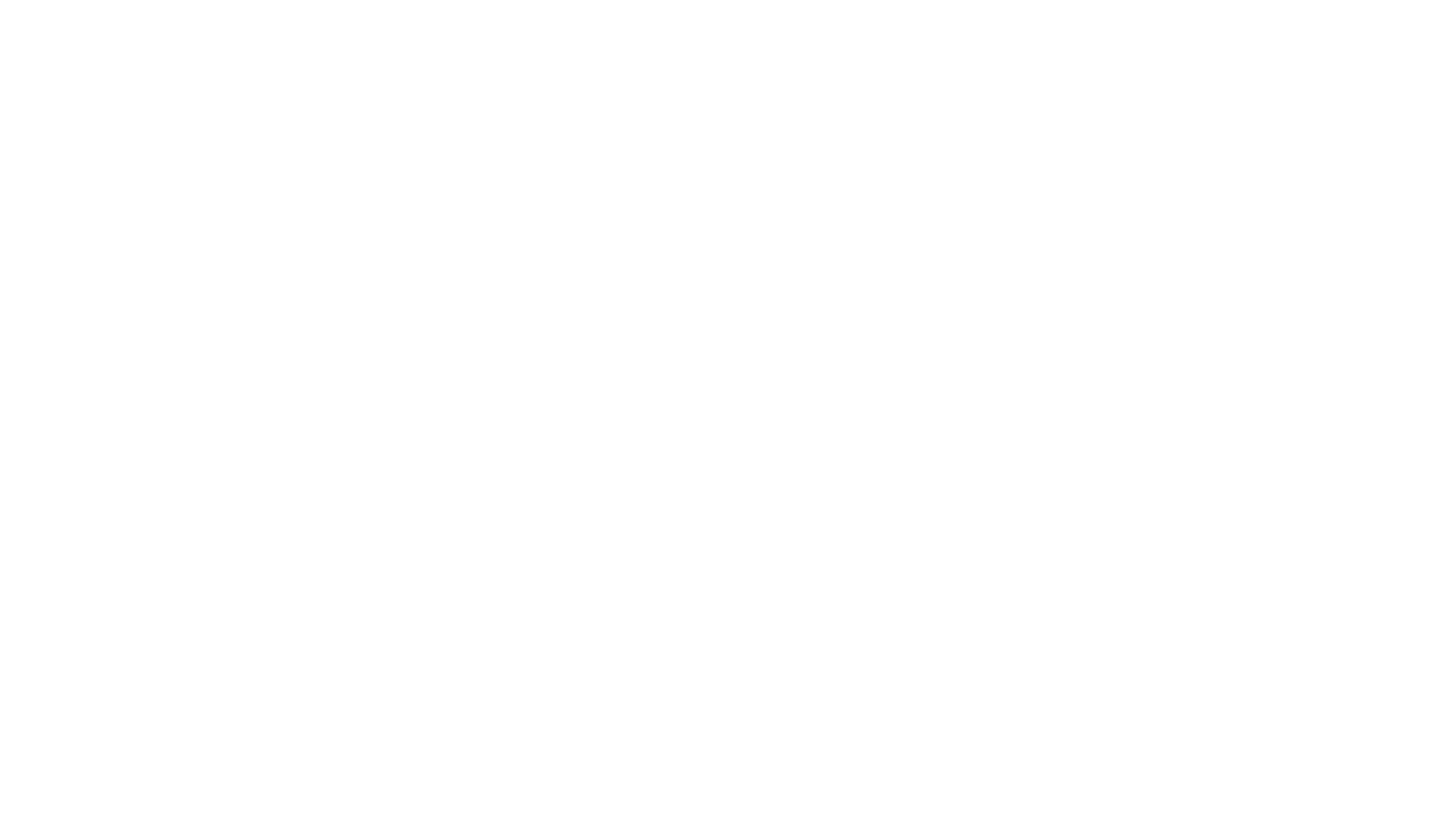
Очарования 2024-го года

Мария Затонская
поэт, главный редактор журнала «Пролиткульт»
В прошедшем году мы наконец провели вечер «Пролиткульта» – в Булгаковском доме, в салоне Андрея Коровина. Пока Денис Ткачук с Пашей Тришкиным нарезали колбасу и распаковывали бокалы, я разглядывала людей – вот они, мои любимые поэты, мои замечательные авторы (да, я эгоистически их присваиваю, надеюсь, они меня простят). Раньше, бывало, читаю, восхищаюсь издалека – не могла и представить, чтобы все они оказались здесь, на расстоянии взгляда.
Кого-то мне открыл журнальный зал, кого-то «Волошинский сентябрь», кого-то «Русский Гофман» – там, например, мы познакомились с замечательным Геннадием Калашниковым, большим поэтом, который стал и автором журнала, и добрым другом.
Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня
Это стихотворение я возила разглядывать к пытливым студентам (и не только) МГУ в декабре, они позвали меня порассказывать о поэзии в их лектории в Парке Горького. Надеюсь, что для кого-то из них оно стало очарованием 24го года.
Кого-то мне открыл журнальный зал, кого-то «Волошинский сентябрь», кого-то «Русский Гофман» – там, например, мы познакомились с замечательным Геннадием Калашниковым, большим поэтом, который стал и автором журнала, и добрым другом.
Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня
Это стихотворение я возила разглядывать к пытливым студентам (и не только) МГУ в декабре, они позвали меня порассказывать о поэзии в их лектории в Парке Горького. Надеюсь, что для кого-то из них оно стало очарованием 24го года.
В прошедшем году мы наконец провели вечер «Пролиткульта» – в Булгаковском доме, в салоне Андрея Коровина. Пока Денис Ткачук с Павлом Тришкиным нарезали колбасу и распаковывали бокалы, я разглядывала людей – вот они, мои любимые поэты, мои замечательные авторы (да, я эгоистически их присваиваю, надеюсь, они меня простят).
Не обойти в списке очарований и «Волошинский сентябрь» – один из лучших литературных фестивалей в стране (за что отдельный низкий поклон Андрею Коровину, Нине Дунаевой и СРП), в этот раз он проходил в Дагестане, среди гранатов, каменных улочек старого города, разговоров о сущности поэзии (но это как обычно, хотя в этом нет ничего обычного) и Боге. Долгое чувство моря, наползающего на валуны, тайный шум на берегу маленькой комнатки, которую я взяла в аренду. Жаль, что это нельзя сложить в чемодан.
Зато можно замечательную книжку Натальи Белоедовой – с огромным глазом травы и неба, смотрящим с обложки. «Кто тут живой?» – спрашивает глаз. Так называется книжка, она вышла в 2024-м в издательстве СТиХИ.
песочницу во время дождя размыло
и она стала морем
со штормом прибоем
берегом
чайки кричат и носятся
небо тяжелое серое
я в красном платье
несмелая
стою на берегу
холодно не могу
В стихах Белоедовой пространства накладываются одно на другое, зыбкие, хрупкие, хотят быть и тем, и этим, как люди. То ли нет ничего невозможного, то ли нет ничего постоянного, ускользает из рук. Что остаётся? Жить. Видеть.
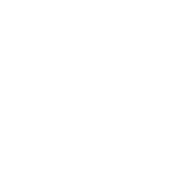
Вадим Муратханов
поэт, соредактор журнала «Интерпоэзия»
Главным очарованием года стали для меня стихи Майки Лунёвской из Тамбовской области. Знакомился я с ними дважды: первый раз – когда ее рукопись рассматривалась в журнале «Интерпоэзия» (см. 2-й номер журнала за 2024 год), второй – когда читал ее стихи, присланные на премию «Лицей».
От поэзии Лунёвской ощущение, что это русская реинкарнация Роберта Фроста. Та же естественность, простота, густой аромат почвы и полная гармония содержания и формы. Тот же эффект дерева, корни которого превосходят в объеме крону.
Если может существовать философская лирика – в классическом ее понимании – в начале нашего столетия, то такой, наверное, она и должна быть. Абсолютно заслуженное место в тройке призеров «Лицея-2024».
Порадовал и приятно удивил стремительный творческий рост Натальи Белоедовой (Ташкент), с первой попытки взявшей третье место на «Русской премии». В считаные годы она преодолела путь от неровных проб пера к уверенной работе со словом, сформировав свой неповторимый поэтический голос.
Стихи Белоедовой проходят по тонкой грани герметизма, минимализма, пейзажной лирики. Ей превосходно удаются миниатюры, где главный объект высказывания ускользает за пределы текста, оставляя нам смутное облако из едва уловимых ощущений, призвуков и послевкусий.
От поэзии Лунёвской ощущение, что это русская реинкарнация Роберта Фроста. Та же естественность, простота, густой аромат почвы и полная гармония содержания и формы. Тот же эффект дерева, корни которого превосходят в объеме крону.
Если может существовать философская лирика – в классическом ее понимании – в начале нашего столетия, то такой, наверное, она и должна быть. Абсолютно заслуженное место в тройке призеров «Лицея-2024».
Порадовал и приятно удивил стремительный творческий рост Натальи Белоедовой (Ташкент), с первой попытки взявшей третье место на «Русской премии». В считаные годы она преодолела путь от неровных проб пера к уверенной работе со словом, сформировав свой неповторимый поэтический голос.
Стихи Белоедовой проходят по тонкой грани герметизма, минимализма, пейзажной лирики. Ей превосходно удаются миниатюры, где главный объект высказывания ускользает за пределы текста, оставляя нам смутное облако из едва уловимых ощущений, призвуков и послевкусий.
Стихи Белоедовой проходят по тонкой грани герметизма, минимализма, пейзажной лирики. Ей превосходно удаются миниатюры, где главный объект высказывания ускользает за пределы текста.
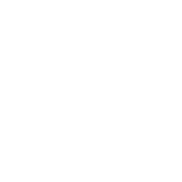
Сергей Баталов
критик, редактор журнала Лиterraтура
Начну с поэзии. Я читаю довольно много современной поэзии. И многое мне нравится. За некоторыми поэтами я прямо слежу, в смысле за их творчеством. Это полные самоиронии и фантазии стихи Дарьи Верясовой. Это внешне простые и предельно честные стихи Майки Луневской. Это полные изысканной образностью стихи Евгении «Джен» Барановой. Это отточенные стихи Эли Погорелой. Перечень имён можно продолжить, но названные – это те поэты, которых я, пожалуй, чаще других читал в текущем году. И, кроме шуток, вполне искренне считаю, что в творчестве перечисленных выше лиц прямо на наших глазах складывается что-то важное, значимое для всей русской поэзии.
Современную прозу читаю не так много. Отчасти потому, что она крайне редко производит на меня впечатление. Но в этом году поразил и восхитил роман Анны Маркиной «Кукольня». Эта такая история странного маньяка, маньяка наоборот, если так можно выразиться. И обычных людей вокруг него – внутри которых свои ангелы и демоны. История написана лихо, стилистическими играми напоминает Джойса, но без его зубодробительной сложности – всё вполне ясно и понятно.
Пожалуй, больше всего в литературе я люблю литературу о литературе. В этом году очаровали две книги этого направления. Первая – Сергей Гандлевский «Незримый рой». Сборник эссеистики Сергея Гандлевского, очень разной – в основном о поэзии, с разным уровнем охвата: анализ отдельных стихотворении, литературные портреты, размышления о природе поэзии в целом.
Современную прозу читаю не так много. Отчасти потому, что она крайне редко производит на меня впечатление. Но в этом году поразил и восхитил роман Анны Маркиной «Кукольня». Эта такая история странного маньяка, маньяка наоборот, если так можно выразиться. И обычных людей вокруг него – внутри которых свои ангелы и демоны. История написана лихо, стилистическими играми напоминает Джойса, но без его зубодробительной сложности – всё вполне ясно и понятно.
Пожалуй, больше всего в литературе я люблю литературу о литературе. В этом году очаровали две книги этого направления. Первая – Сергей Гандлевский «Незримый рой». Сборник эссеистики Сергея Гандлевского, очень разной – в основном о поэзии, с разным уровнем охвата: анализ отдельных стихотворении, литературные портреты, размышления о природе поэзии в целом.
Пожалуй, больше всего в литературе я люблю литературу о литературе. В этом году очаровали две книги этого направления. Первая – Сергей Гандлевский «Незримый рой». Сборник эссеистики Сергея Гандлевского, очень разной – в основном о поэзии, с разным уровнем охвата: анализ отдельных стихотворении, литературные портреты, размышления о природе поэзии в целом.
Я очень люблю сам ход мысли Гандлевского, что в стихах, что в прозе. Я во многом совпадаю с ним и лишний раз в этом убедился. Читая его эссе, постоянно ловил себя на том, что похожим образом размышлял бы сам – если бы обладал большим талантом.
Ну, и раз уж заговорили о Гандлевском – сильнейшее, наверное, мое впечатление от прочтения одного стихотворения в этом году – это его «Я с некоторых пор живу в Тбилиси…». Внешне такое простое-простое. Но уникальное – тем, что показывает, как в нашей голове формируется миф. И полное любви – к живым и ушедшим.
Вторая поразившая меня книга «о литературе» – это книга Михаила Шишкина «Мои. Эссе о русской литературе». В ней представлены литературные портреты. Так, Михаил Шишкин выясняет отношения с рядом значимых для него писателей. Книга написано просто и увлекательно. Логика автора бывает довольно неожиданной, но при этом убедительной. У этих эссе есть особый ракурс – они не столько о творчестве, сколько о судьбе. В которой творческий дар – это и дар, и груз, и поручение. В каждом эссе акцент делается на отношение писателя с обществом и с властью. И всегда эти отношения всегда драматичны.
Критиков довольно редко упоминают во всевозможных итогах. Я и сам этим грешен. Но всё ж таки критические статьи Анны Аликевич весьма радуют меня и слогом, и красотой мысли, и глубиной поднимаемых проблем.
Ну, и в текущем году довольно много перечитывал классику. В основном, опять же, поэзии. Перечитывать старался вдумчиво, принимая во внимание не только текст, но и контекст. Перечитывание дало свои плоды – сделал ряд личных открытий, которые стараюсь отражать в статьях. Всё больше убеждаюсь о том, что наше восприятие классики сильно мифологизировано, и при углублённом чтении её многие мифы рассыпаются.
Кстати, теперь меня несколько смешат все рассуждения об «имперском характере» русской литературы, вне зависимости от того, со знаком плюс либо со знаком минус об этом характере рассуждают. По факту же при детальном рассмотрении этот «имперский характер» практически неразличим. Русского Киплинга во всяком случае у нас не было. Русская литература, к её чести, все-таки всегда была больше христианской, нежели имперской, и чаще говорила о свободе, любви и милости к павшим, чем о державном величии. Хотелось бы, чтобы литература современная наследовала именно эти традиции.
Ну, и раз уж заговорили о Гандлевском – сильнейшее, наверное, мое впечатление от прочтения одного стихотворения в этом году – это его «Я с некоторых пор живу в Тбилиси…». Внешне такое простое-простое. Но уникальное – тем, что показывает, как в нашей голове формируется миф. И полное любви – к живым и ушедшим.
Вторая поразившая меня книга «о литературе» – это книга Михаила Шишкина «Мои. Эссе о русской литературе». В ней представлены литературные портреты. Так, Михаил Шишкин выясняет отношения с рядом значимых для него писателей. Книга написано просто и увлекательно. Логика автора бывает довольно неожиданной, но при этом убедительной. У этих эссе есть особый ракурс – они не столько о творчестве, сколько о судьбе. В которой творческий дар – это и дар, и груз, и поручение. В каждом эссе акцент делается на отношение писателя с обществом и с властью. И всегда эти отношения всегда драматичны.
Критиков довольно редко упоминают во всевозможных итогах. Я и сам этим грешен. Но всё ж таки критические статьи Анны Аликевич весьма радуют меня и слогом, и красотой мысли, и глубиной поднимаемых проблем.
Ну, и в текущем году довольно много перечитывал классику. В основном, опять же, поэзии. Перечитывать старался вдумчиво, принимая во внимание не только текст, но и контекст. Перечитывание дало свои плоды – сделал ряд личных открытий, которые стараюсь отражать в статьях. Всё больше убеждаюсь о том, что наше восприятие классики сильно мифологизировано, и при углублённом чтении её многие мифы рассыпаются.
Кстати, теперь меня несколько смешат все рассуждения об «имперском характере» русской литературы, вне зависимости от того, со знаком плюс либо со знаком минус об этом характере рассуждают. По факту же при детальном рассмотрении этот «имперский характер» практически неразличим. Русского Киплинга во всяком случае у нас не было. Русская литература, к её чести, все-таки всегда была больше христианской, нежели имперской, и чаще говорила о свободе, любви и милости к павшим, чем о державном величии. Хотелось бы, чтобы литература современная наследовала именно эти традиции.
Русская литература, к её чести, все-таки всегда была больше христианской, нежели имперской, и чаще говорила о свободе, любви и милости к павшим, чем о державном величии.



