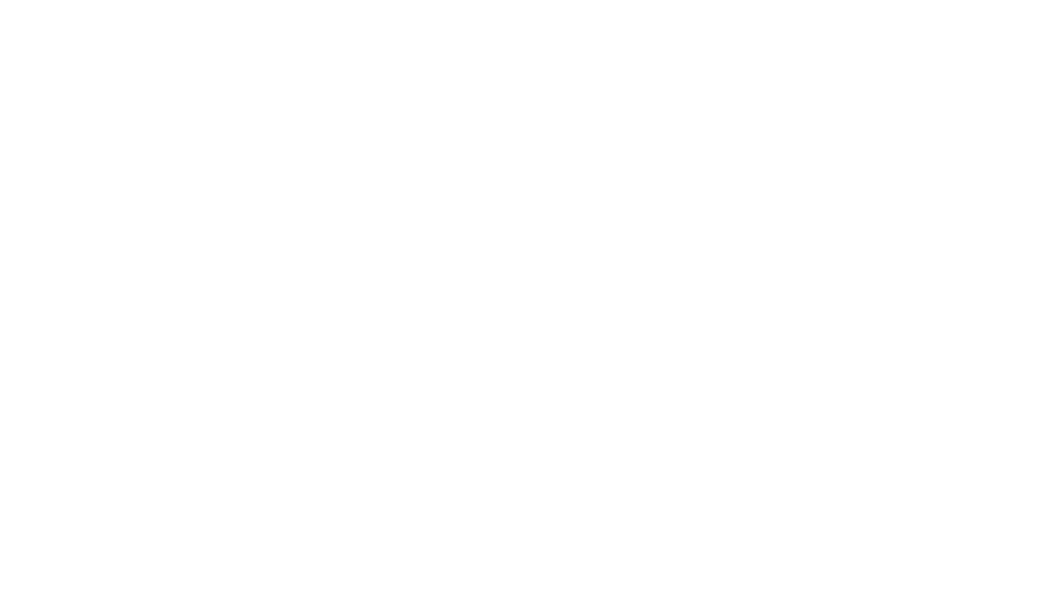
Екатерина Огарёва — Дурак
Екатерина Огарёва (род.1984) — поэт, прозаик, член Союза писателей России. Публиковалась во многих литературных журналах России («Сура», «Странник», «Литературные знакомства», «СимбирскЪ», «Родная Ладога» и пр.). Лауреат III ежегодной Межрегиональной поэтической премии имени Н. Н. Благова в номинации «Верность традиции». Лауреат премии «Молодой Петербург — 2020» в номинации «Проза». Автор поэтической книги «Стежки да стёжки».
Я не была в родном селе уже семь лет...
Единственная дочка и внучка, наследница земли, из века в век принимавшей труды и обессиленные тела праведных предков, я предпочла иную участь — рванула в город. Да не просто в город — в столицу. Казалось, освойся здесь, и деревенские цепкие корни, тянущие в тёмную, ненасытную землю, отпадут сами собой, и жизнь начнётся какая-то иная, лёгкая, сказочная.
Деревня поначалу доставала меня и тут, пусть нечастыми, но приветами в виде железнодорожных посылок с вязаными носками, отборной картошкой и прочей домашней снедью. В метро из тяжеленной коробки, перехваченной со всех сторон бечёвкой, непременно что-то текло и пахло... и мне казалось, что весь вагон смотрит осуждающе, будто разом «раскусив» моё плебейское происхождение. Я просила ничего мне не присылать. Я слушала вполуха пространные телефонные рассказы о родне и огороде. Я с тайной радостью нарушала родительские заветы, смеялась над наивными предостережениями стариков. И всё же деревня казалась неуёмной и вечной в своём навязчивом стремлении меня удержать и вернуть. В своей рьяной борьбе за иной путь и иную «самость», я даже не заметила её постепенной капитуляции.
Становились короче и суше разговоры по телефону, всё чаще в них было о чьих-то похоронах и хворях. Исчезла из посылки извечная банка с топлёным маслом (бабушка более не справлялась с коровой). Заметно смельчала картошка… Мне было всё равно: главное — крепчала я, пускала новые корни на обетованной земле.
На мою свадьбу бабушка и дедушка, никогда не бывавшие дальше областного центра, не приехали — надеялись, что мы с «городским женихом» одумаемся, устроим после широкие деревенские гуляния «как полагается». Не дождались... через год у бабушки, половшей в самый июльский зной грядки, случился удар. Я даже на похороны не смогла поехать — была уже на восьмом месяце. А дед только и рукой махнул в мою сторону: «Чего уж, отрезанный ломоть!»
Тем удивительнее теперь казалось его решение переписать деревенский дом на нас.
***
За это время село даже при беглом взгляде заметно изменилось: тут и там привычные деревянные фасады с резным парадным крыльцом попрятались за однотипный сайдинг, на дворах «побогаче» повырастали глухие заборы, вдоль улицы протянулась на тонких стальных сваях жёлтая труба газификации. И всё же казалось, что за внешним нехитрым благополучием кроется какая-то страшная неприглядная правда. Будто всё это — лишь наспех состряпанный фасад, скрывающий глубокие разломы несущих конструкций.
Неведомое угадывалось по стёртым временем и людской привычкой приметам. За разросшейся бузиной беспомощно топорщился проржавевший остов колхозного телятника. Тише звучала река, будто с тоски подъевшая порог своего самого высокого падуна. От некогда огромного стада, стремящегося на утренней зорьке пёстрым потоком к лугу, а вечером поворачивающего вспять, осталось лишь несколько коров, вполне обходившихся заброшенными соседскими огородами...
Да и наш двор изменился: к бревенчатой избе примкнул цементированный хозяйственный пристрой, но исчезли хлев и сенной сарай — былая крестьянская гордость стариков; куры больше не бегали где придётся — отбывали трудовую повинность на обнесённом рабицей пятачке; спилили на дрова иссохшую ветлу, некогда качавшую меня на своих сильных ветвях. Все эти изменения рождали отчаянную грусть по привычному обжитому миру, по родному мне селу, которое молчаливо сыпалось и бесповоротно исчезало.
Как мой маленький сын, веривший, что солнце встаёт и садится оттого, что он просыпается и засыпает, я, беглянка, вдруг уверовала в то, что в этом упадке и жалком перерождении есть моя, личная вина.
Село казалось своим и чужим одновременно. Да я и сама себя в нём ощущала кем-то инородным, пришлым и вместе с тем — по-сиротски страшащимся быть непризнанным и окончательно изгнанным восвояси.
Кое-как освоившись в доме и приняв первую волну родни, я не стерпела и отправилась с сыном до конца села «посмотреть, как теперь люди живут, да проверить — помнят ли» …
Прошли дворов пять: сын — с любопытством, я — с опаской, да все вроде свои, знакомые — кто головой кивнёт, кто подзовёт-порасспрашивает, бабку вспомнит, сынишке в карман гостинец сунет. Мелкий мой осваивается, мне на душе легчает...
Вдруг видим — дом сгоревший без крыши стоит. Чей, я и не припомню даже. Сын удивляется: сгорел-то как странно! Торчит обуглившейся головешкой — ни одного брёвнышка целёхонького не осталось, а забор стоит себе как новый, крашеный, постройки дворовые ладные… Соседей пламенем и вовсе не задело. Будто бы огненный столб на этот дом сошёл да лишь его и выжег.
Соседская баба Зоя, только что выведывавшая у нас о «столичной жисти», тут как тут. Вернулась с пояснениями. Деревенскому ведь особая «сласть» — рассказать о событии первым, и чем происшествие значительнее и страшнее, тем больше удовольствия рассказчику.
— Зимой погорели, как раз на Крещение. Целая семья тут сгинула, трое человек!
Смотрю, у сына от страха глаза округлились, а баба Зоя распаляется ещё сильнее, описывает в подробностях, как кого нашли-достали, хоронили как… Прикрываю сыну ушки руками, да он, беспокойный, выворачивается:
— И что…никого-никого не осталось?!
— Да как же! — спохватывается баба Зоя, — один остался. Дурак ихний. По селу всё мотался раньше… Неужель не помнишь?
Это она мне, конечно.
…И вот я припоминаю Дурака этого. Я ещё сама маленькой девочкой была, как мой сын теперь, а он уже тогда, взрослый парень, от двора ко двору ходил — побирался.
Как сейчас вижу: идёт по дороге, высокий, нескладный такой, руки, как плети, мотаются. Весь вперёд накренился, того и гляди не удержится — плюхнется, галошами пыль загребает. Идёт-идёт, вдруг встанет — да и повернёт на чей-нибудь двор.
К калитке приблизится, замрёт у плетня, ждёт. Заметят, пустят во двор, дадут какую работу несложную — воды в баню натаскать или дров с телеги сгрузить — после накормят. Бывало, и стакан поднесут. Тогда уж он совсем довольный станет, завалится набок прямо у дороги и лежит в траве — урчит, как кот.
А на Пасху он всегда с деревенскими ребятами ходил славить — яйца крашеные собирать. Дети над ним хоть и посмеивались, дразнили, бывало, но никогда не гнали, брали с собой.
— Христос Воскресе! — кричит ребятня на пороге избы.
— Ы-ы-ы-ы-ы-ы! — радостно вторит им Дурак, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Воистину Воскресе! — отвечает хозяйка, раздавая гостинцы.
Разевают рты пошире праздничные пакеты — принимают подарки. Тянет и Дурак свой мешок.
Бабка наша жалела его — нет-нет да и сунет тайком кусок за так, без работы. А дед, как поймает её за таким благодейством, всякий раз бранится:
— Набалуешь — потом работать вовсе не заставишь!
— Да кому ж его ещё баловать-то…— вздыхает бабка.
И опять: завидит Дурака на дороге, приманит — да и протянет мочёный кусок хлеба, посыпанный сахарным песком:
— На вот, ешь! Только отойди от дому подальше.
А Дурак ухватит лакомство, сядет на радостях тут же — под плетнём, у деда на виду, и сосёт сладкий хлебный сок… Дурак, словом.
Я тогда думала, он ничейный, сам по себе: спит, где придётся, питается, чем бог пошлёт. А у него, оказывается, семья была: отец, мать, брат младший…
— Как же он из дому-то горящего выбрался? Если и умом здоровые не сумели?
— Дык они его в избу и не пускали. Зимой и летом Дурак в хлеву ночевал, со скотом. И держали-то его как скот — для выгоды, за-ради пособия инвалидного. Деньги-то для села хорошие…
Вот оно как оказывается… Жил Дурак впроголодь, а сам родных кормил!
Рассказала баба Зоя, что по зиме решило непутёвое семейство деньгами разжиться. Нагнали под праздники самогонки, наторговали, да сами и запили. Скот забросили, про Дурака и подавно забыли. Ночи в январе стояли холодные, на Крещение и вовсе тридцатиградусный мороз ударил. Хлев, видимо, промёрз совсем. Вот и залез Дурак в дом — погреться. Чего уж он там затеял, неясно: чаю вскипятить хотел или воздух в избе пожарче сделать — да полыхнуло в кухне разом. Выскочил Дурак с перепугу на улицу и побежал к реке — прятаться.
А на речке как раз в ту ночь почти всё село собралось — захаркинский батюшка над прорубью чин Великого Водоосвящения совершал. Смотрят люди: Дурак по снегу бежит босой, в одних штанах да рубашке. Сразу почуяли неладное, кинулись на улицу — а над ней уж зарево! Дом весь занялся, полыхает.
Побежали было за пожарной бригадой, да, как назло, машина встала — не завелась на морозе. Пытались деревенские тушить пожар своими силами: кто снег кидал, кто воду крещенскую с проруби таскал — куда там! Испарялась вода, даже не задев пламени. Видать, «водица огненная», щедро в доме напасённая, своё дело уже сделала.
Так и сгинула дуракова родня в огне вместе со всем своим добром — угорела, охмелённая.
— Видать на то Божья воля была! Раз и святая вода не помогла… — баба Зоя спешно крестится, вздыхает.
О чужом ли дворе печалится, о своём ли, уцелевшем, радуется — непонятно.
— А что с Дураком-то стало? — спрашиваю.
— Да что с ним будет-то? Тётка забрала его в соседнее село. Держит, уж наверно, тоже за пенсию, но не обижает — со двора не гонит, кормит-поит… Это ему теперь как санатория! Только он всё равно нет-нет да сбежит, здесь снова проявится. Вокруг дому ходит всё, причитает по-своему… Дураков-то Бог милует. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!
Постояли мы ещё немного у пепелища, помолчали да и разошлись. Баба Зоя по своим делам заспешила, а мы с сыном обратно к дому повернули.
— Мам, а что эта бабушка про царство говорила? Это из какой сказки?
Я вздрогнула, потому что с безотчётным беспокойством всё повторяла про себя именно эту, заповеданную да старательно запамятованную истину.
— Это из жизни, сынок.
***
На дворе отец с мужем кололи дрова для бани. Сразу видно, оба с азартом: один явно хвастал деревенской сноровкой, а второй напирал на молодость да крепость…
— А ничего зятёк! Хороший из него хозяин выйдет! — подмигнул отец.
… Мы с сыном зашли в дом проведать деда. Жалобно вскрикнул под моими ногами порог, который все домашние давно уж щадили и привыкли переступать.
Старик, очнувшись, кашлянул и поправил очки. Теперь совсем слабый, он большую часть дня лежал на своём диване в передней и читал неизменную, как сам деревенский уклад, «Правду».
Я села у него в ногах. Дощатые полы, несчётное количество раз крашеные в один и тот же охряный цвет, были приятно прохладными. Но у дивана, несмотря на летний зной, стояли старые дедовы валенки. Справа на стене в ряд висели три портрета: два чёрно-белых, уже значительно выцветших — дедовы отец и мать, и цветной — бабушкин. Я заметила, что повешены фотографии несимметрично — старик уже подготовил место и для своего памятного фото. Захотелось закрыть глаза, зажмуриться.
Улёгшись на дедово плечо, сын сбивчиво пересказывал историю о сгоревшем доме. Тот слушал внимательно, хотя, конечно, знал о происшествии ничуть не хуже бабы Зои (а то и сам мог добавить кое-каких подробностей). Я чувствовала, как, слушая, он посматривает поверх очков на меня. Чудилось, что и прадед с прабабкой, и бабушка с настенных портретов тоже на меня смотрят… А там, куда я и глаз поднять не смела, — в красном углу, на полочке перед иконами, — лежала потёртая поминальная книжица. Имена из неё помимо воли восставали в памяти: Аксинья, воин Иоанн, Иоанн, младенец Леонтий… незримые, отринутые мною родичи обступали со всех сторон. Блаженные, простодушные, не ищущие лучшей доли в неведомом далёко и не думавшие отрекаться от своих корней — они-то, верно, были вписаны в Царствие Небесное.
Горела в рассказе сына дуракова изба, и мне самой становилось отчего-то жарко и нестерпимо душно.
— Вот, деда, а он всё равно ходит и ходит к погорелому дому, дурак-то этот!
— Да не такой уж он и дурак, может, раз мест родных не забывает…
Эти слова, сказанные дедом так запросто, прогремели для меня, будто гром. Сползая на пол, я наконец беззвучно и безудержно заплакала. Казалось, о горемычном Дураке, а вправду — о себе, заблудшей.
Я не была в родном селе уже семь лет...
Единственная дочка и внучка, наследница земли, из века в век принимавшей труды и обессиленные тела праведных предков, я предпочла иную участь — рванула в город. Да не просто в город — в столицу. Казалось, освойся здесь, и деревенские цепкие корни, тянущие в тёмную, ненасытную землю, отпадут сами собой, и жизнь начнётся какая-то иная, лёгкая, сказочная.
Деревня поначалу доставала меня и тут, пусть нечастыми, но приветами в виде железнодорожных посылок с вязаными носками, отборной картошкой и прочей домашней снедью. В метро из тяжеленной коробки, перехваченной со всех сторон бечёвкой, непременно что-то текло и пахло... и мне казалось, что весь вагон смотрит осуждающе, будто разом «раскусив» моё плебейское происхождение. Я просила ничего мне не присылать. Я слушала вполуха пространные телефонные рассказы о родне и огороде. Я с тайной радостью нарушала родительские заветы, смеялась над наивными предостережениями стариков. И всё же деревня казалась неуёмной и вечной в своём навязчивом стремлении меня удержать и вернуть. В своей рьяной борьбе за иной путь и иную «самость», я даже не заметила её постепенной капитуляции.
Становились короче и суше разговоры по телефону, всё чаще в них было о чьих-то похоронах и хворях. Исчезла из посылки извечная банка с топлёным маслом (бабушка более не справлялась с коровой). Заметно смельчала картошка… Мне было всё равно: главное — крепчала я, пускала новые корни на обетованной земле.
На мою свадьбу бабушка и дедушка, никогда не бывавшие дальше областного центра, не приехали — надеялись, что мы с «городским женихом» одумаемся, устроим после широкие деревенские гуляния «как полагается». Не дождались... через год у бабушки, половшей в самый июльский зной грядки, случился удар. Я даже на похороны не смогла поехать — была уже на восьмом месяце. А дед только и рукой махнул в мою сторону: «Чего уж, отрезанный ломоть!»
Тем удивительнее теперь казалось его решение переписать деревенский дом на нас.
***
За это время село даже при беглом взгляде заметно изменилось: тут и там привычные деревянные фасады с резным парадным крыльцом попрятались за однотипный сайдинг, на дворах «побогаче» повырастали глухие заборы, вдоль улицы протянулась на тонких стальных сваях жёлтая труба газификации. И всё же казалось, что за внешним нехитрым благополучием кроется какая-то страшная неприглядная правда. Будто всё это — лишь наспех состряпанный фасад, скрывающий глубокие разломы несущих конструкций.
Неведомое угадывалось по стёртым временем и людской привычкой приметам. За разросшейся бузиной беспомощно топорщился проржавевший остов колхозного телятника. Тише звучала река, будто с тоски подъевшая порог своего самого высокого падуна. От некогда огромного стада, стремящегося на утренней зорьке пёстрым потоком к лугу, а вечером поворачивающего вспять, осталось лишь несколько коров, вполне обходившихся заброшенными соседскими огородами...
Да и наш двор изменился: к бревенчатой избе примкнул цементированный хозяйственный пристрой, но исчезли хлев и сенной сарай — былая крестьянская гордость стариков; куры больше не бегали где придётся — отбывали трудовую повинность на обнесённом рабицей пятачке; спилили на дрова иссохшую ветлу, некогда качавшую меня на своих сильных ветвях. Все эти изменения рождали отчаянную грусть по привычному обжитому миру, по родному мне селу, которое молчаливо сыпалось и бесповоротно исчезало.
Как мой маленький сын, веривший, что солнце встаёт и садится оттого, что он просыпается и засыпает, я, беглянка, вдруг уверовала в то, что в этом упадке и жалком перерождении есть моя, личная вина.
Село казалось своим и чужим одновременно. Да я и сама себя в нём ощущала кем-то инородным, пришлым и вместе с тем — по-сиротски страшащимся быть непризнанным и окончательно изгнанным восвояси.
Кое-как освоившись в доме и приняв первую волну родни, я не стерпела и отправилась с сыном до конца села «посмотреть, как теперь люди живут, да проверить — помнят ли» …
Прошли дворов пять: сын — с любопытством, я — с опаской, да все вроде свои, знакомые — кто головой кивнёт, кто подзовёт-порасспрашивает, бабку вспомнит, сынишке в карман гостинец сунет. Мелкий мой осваивается, мне на душе легчает...
Вдруг видим — дом сгоревший без крыши стоит. Чей, я и не припомню даже. Сын удивляется: сгорел-то как странно! Торчит обуглившейся головешкой — ни одного брёвнышка целёхонького не осталось, а забор стоит себе как новый, крашеный, постройки дворовые ладные… Соседей пламенем и вовсе не задело. Будто бы огненный столб на этот дом сошёл да лишь его и выжег.
Соседская баба Зоя, только что выведывавшая у нас о «столичной жисти», тут как тут. Вернулась с пояснениями. Деревенскому ведь особая «сласть» — рассказать о событии первым, и чем происшествие значительнее и страшнее, тем больше удовольствия рассказчику.
— Зимой погорели, как раз на Крещение. Целая семья тут сгинула, трое человек!
Смотрю, у сына от страха глаза округлились, а баба Зоя распаляется ещё сильнее, описывает в подробностях, как кого нашли-достали, хоронили как… Прикрываю сыну ушки руками, да он, беспокойный, выворачивается:
— И что…никого-никого не осталось?!
— Да как же! — спохватывается баба Зоя, — один остался. Дурак ихний. По селу всё мотался раньше… Неужель не помнишь?
Это она мне, конечно.
…И вот я припоминаю Дурака этого. Я ещё сама маленькой девочкой была, как мой сын теперь, а он уже тогда, взрослый парень, от двора ко двору ходил — побирался.
Как сейчас вижу: идёт по дороге, высокий, нескладный такой, руки, как плети, мотаются. Весь вперёд накренился, того и гляди не удержится — плюхнется, галошами пыль загребает. Идёт-идёт, вдруг встанет — да и повернёт на чей-нибудь двор.
К калитке приблизится, замрёт у плетня, ждёт. Заметят, пустят во двор, дадут какую работу несложную — воды в баню натаскать или дров с телеги сгрузить — после накормят. Бывало, и стакан поднесут. Тогда уж он совсем довольный станет, завалится набок прямо у дороги и лежит в траве — урчит, как кот.
А на Пасху он всегда с деревенскими ребятами ходил славить — яйца крашеные собирать. Дети над ним хоть и посмеивались, дразнили, бывало, но никогда не гнали, брали с собой.
— Христос Воскресе! — кричит ребятня на пороге избы.
— Ы-ы-ы-ы-ы-ы! — радостно вторит им Дурак, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Воистину Воскресе! — отвечает хозяйка, раздавая гостинцы.
Разевают рты пошире праздничные пакеты — принимают подарки. Тянет и Дурак свой мешок.
Бабка наша жалела его — нет-нет да и сунет тайком кусок за так, без работы. А дед, как поймает её за таким благодейством, всякий раз бранится:
— Набалуешь — потом работать вовсе не заставишь!
— Да кому ж его ещё баловать-то…— вздыхает бабка.
И опять: завидит Дурака на дороге, приманит — да и протянет мочёный кусок хлеба, посыпанный сахарным песком:
— На вот, ешь! Только отойди от дому подальше.
А Дурак ухватит лакомство, сядет на радостях тут же — под плетнём, у деда на виду, и сосёт сладкий хлебный сок… Дурак, словом.
Я тогда думала, он ничейный, сам по себе: спит, где придётся, питается, чем бог пошлёт. А у него, оказывается, семья была: отец, мать, брат младший…
— Как же он из дому-то горящего выбрался? Если и умом здоровые не сумели?
— Дык они его в избу и не пускали. Зимой и летом Дурак в хлеву ночевал, со скотом. И держали-то его как скот — для выгоды, за-ради пособия инвалидного. Деньги-то для села хорошие…
Вот оно как оказывается… Жил Дурак впроголодь, а сам родных кормил!
Рассказала баба Зоя, что по зиме решило непутёвое семейство деньгами разжиться. Нагнали под праздники самогонки, наторговали, да сами и запили. Скот забросили, про Дурака и подавно забыли. Ночи в январе стояли холодные, на Крещение и вовсе тридцатиградусный мороз ударил. Хлев, видимо, промёрз совсем. Вот и залез Дурак в дом — погреться. Чего уж он там затеял, неясно: чаю вскипятить хотел или воздух в избе пожарче сделать — да полыхнуло в кухне разом. Выскочил Дурак с перепугу на улицу и побежал к реке — прятаться.
А на речке как раз в ту ночь почти всё село собралось — захаркинский батюшка над прорубью чин Великого Водоосвящения совершал. Смотрят люди: Дурак по снегу бежит босой, в одних штанах да рубашке. Сразу почуяли неладное, кинулись на улицу — а над ней уж зарево! Дом весь занялся, полыхает.
Побежали было за пожарной бригадой, да, как назло, машина встала — не завелась на морозе. Пытались деревенские тушить пожар своими силами: кто снег кидал, кто воду крещенскую с проруби таскал — куда там! Испарялась вода, даже не задев пламени. Видать, «водица огненная», щедро в доме напасённая, своё дело уже сделала.
Так и сгинула дуракова родня в огне вместе со всем своим добром — угорела, охмелённая.
— Видать на то Божья воля была! Раз и святая вода не помогла… — баба Зоя спешно крестится, вздыхает.
О чужом ли дворе печалится, о своём ли, уцелевшем, радуется — непонятно.
— А что с Дураком-то стало? — спрашиваю.
— Да что с ним будет-то? Тётка забрала его в соседнее село. Держит, уж наверно, тоже за пенсию, но не обижает — со двора не гонит, кормит-поит… Это ему теперь как санатория! Только он всё равно нет-нет да сбежит, здесь снова проявится. Вокруг дому ходит всё, причитает по-своему… Дураков-то Бог милует. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!
Постояли мы ещё немного у пепелища, помолчали да и разошлись. Баба Зоя по своим делам заспешила, а мы с сыном обратно к дому повернули.
— Мам, а что эта бабушка про царство говорила? Это из какой сказки?
Я вздрогнула, потому что с безотчётным беспокойством всё повторяла про себя именно эту, заповеданную да старательно запамятованную истину.
— Это из жизни, сынок.
***
На дворе отец с мужем кололи дрова для бани. Сразу видно, оба с азартом: один явно хвастал деревенской сноровкой, а второй напирал на молодость да крепость…
— А ничего зятёк! Хороший из него хозяин выйдет! — подмигнул отец.
… Мы с сыном зашли в дом проведать деда. Жалобно вскрикнул под моими ногами порог, который все домашние давно уж щадили и привыкли переступать.
Старик, очнувшись, кашлянул и поправил очки. Теперь совсем слабый, он большую часть дня лежал на своём диване в передней и читал неизменную, как сам деревенский уклад, «Правду».
Я села у него в ногах. Дощатые полы, несчётное количество раз крашеные в один и тот же охряный цвет, были приятно прохладными. Но у дивана, несмотря на летний зной, стояли старые дедовы валенки. Справа на стене в ряд висели три портрета: два чёрно-белых, уже значительно выцветших — дедовы отец и мать, и цветной — бабушкин. Я заметила, что повешены фотографии несимметрично — старик уже подготовил место и для своего памятного фото. Захотелось закрыть глаза, зажмуриться.
Улёгшись на дедово плечо, сын сбивчиво пересказывал историю о сгоревшем доме. Тот слушал внимательно, хотя, конечно, знал о происшествии ничуть не хуже бабы Зои (а то и сам мог добавить кое-каких подробностей). Я чувствовала, как, слушая, он посматривает поверх очков на меня. Чудилось, что и прадед с прабабкой, и бабушка с настенных портретов тоже на меня смотрят… А там, куда я и глаз поднять не смела, — в красном углу, на полочке перед иконами, — лежала потёртая поминальная книжица. Имена из неё помимо воли восставали в памяти: Аксинья, воин Иоанн, Иоанн, младенец Леонтий… незримые, отринутые мною родичи обступали со всех сторон. Блаженные, простодушные, не ищущие лучшей доли в неведомом далёко и не думавшие отрекаться от своих корней — они-то, верно, были вписаны в Царствие Небесное.
Горела в рассказе сына дуракова изба, и мне самой становилось отчего-то жарко и нестерпимо душно.
— Вот, деда, а он всё равно ходит и ходит к погорелому дому, дурак-то этот!
— Да не такой уж он и дурак, может, раз мест родных не забывает…
Эти слова, сказанные дедом так запросто, прогремели для меня, будто гром. Сползая на пол, я наконец беззвучно и безудержно заплакала. Казалось, о горемычном Дураке, а вправду — о себе, заблудшей.



