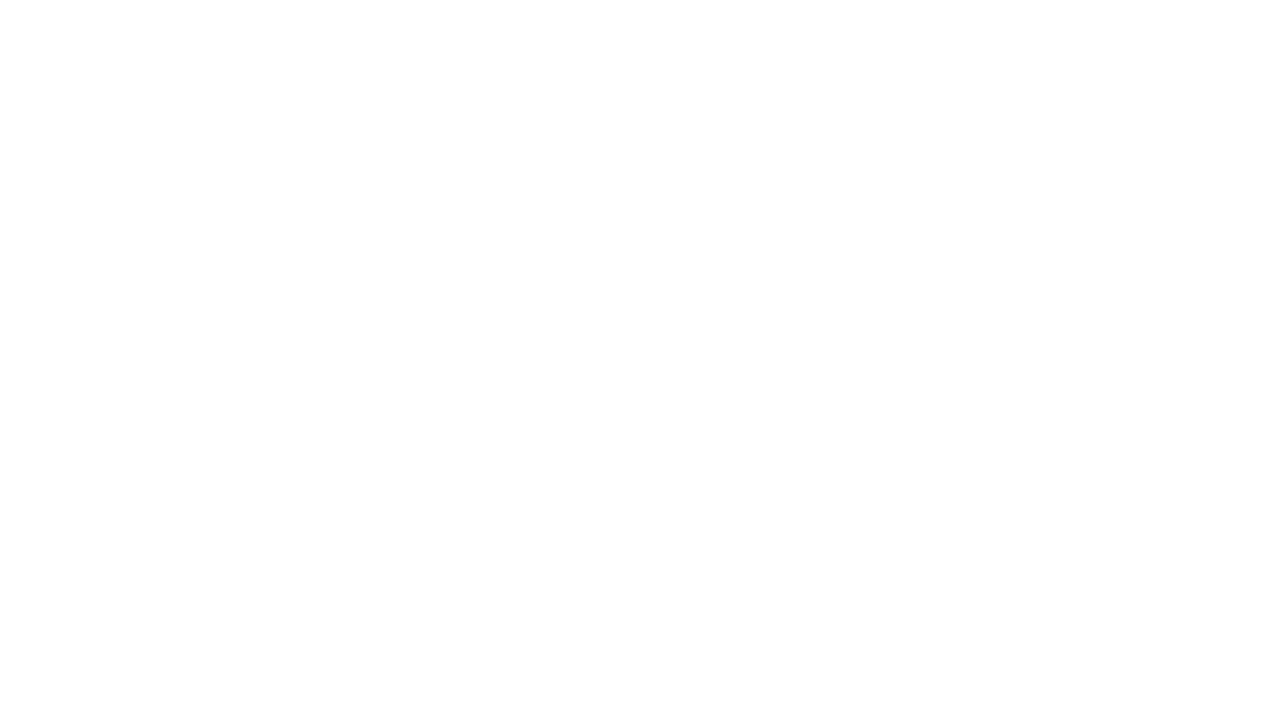
Павел Пономарёв — Кладбищенские Пушкари
Павел Пономарёв – поэт, прозаик, публицист. Родился в 1997 году в г. Лебедянь Липецкой области. Лауреат литературной премии Справедливой России «В поисках правды и справедливости», воронежской литературной премии «Кольцовский край». Публиковался в журналах «Знамя», «Юность», «Наш современник», «Сибирские огни», «Подъём», газете «Литературная Россия», сетевых изданиях «Горький Медиа», «Лиterraтура», «Формаслов», федеральной и региональной прессе. Автор книги публицистики «Со-бытие. Дневник молодого человека».
*
Мой прапрадед — священник Преображенской церкви — был расстрелян в тридцать седьмом.
Когда я об этом узнал?
Наверное, когда на родовом нашем доме по бывшей Преображенской улице (теперь она — по имени красного командира, в фамилии которого ну просто все сейчас, как будто назло прям, ей-богу, делают ошибку: пишут ё вместо о) открыли мемориальную доску в память о моём прапрадеде.
Прапрабабка так и ждала его до конца своей жизни (а прожила она после ареста мужа ещё сорок пять лет), которого, не бравшего требу с сирот и со вдов — за их покойников, — таскала за курчавую, клином стоявшую рыжеватую бороду, за каштановые волны волос, покрывавших плечи…
Уходил он после этого к соседке, Марье Никифоровне. И уже сам — с горя, с досады — рвал волоски из бородки, в которую стекали слёзы. И с завивавшихся кончиков падали капли в чашку с мятно-липовым чаем, наведённым Марьей Никифоровной.
Только не было у них ничего. Не потому что он священник и нельзя ему с другими. А потому что он бабку Лёну любил — мою прапрабабку, свою жену. Любил больше всех на свете, больше всякого жившего на земле человека, — разве что кроме матери.
А она его — за бороду. За волосы. За глупое милосердие, мягкотелость, которые заставляли метаться то к красным, то к белым, то опять к красным…
И наконец, в августе тридцать седьмого приехали и забрали его.
Первые года два по городу ещё ходили слушки, сплетенки, что видели, мол, «Цыгана» (так в городе звали прапрадеда — за кудрявые волосы и крючковатый нос) — то в Ельце, то на железной дороге; то где-то на пересылке какой-то «откинувшийся» — то ли из Сергиевки, то ли из-под Слободки — с ним пересёкся…
Чем ближе подступал коммунизм, тем больше в семье убеждались, что отца пристрелили в тридцать седьмом.
А это уже в году восемьдесят восьмом было: до прадеда, искавшего по архивам следы отца, дошли — на этот раз вроде проверенные, как пить дать — сведения, что в Воронеже где-то какой-то человек признался: полвека назад подростком он, гуляя по окраинам леса (лес был дубовый, поэтому и посёлок в начале прошлого века стал Дубовкой), увидел, как на поляне рыл яму экскаватор. Зимой. Подслушал, о чём говорили — говорили, что завтра здесь будут врагов народа стрелять. Утром пришёл, залез на дерево и оттуда видел, как НКВД-эшники человек шестьдесят в этой яме — в эту яму — положили.
Прадед — суетной дед — на своём «Запорожце», за которым в своё время как инвалид войны несколько лет в очередях отстоял, — поехал в Воронеж. Нашёл того человека. Тот всё рассказал, показал место… Прадед взял с земли горсть, привёз домой и присыпал на Старом кладбище, в могилу своей бабки — тёщи расстрелянного отца. И поставил крест с табличкой.
Тогда же примерно, в те годы, в одичавшую Преображенскую церковь — через полвека после того, как забрали последнего её настоятеля, моего прапрадеда, — прислали священника — отца Ермолая.
Прадед — дитя советского государства, убеждённый, хотя и не партийный коммунист, фронтовик, дважды раненный и контуженный, никогда не распространявшийся ни о войне, ни об отце, «враге народа» (как всё это в прадеде уживалось, не понимаю), — открылся священнику. Отцу Ермолаю.
Он — отец Ермолай — крестил меня, новорождённого, в Преображенской церкви. Хотя, конечно, не помню я это купельное младенчество — говорят, я сильно плакал, когда отец Ермолай окунал меня.
Преображенскую церковь ещё называют Кладбищенской, потому что на Старом кладбище она. А Старое кладбище — в Кладбищенских Пушкарях, слободе на севере города. Дом наш — через несколько домов от Старого кладбища, так, что с нашего огорода виден остов двухсотлетней краснокирпичной стены: в этом месте она — совсем ветхая, осевшая в землю, и стену можно двумя шагами перемахнуть. В реденькой, как пушок на темени старика, листве столетних клёнов краснеет Преображенская — в тон стены — церковь с зелёными куполами, растворяющаяся, будто святая, в утреннем золотом тумане, сливающаяся куполами с листвой…
Церковь лет двести пятьдесят назад построили, на деньги местных купцов Игумновых, лежащих здесь же, возле церкви, в родовом захоронении.
Раньше тут была их усыпальница: «Усыпальница, каменная, размером 10х8 аршин», — так написано в клировой ведомости Преображенской церкви за 1915 год (я сам читал). А потом…
В первые советские годы усыпальницу разграбили.
Моя прабабка рассказывала: в юности, гуляя по Старому кладбищу, провалилась она в склеп.
Было это, кажется, в сороковых.
Был ли это игумновский склеп или ещё какой — теперь не узнаешь: у мёртвых, как говорится, не спросишь.
Но склепов на нашем некрополе я, исходивший его в детстве вдоль и поперёк, никогда не видел.
Так однажды, бродя по кладбищу, я случайно наткнулся на могилу прапрадеда.
Я никогда на ней не был и не знал, где она находится, потому что последние годы никто на неё уже не ходил.
Да и мало кто уже помнил, где она, прости Господи, находится.
А гранитные игумновские плиты (вот уж действительно — памятники) найдёшь сегодня не только возле Преображенской церкви, но и в других местах кладбища, и в монастыре на окраине города…
То, что в монастыре — понятно: по собственной последней воле богатые праведники хотели упокоиться в земле обители. И воля исполнялась. И обретался покой.
А то, что в разных местах некрополя… Это после того, как разграбили усыпальницу Игумновых. Те памятники, что побогаче, — те растащили. А те, что победнее, постарее — те припрятали в разных местах некрополя.
Когда вся эта бесовщина прошла и народ опомнился, — стали их отыскивать, стаскивать в одно место — туда, где оставались ещё следы усыпальницы, к Преображенской церкви, по правую — от алтаря — её сторону. Так теперь там и лежат.
Но где-то по кладбищу до сих пор ещё находятся — отыскиваются — сиротливые плиты, памятники-эмигранты, Бог знает кем туда свезённые, приволочённые, сваленные… Я на них, бродя по некрополю, натыкался.
*
Стонет калитка возле дома напротив нашего. Там живут старики Корабельниковы. Там живёт отец Ермолай, когда приезжает в Кладбищенские Пушкари.
Вот выходит он сам — высокий (выше среднего), поджарый, хорошо сложенный, с длинными шагами и чуть сутулой фигурой, с большим, высвободившемся от волос лбом и белой окладистой бородой.
— Владимирский централ, ветер северный! — поёт отец Ермолай. Басовито, с характерными для церковного песнопения обертонами.
Срочную он отслужил в конвойном полку в норильских лагерях.
Семья — больная полиартритом жена и сын, инвалид детства — живёт на море.
А отец Ермолай в это время восстанавливает Преображенскую церковь.
Деньги собирает на службах в московских храмах.
Из Москвы на попутках добирается до Пушкарей. С чемоданами. С чемоданами денег.
Пушкари — все жёлтые в зелёном. Зелень в августе держится ещё крепко. Солнце играется в ней, а трава ещё не высохла — и после вчерашнего солнца, и после сегодняшней ночи. И луна ещё бледная, пусть в уже вытянувшемся слоёном небе. И самое броское сейчас в этом защитном хаки — яблоня в палисаднике Корабельниковых.
Яблоня в яблоках, тоже зелёных — рухнет того и гляди под ними.
И воздух-дым, рассеиваясь по улице, сползает в лог, чтобы где-то там, ближе к горизонту, встать от полей голубым туманом.
Пар изо рта — как этот туман. Тонут Пушкари в золотом дыме. Это курит в Пушкарях Бог, и нет вокруг никого, кто бы мог сейчас перекурить с ним за компанию. Только толстый, разбухший грач на фонарном проводе — прощается; только дятел точит столетнюю тополиную кору — где-то над кладбищем, там, где Бог раскуривает свою трубку. И никто не хочет сейчас выйти Ему навстречу — на улицу. Потому что холодно, потому что хочется спать. Один отец Ермолай — не спит и не курит. Он давно бросил, и поэтому идти и идти ему сейчас — по улице, по слободе, по городу…
Пахнет вчерашними кострами с огородов, семечками с подсолнуховых полей, влагой, выступающей на земле после ночного озноба.
И земля — ещё девственница: без двух недель девятиклассница, которая уже скоро пойдёт в свою школу в новых босоножках на высокой платформе.
И кажется, нет во всём городе воздуха чище и холоднее сейчас, чем в наших пологих Кладбищенских Пушкарях.
Почему «Кладбищенские» — понятно.
А «Пушкари» — потому что ещё до того, как стало кладбище, жили здесь пушкари — служилые люди, артиллеристы, сторожившие город-крепость, а вместе с ним — границу на юге Московского царства. Границу с Диким полем. Ещё Украйна была окрайной, ещё кочевой была степь, и татары ходили походами на Москву. Не доходили — останавливались под Ефремовом, под Ельцом, Под Данковом… Останавливали — стрельцы, казаки, пушкари. Служилый люд, селившийся в слободах по острогам, чтобы охранять границу. Первые жители.
Батя мой собирается на работу, выгоняет из гаража машину… И отец Ермолай — уже тут как тут:
— На́ гору, сынок, подбрось!
«На́ гору» — это из Пушкарей в центр, который — на большой возвышенности (уж такие особенности ландшафта у нас). Подняться туда — минут пятнадцать.
Батя, конечно, подбросит отца Ермолая, который за дорогу никогда не заплатит. И так он — по всей стране. Привык уже.
— Аферист! — говорят у нас про отца Ермолая. И нет, не в шутку, не со зла…
Рассказывают, что в своё время обманул он и прадеда, и его брата, жившего в Подмосковье; отец Ермолай, мотавшийся по стране, успел заскочить, познакомиться. Было это в конце девяностых — как раз, когда прадед умер.
А в нулевом не стало и его брата.
*
— Владычица Богородица, матушка, прости нас, грешных! — отец Ермолай сидит на кухне, где горит над столом нелепый абажур, который как будто куриной слепотой болеет.
Откинувшись на спинку кресла, с обвисшими руками на подлокотниках, отец Ермолай смотрит на икону в красном углу и как будто спит, хотя глаза его не моргают. Из них по красным впалым щекам катятся прозрачные как водка слёзы, размачивая белую обмякшую бороду. И не двигаются ни борозды-дуги на лбу, ни куриные лапки у глаз, ни набухшие пурпурные веки, вздувшиеся от влаги… Только рот, округлившийся, будто сливу в него вложили, бубнит басовито какой-то бред (не бред, молитвы) — и становится в комнате громче, и громче, и слёзы как вода, стекающая в грозу из желобов, идут по лицу отца Ермолая.
— О-ох, о-ох, о-о-ох! — стонет медведем отец Ермолай, точно больной, пьяный, и подаётся телом вперёд, головой — к своим огромным, серым, босым ногам, возле которых, на полу, сидим мы — я и соседский дружок, внук стариков Корабельниковых — строим из кубиков дом.
И бессильное пьяное умиление летним вечером, от перетруженного — как спину сорвал — дня, перетёкшее в раскаяние, обвинение самого себя во всех грехах человеческих — за них, людей, за грехи их, — становится вдруг ненавистью к нам, праздным детям. И отец Ермолай гонит нас, готовый бить своими совковыми кистями нас по спинам, по задам… Но, уже не в силах подняться с кресла, вновь откидывается на спинку, смотрит на икону в красном углу и, глотая последние слёзы, засыпает.
*
Когда открывали доску, детей расстрелянного священника в живых уже не было никого. Но были мои родители, его внуки; в городе жили другие внуки — со своими семьями, детьми, внуками. И жили внуки и вну́чки расстрелянного священника — тоже со своими семьями — в Подмосковье. Всех их отец Ермолай собрал, когда открывали доску. Открывали стихийно: отец Ермолай так суетился, что самое страшное слово на доске — «расстрелян» — оказалось с одной «с».
Зачем он открывал эту доску, так никто толком и не понял. Почему для памяти обновленца, «красного попа» искал деньги на гранит, на мастеров, — тоже непонятно. Собрал на открытие этой доски местных журналистов, местное церковное начальство… Самих нас, наконец, — разлетевшихся по большой стране. В годы Большого террора.
После того, как все сказали свои слова, отец Ермолай стал служить панихиду по «убиенному иерею».
Перед панихидой немногим собравшимся жителям Пушкарей отец Ермолай рассказал о том, что в домике, возле которого все они сейчас собрались, ещё живёт сноха того, которому открывают сейчас эту доску.
— Только она уже не встаёт, — сказал отец Ермолай. — Дай Бог здоровья ей и всему их гнезду!
Августовский воздух как раскалённый, жидкий металл растекается по бывшей Преображенской улице, и она плывёт. Но, не в силах удержаться, тонет в послеобеденном зное, жаром ложащемся на серую рясу отца Ермолая, на его белую епитрахиль, на фиолетовую скуфью… Дым от кадила накрывает меня, стоящего возле отца Ермолая, который держит меня за руку. И я, захлёбываясь в горячем воздухе, падаю.
Панихида остановлена.
*
Поздней осенью отец Ермолай возвращался с юга в Пушкари.
В воронежских Лисках, где в тридцатых работал на станции писарем прадед, отцу Ермолаю стало плохо.
И он, как Лев Толстой, сошёл с поезда.
Отпевали отца Ермолая в Преображенской церкви, которую он так и не восстановил.
Когда местные потянулись ко гробу, чтобы поцеловать отца Ермолая в лоб, у ямы, вырытой возле церкви, кто-то затянул:
Было ль на то ему виденье,
Сам ли он выбрал тот путь —
Церковь родную в Кладбищенских
Людям обратно вернуть.
Пел надтреснутый, скрипучий мужской голос. К нему прибавлялись новые — старые и молодые, мелодичные и беззвучные:
С миру по нитке — копеечки,
Где только он не искал.
Поездом тюки пудовые
В церковь руками таскал.
Хор относило ноябрьским северным ветром на гору — в город, под которым лежали убитые Пушкари:
Господу Богу помолимся:
«Крепости духа нам дай», —
Так в Пушкарях призывает,
Так Пушкарям завещает
Старец отец Ермолай.
А зимой умерла прабабка. И дом с мемориальной доской — на бывшей Преображенской улице — продали.
Он часто мне снится — как будто всё в нём так же, как при прабабке. Как будто он всё ещё наш.
И нет как будто на нём этой доски.



