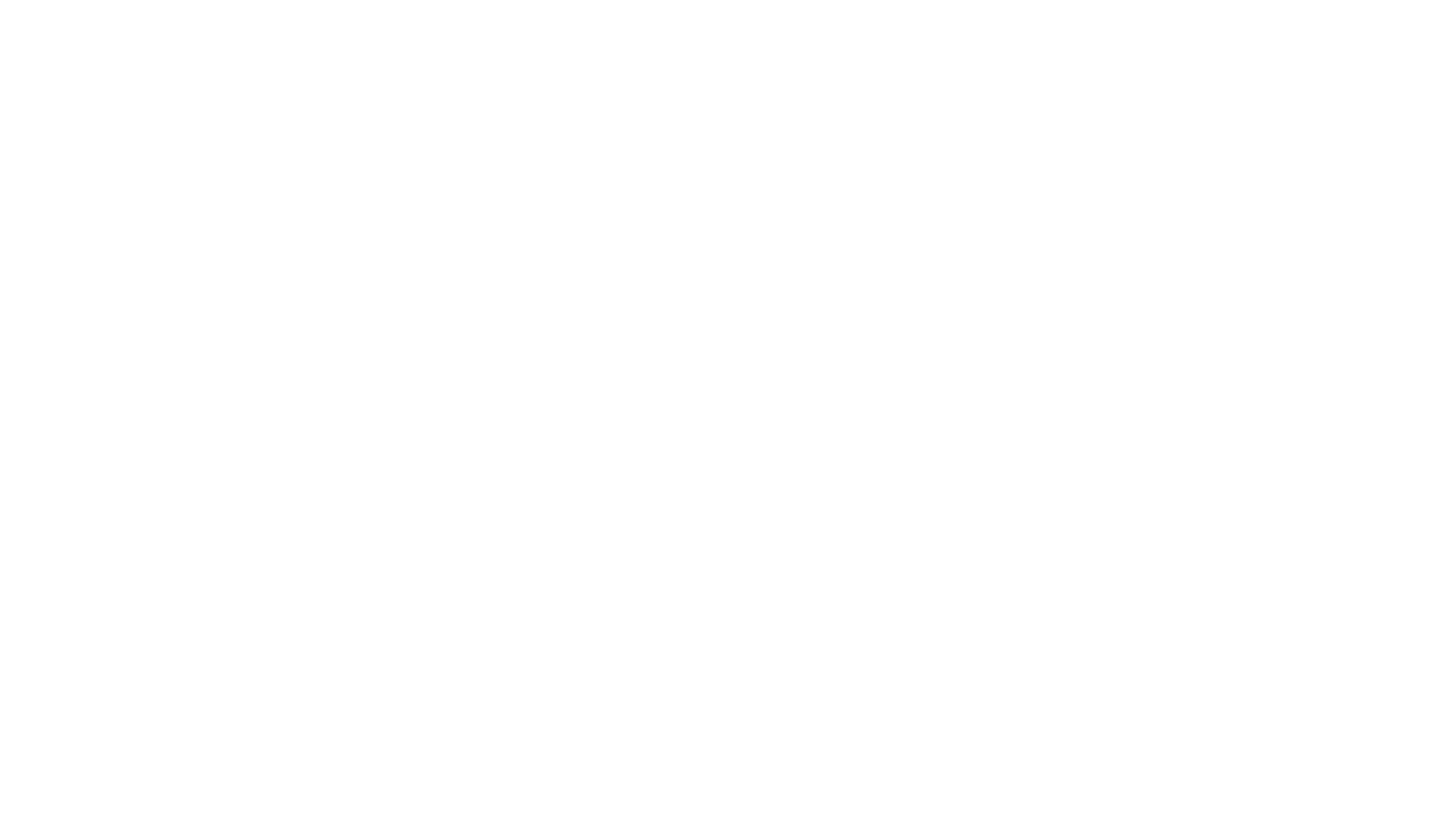
Владимир Постышев — Рассказы
Владимир Постышев — поэт, прозаик, редактор. С 2008 по 2015 годы — учредитель, издатель и главный редактор журнала «Литературный меридиан». Публиковался в журналах «Сихотэ-Алинь» (Владивосток), «Московский вестник», «Огни Кузбасса», «Новая Немига литературная» (Минск), «Южная звезда» (Ставрополь), «45 параллель», «Зарубежные Задворки» и в других. Автор нескольких книг. Член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Живёт в городе Арсеньеве Приморского края.
Инфинитив тишины
Инфинитив тишины
В доме на углу давно живёт одинокая тишина — старуха с больными зубами. Она выходит из оцепенения по утрам, поскрипывая мослами, выползает на июльский балкон и крестит узловатым троеперстием просыпающуюся округу. Округа равнодушна к шёпоту старухи, который осыпается с её высохших губ, у округи свои заботы — заводской гудок, сбежавшее от завтрака молоко, суетливые сборы в школу и что там ещё?
Так сберегается вечная заповедь: преодолевая проклятие Коли Колокольчикова, каждая птичка перед тем, как покинуть свой шесток, торопится прочитать утреннее правило, после которого набирающий силу день считается обретшим благословение. А что вчера?
Торжество пережитых мгновений утешается гранитной памятью: вот в стареньком подъезде, выкрашенном непонятно кем и непонятно зачем в грязно-зелёный цвет, удивительные слова на пыльном стекле, вставленном в деревянный простенок, — «Вова, я тебя люблю!». Сейчас уже неважно, действительно ли равнодушный молодой человек по имени Вова упустил счастье по имени Маша: Маша много лет замужем за инженером-электронщиком, Маша родила мужу двойню, Маша назвала сына Антошкой, а дочку Дашенькой, Маша машет кому-то узкой ладошкой издалека и только неизвестно в чьём сне.
Календари настенные, календари в портмоне, календари вечные... Зимы доживают до апреля. Лето — всегда умирает в октябре. В октябре детское горлышко нужно укрывать тёплым шарфом. Тёплый шарф беспечным отцам нельзя забывать в прихожей — и не то чтобы «возвращаться дурная примета», нет — не дурная, нет — не примета. Ну какие, к чёрту, приметы?
Ты, улыбнувшись укоряющему взгляду жены, бежишь наверх за любимым дочкиным оранжевым шарфом, ты в два шага одолеваешь пролёты по пути туда, и в один шаг — возвращаясь обратно. Ничуть не запыхавшись, ты вываливаешься из подъезда. А там... Только сгорбленная старуха-тишина, которая крестит обезумевшего тебя и исчезает, проваливаясь бог весть куда. А ты, профессиональный дурак, укоряя себя в полоумии беспамятства, садишься на скамейку и зажимаешь уши руками: календари настенные, календарики карманные — ну сколько ещё лет можно бегать за оранжевым детским шарфом, сколько раз, отталкивая набежавших соседей, нужно рвать руками автомобильный металл, отнявший две самые любимые жизни?
Остановись, непокорное сердце. Остановись.
Так сберегается вечная заповедь: преодолевая проклятие Коли Колокольчикова, каждая птичка перед тем, как покинуть свой шесток, торопится прочитать утреннее правило, после которого набирающий силу день считается обретшим благословение. А что вчера?
Торжество пережитых мгновений утешается гранитной памятью: вот в стареньком подъезде, выкрашенном непонятно кем и непонятно зачем в грязно-зелёный цвет, удивительные слова на пыльном стекле, вставленном в деревянный простенок, — «Вова, я тебя люблю!». Сейчас уже неважно, действительно ли равнодушный молодой человек по имени Вова упустил счастье по имени Маша: Маша много лет замужем за инженером-электронщиком, Маша родила мужу двойню, Маша назвала сына Антошкой, а дочку Дашенькой, Маша машет кому-то узкой ладошкой издалека и только неизвестно в чьём сне.
Календари настенные, календари в портмоне, календари вечные... Зимы доживают до апреля. Лето — всегда умирает в октябре. В октябре детское горлышко нужно укрывать тёплым шарфом. Тёплый шарф беспечным отцам нельзя забывать в прихожей — и не то чтобы «возвращаться дурная примета», нет — не дурная, нет — не примета. Ну какие, к чёрту, приметы?
Ты, улыбнувшись укоряющему взгляду жены, бежишь наверх за любимым дочкиным оранжевым шарфом, ты в два шага одолеваешь пролёты по пути туда, и в один шаг — возвращаясь обратно. Ничуть не запыхавшись, ты вываливаешься из подъезда. А там... Только сгорбленная старуха-тишина, которая крестит обезумевшего тебя и исчезает, проваливаясь бог весть куда. А ты, профессиональный дурак, укоряя себя в полоумии беспамятства, садишься на скамейку и зажимаешь уши руками: календари настенные, календарики карманные — ну сколько ещё лет можно бегать за оранжевым детским шарфом, сколько раз, отталкивая набежавших соседей, нужно рвать руками автомобильный металл, отнявший две самые любимые жизни?
Остановись, непокорное сердце. Остановись.
Письмо непервозванному Андрею
Письмо непервозванному Андрею
— Сильвестр, — подкидывает утренние брови к высокому лбу «душа моя», — вот твоя пощёчина, можешь не расписываться, но получи. Вечером будет вторая! Я их дюжину приготовила, ожидай в трепете душевном.
Мне-Сильвестру сплошное вдохновение осознавать блаженные радость и забаву бытия земного. Вот так всегда — залюбуешься, как она нагая в постели просыпается и четверть часа поёт; залюбуешься, предаваясь неге, отважишься подпевать, по воле сонных небес станешь фальшивить, а потом начнёшь витать в эмпиреях да и ляпнешь что-нибудь такое: «Можно, я встречу это мгновение, трогая твою левую грудь?» А тут и пощёчина. Пощёчина, говорю.
А ты, если не лукавить, не любил бы такую рассветную солистку?
Богу известно [не тайна и для неё, и для твоего очень покорного, очень иногда — слуги]: Бог сотворил меня-Сильвестра на радость обнажённой певице. Она, конечно, всё время об этом забывает — как сегодня. Забывчивость — похвальное качество для порядочной девушки. Но честность «наше всё»: какая там молодость — нам уже не вчера исполнилось тридцать пять [не вчера — это горелых лет десять (кажется или примерно — обойдёмся без гаданий) назад].
Это письмо — подстрочник моих откровений, как ты уже, несомненно, догадался. Мы знакомы с тобой не единожды сломанную о божье колено четверть века. Дай, прошу покорно, совет: ну как же донести мне-Сильвестру до её гибкого ума в прекрасной головке, что моему сердцу нельзя без прикосновений к её [именно] левой груди?
Прости, что письмо моё не начиналось с традиционных приветствий. Волнений во мне сейчас много больше, чем памяти о нужде соблюдать «приличия и традиции». Вскорости у нас наступает вечер, и я волнуюсь, не забудет ли «душа моя» про обещанную дюжину пощёчин? Главное, чтобы дюжина не оказалась чёртовой.
Мне-Сильвестру сплошное вдохновение осознавать блаженные радость и забаву бытия земного. Вот так всегда — залюбуешься, как она нагая в постели просыпается и четверть часа поёт; залюбуешься, предаваясь неге, отважишься подпевать, по воле сонных небес станешь фальшивить, а потом начнёшь витать в эмпиреях да и ляпнешь что-нибудь такое: «Можно, я встречу это мгновение, трогая твою левую грудь?» А тут и пощёчина. Пощёчина, говорю.
А ты, если не лукавить, не любил бы такую рассветную солистку?
Богу известно [не тайна и для неё, и для твоего очень покорного, очень иногда — слуги]: Бог сотворил меня-Сильвестра на радость обнажённой певице. Она, конечно, всё время об этом забывает — как сегодня. Забывчивость — похвальное качество для порядочной девушки. Но честность «наше всё»: какая там молодость — нам уже не вчера исполнилось тридцать пять [не вчера — это горелых лет десять (кажется или примерно — обойдёмся без гаданий) назад].
Это письмо — подстрочник моих откровений, как ты уже, несомненно, догадался. Мы знакомы с тобой не единожды сломанную о божье колено четверть века. Дай, прошу покорно, совет: ну как же донести мне-Сильвестру до её гибкого ума в прекрасной головке, что моему сердцу нельзя без прикосновений к её [именно] левой груди?
Прости, что письмо моё не начиналось с традиционных приветствий. Волнений во мне сейчас много больше, чем памяти о нужде соблюдать «приличия и традиции». Вскорости у нас наступает вечер, и я волнуюсь, не забудет ли «душа моя» про обещанную дюжину пощёчин? Главное, чтобы дюжина не оказалась чёртовой.
Второе письмо непервозванному Андрею
Второе письмо непервозванному Андрею
— Дорогой мой любезный! Уже третье по счёту липкое на сны полугодие тешу себя небезосновательной, мнится, надеждой на то, что ты простишь мне долгое отсутствие в твоей жизни: хоть ангелов, хоть архангелов призову во свидетели — пожалуй, со времён отрочества не знаю я ни одного сердца, столь верного идеям мужской дружбы, как твоё. Ты поймёшь меня-горемыку, как понимал всегда, даже ещё и во время оно. А там, вероятно, и пожелаешь извинить за растянувшееся «на века» молчание.
Так вот: не особо соблазняясь витиеватостью письменного слога, поспешу сообщить: всячески советуя мне-Сильвестру быть внимательным в любовных переживаниях, ты оказался прав! В который уже раз, я остаюсь в дураках, отрекаясь от твоего дружеского совета, игнорируя душевный порыв друга и брата, пережившего за почти половину века и те, и эти, и вон те тоже — события, встречи, разочарования, а иногда [и — откровенно говоря] — и такие трагедии, какие посильны не каждому простофиле, кем волей Небес я и являюсь.
Заканчивая рассыпаться в извинениях [и тем не менее — уповая на твоё мило-сердие <читать это слово нужно именно так, как и писать — через дефис>], перехожу к главному. Возможно, ты не поверишь, но у меня–Сильвестра случилось-таки подозрение насчёт «души моей». Теряюсь, с чего бы начать… Третьего дня, заканчивая вечерний променад, у входа в парадный столкнулись мы с моей рассветной певуньей с капитаном третьего ранга в отставке Никольским [ах, да, ты ведь совершенно не имеешь понятия, о ком я тут имею честь рассказывать, а потому, исправляя оплошность, докладываю: речь здесь зашла о экс-морском, экс-офицере, поселившемся в прошлом месяце в номерах супротив наших с ночной певуньей].
Встреча как встреча, и можно было бы кивнуть и пройти мимо, тем более, что вот уже четыре года, пронзая навылет и явь, и навь, и моё стихотворчество, и мои грёзы, и любые-прочие гипнотические состояния, не оставляя исключения и для прогулок, все мои мгновения — сплошные фантазии, синема-проекции исключительно видений белой груди юной прелестницы, идущей в тот момент слева.
И — Архангел Гавриил ни за что не позволит сказать неправду — я прошёл мимо месье Никольского, растянув в приветливую улыбку губы — насколько это уместно в подобных случаях. Но дёрнул меня лукавый мельком взглянуть в глаза своей непонятно от чего смутившейся спутницы. Ох, какая проклятая волна непобедимого холода окатила в тот момент меня–Сильвестра! Что там в сравнении с этим ужасом какие-то жалкие обвинения в растрате казны, пережитые мной на тринадцатом году службы в Нашем [когда-то — с тобой] Министерстве [ты, вероятно, помнишь тот скандальный случай, когда советник К., метивший на моё — ничем, в общем-то, непримечательное — место, решил подобным образом освободить дорогу своим молодеческим амбициям]. Слава Богу, господина следователя провести оказалось не так легко, как многих начальствующих надо мной чиновников. Ну полно, какой прок от желания царапать шрамы воспоминаний, не о них сейчас печальная песня.
Ты понимаешь? «Душа моя» смутилась от внимания постороннего человека, пусть и обладателя мюнхгаузенсовских усов! Что за тайна сокрыта под этим смущением, и о чём мне теперь думать, обнимая прелестницу в предрассветный час? Дай совет мне–Сильвестру, дружище!
И чернил мне не жалко нисколько, но именно в этом месте: честь имею откланяться, дорогой любезный товарищ мой навеки!
Так вот: не особо соблазняясь витиеватостью письменного слога, поспешу сообщить: всячески советуя мне-Сильвестру быть внимательным в любовных переживаниях, ты оказался прав! В который уже раз, я остаюсь в дураках, отрекаясь от твоего дружеского совета, игнорируя душевный порыв друга и брата, пережившего за почти половину века и те, и эти, и вон те тоже — события, встречи, разочарования, а иногда [и — откровенно говоря] — и такие трагедии, какие посильны не каждому простофиле, кем волей Небес я и являюсь.
Заканчивая рассыпаться в извинениях [и тем не менее — уповая на твоё мило-сердие <читать это слово нужно именно так, как и писать — через дефис>], перехожу к главному. Возможно, ты не поверишь, но у меня–Сильвестра случилось-таки подозрение насчёт «души моей». Теряюсь, с чего бы начать… Третьего дня, заканчивая вечерний променад, у входа в парадный столкнулись мы с моей рассветной певуньей с капитаном третьего ранга в отставке Никольским [ах, да, ты ведь совершенно не имеешь понятия, о ком я тут имею честь рассказывать, а потому, исправляя оплошность, докладываю: речь здесь зашла о экс-морском, экс-офицере, поселившемся в прошлом месяце в номерах супротив наших с ночной певуньей].
Встреча как встреча, и можно было бы кивнуть и пройти мимо, тем более, что вот уже четыре года, пронзая навылет и явь, и навь, и моё стихотворчество, и мои грёзы, и любые-прочие гипнотические состояния, не оставляя исключения и для прогулок, все мои мгновения — сплошные фантазии, синема-проекции исключительно видений белой груди юной прелестницы, идущей в тот момент слева.
И — Архангел Гавриил ни за что не позволит сказать неправду — я прошёл мимо месье Никольского, растянув в приветливую улыбку губы — насколько это уместно в подобных случаях. Но дёрнул меня лукавый мельком взглянуть в глаза своей непонятно от чего смутившейся спутницы. Ох, какая проклятая волна непобедимого холода окатила в тот момент меня–Сильвестра! Что там в сравнении с этим ужасом какие-то жалкие обвинения в растрате казны, пережитые мной на тринадцатом году службы в Нашем [когда-то — с тобой] Министерстве [ты, вероятно, помнишь тот скандальный случай, когда советник К., метивший на моё — ничем, в общем-то, непримечательное — место, решил подобным образом освободить дорогу своим молодеческим амбициям]. Слава Богу, господина следователя провести оказалось не так легко, как многих начальствующих надо мной чиновников. Ну полно, какой прок от желания царапать шрамы воспоминаний, не о них сейчас печальная песня.
Ты понимаешь? «Душа моя» смутилась от внимания постороннего человека, пусть и обладателя мюнхгаузенсовских усов! Что за тайна сокрыта под этим смущением, и о чём мне теперь думать, обнимая прелестницу в предрассветный час? Дай совет мне–Сильвестру, дружище!
И чернил мне не жалко нисколько, но именно в этом месте: честь имею откланяться, дорогой любезный товарищ мой навеки!
Возьми табачку
Возьми табачку
Когда перемерзают странствующие сибирские реки, ты вспоминаешь обо мне: ты выбираешь какой-нибудь пятничный не слишком звёздный вечер и звонишь по очереди нашим общим друзьям, битый час рассказываешь, какие теперь морозы в Якутске, а потом вдруг интересуешься: «как-там-он-в-своём-уссурийском-крае-не-говори-ему-что-я-звонила-и-спрашивала».
А друзья — добряки-болтуны, они всегда докладывают мне о твоём полуночном звонке. Они без устали врут, что мы оба дураки, что мы могли бы... что это так просто — простить, наплевать на гордость во имя... — в этом месте каждый из них непременно добавляет что-то своё-не чужое. И когда беседа с друзьями, словно бабушкин Колобок-из-Сусека, докатывается до колючей тропинки сопереживания, я обрываю разговор с кем-то из друзей, я говорю: Siri, будь ласка, включи тишину. И Siri, умная Siri (конечно же, улыбаясь) отвечает: да, о мой повелитель, будет сиюмгновенно исполнено!
Если у чертят существует субординация, то вослед за мультяшным бароном Мюнхгаузеном «клянусь своей треуголкой» — существуют и звания, и в этом месте что-то подсказывает мне, что чертёнок Сопереживание — всего лишь обычный рядовой. Ни полномочий у него, ни должности. Вечный новобранец, которого безбожно (да, безбожно — не ухмыляйся) шпыняют старшие товарищи. Старослужащие ефрейтор Издевательство и младший сержант с дивной фамилией Нужда отправляют Сопереживание в ночные вылазки— они заставляют слабовольного рядового воровать табак у зажиточных дачников, они так и говорят всегда: иди, солдат, в дачный посёлок, пошукай по кладовкам сушёного табаку, шустри, как знаешь, а без курева и не возвращайся.
Лиза, Лиза, ты такая странная, Лиза. Я давно продал наш непостроенный домик, я сто лет не ношу панамы, я забыл, как подвязывать яблони, спроси любого, он подтвердит, что я больше ничем не похож на дачника, но вот — возьми табачку для своего сопереживания: у меня «всё очень хорошо» — и на работе, и в том, что тебя не касается даже краешком краешка.
А друзья — добряки-болтуны, они всегда докладывают мне о твоём полуночном звонке. Они без устали врут, что мы оба дураки, что мы могли бы... что это так просто — простить, наплевать на гордость во имя... — в этом месте каждый из них непременно добавляет что-то своё-не чужое. И когда беседа с друзьями, словно бабушкин Колобок-из-Сусека, докатывается до колючей тропинки сопереживания, я обрываю разговор с кем-то из друзей, я говорю: Siri, будь ласка, включи тишину. И Siri, умная Siri (конечно же, улыбаясь) отвечает: да, о мой повелитель, будет сиюмгновенно исполнено!
Если у чертят существует субординация, то вослед за мультяшным бароном Мюнхгаузеном «клянусь своей треуголкой» — существуют и звания, и в этом месте что-то подсказывает мне, что чертёнок Сопереживание — всего лишь обычный рядовой. Ни полномочий у него, ни должности. Вечный новобранец, которого безбожно (да, безбожно — не ухмыляйся) шпыняют старшие товарищи. Старослужащие ефрейтор Издевательство и младший сержант с дивной фамилией Нужда отправляют Сопереживание в ночные вылазки— они заставляют слабовольного рядового воровать табак у зажиточных дачников, они так и говорят всегда: иди, солдат, в дачный посёлок, пошукай по кладовкам сушёного табаку, шустри, как знаешь, а без курева и не возвращайся.
Лиза, Лиза, ты такая странная, Лиза. Я давно продал наш непостроенный домик, я сто лет не ношу панамы, я забыл, как подвязывать яблони, спроси любого, он подтвердит, что я больше ничем не похож на дачника, но вот — возьми табачку для своего сопереживания: у меня «всё очень хорошо» — и на работе, и в том, что тебя не касается даже краешком краешка.
Что ты делаешь?
Что ты делаешь?
«В остывающем после католического Рождества хлеву вот-вот околеет последний телёнок-декабрь. Тяжело ему без мамкиной любви. А кто его доверчивая мамка, а когда она сгинула, а кто такой-с-копытами-и-колечками-шерсти-на-белом-лбу он сам?». Даже представить не умею, к чему подумалось об этой несуразице, видимо, так просто захотелось повздыхать над где-то услышанной невсамделишной придумкой вместо вечерней зевоты у роняющего зимние слёзы окна. Пожалуй, затоплю печь — самое время погутарить с выползающими из углов тенями минувшего.
…
Мы с тобой счастливые люди, правда? — по вечерам ты лупишь по клавишам своего пианино, а мне — выбора никакого никогда не было, нет его и в эту минуту — воленс-ноленс приходится терзать альт (а ведь какой из меня альтист? — живи мы в угрюмом углу заповедного Сихотэ-Алиня — едва завидев меня, бежали бы в сторону китайской границы табуны ошалевших гималайских медведей, на бегу стряхивая с белой груди остатки дикого мёда из разорённого улья и обгоняя на три четверти корпуса своих бурых сородичей… Милая, ну, пожалуйста, не лукавь: где чёрные ноты, где белая музыка и где — твой сумасшедший я?). Что ты делаешь со мной…
«Что ты делаешь! Что! Ты! Делаешь?!» — не умея совладать с нежностью, придавленная к мятой простыни моим ритмом кричишь ты позже — после своего святого пианино, после моего истеричного альта, после уже не наших, а забугорных медведей и чужого никому не нужного декабря. И я, не умея отвести прыгающего взгляда от твоих влажных глаз, не нахожу ни одного достойного твоей красоты слова, во всей родной славянской грамоте не вижу ни единой буковки для тебя, я — немею, беспомощно немею тобой, над тобой. Мы отражаемся в плывущих по стенам зеркалах, мы хорошо изучили друг друга, мы прекрасно усвоили нехитрые правила этой вечной взрослой игры, я вижу — ты счастлива, я чувствую — счастливы мы. И именно поэтому я никогда не расскажу тебе, как долго до тебя у меня никого не было, ни за что не расскажу, какой утомительно долгой была жизнь до тебя.
…
Если предаться сопливому отчаянию и, оставив близких и дальних наедине с их вечными неурядицами, рвануть на север с выползающего из Японского моря острова Русский — сначала в город воинской славы Владивосток, а затем дальше и дальше — за десять часов куда-нибудь непременно доедешь. Даже на сто раз пережившей ремонтные страдания старенькой тойоте. Доедешь. Непременно. Я проверял не единожды.
…
Если бы ты могла оглянуться: в тесной кухоньке всюду жжёные спички, милая. И в этот вечер никто никуда не поедет.
…
Мы с тобой счастливые люди, правда? — по вечерам ты лупишь по клавишам своего пианино, а мне — выбора никакого никогда не было, нет его и в эту минуту — воленс-ноленс приходится терзать альт (а ведь какой из меня альтист? — живи мы в угрюмом углу заповедного Сихотэ-Алиня — едва завидев меня, бежали бы в сторону китайской границы табуны ошалевших гималайских медведей, на бегу стряхивая с белой груди остатки дикого мёда из разорённого улья и обгоняя на три четверти корпуса своих бурых сородичей… Милая, ну, пожалуйста, не лукавь: где чёрные ноты, где белая музыка и где — твой сумасшедший я?). Что ты делаешь со мной…
«Что ты делаешь! Что! Ты! Делаешь?!» — не умея совладать с нежностью, придавленная к мятой простыни моим ритмом кричишь ты позже — после своего святого пианино, после моего истеричного альта, после уже не наших, а забугорных медведей и чужого никому не нужного декабря. И я, не умея отвести прыгающего взгляда от твоих влажных глаз, не нахожу ни одного достойного твоей красоты слова, во всей родной славянской грамоте не вижу ни единой буковки для тебя, я — немею, беспомощно немею тобой, над тобой. Мы отражаемся в плывущих по стенам зеркалах, мы хорошо изучили друг друга, мы прекрасно усвоили нехитрые правила этой вечной взрослой игры, я вижу — ты счастлива, я чувствую — счастливы мы. И именно поэтому я никогда не расскажу тебе, как долго до тебя у меня никого не было, ни за что не расскажу, какой утомительно долгой была жизнь до тебя.
…
Если предаться сопливому отчаянию и, оставив близких и дальних наедине с их вечными неурядицами, рвануть на север с выползающего из Японского моря острова Русский — сначала в город воинской славы Владивосток, а затем дальше и дальше — за десять часов куда-нибудь непременно доедешь. Даже на сто раз пережившей ремонтные страдания старенькой тойоте. Доедешь. Непременно. Я проверял не единожды.
…
Если бы ты могла оглянуться: в тесной кухоньке всюду жжёные спички, милая. И в этот вечер никто никуда не поедет.
Именно — письма
Именно — письма
Посмотри внимательно по всем фиолетовым четырём сторонам — не осталось ли в укромном закутке чего-нибудь от меня? Кроме волчьего воя, заблудившегося в твоих ушах. Кроме моего воя. Конечно — кроме него.
Не будем лукавить: если основательно протереть сонные глаза, всегда что-нибудь находишь. После несчастного кого-нибудь, после несчастного, но счастливого кого-то. И ты долго рассматриваешь найденную штучку, покачиваясь на дрожащих после случайной ночи ногах, потом бросаешь найденную ерундовину на мятую простынь и думаешь [неважно, про себя или с собственного разрешения — вслух]: как вы все мне надоели со своими уходами, раздери в клочья всех вас винторогие черти из табакерки, пылящейся в чулане. Вот именно — чумазые паразиты-черти из костяной коробки, которую давно пора, но нет сил выбросить и нет сил не выбрасывать: в ней хранится пара перламутровых камушков, упавших в твою ладошку с луны. Именно — с луны. Табакерка, освящённая спрятанным внутри перламутром, — ну что за глупость, правда?
Вынырнув из величия своего небесного Лиссабона, ты, конечно, сильно удивилась бы моей нынешней берлоге: если унять тремор, забавы ради этот городишко можно положить на одну ладонь и прихлопнуть другой, так невелик он в размерах. А ещё — он равнодушен к тем, кто стоя на смотровой площадке, шатко повисшей над северной городской окраиной, разглядывает его кривые улицы и немногочисленные строения, щурится на дурную зелень его тополей, цокая на его безвкусно одетых женщин и молчаливых в любое время дня бородатых мужчин.
Здесь совершенно невозможно понять, когда кончается вечер и наступает ночь: вероятно, здесь и нет ни этого самого дня, ни того самого утра — шатаясь по малолюдным тротуарам, я постоянно обращаю внимание на включенные фонари и на собственную почему-то раздвоенную тень. Если бы ты позвонила прямо сейчас, то, несомненно, услышала бы, как хрипло каркают на местных заплаканных проспектах двигатели старых праворульных тойот вездесущих таксистов. И куда им всем нужно под покровом бессонницы, в какое забвение? Но мне нравится здесь. Я снял комнатушку на площади маршала Жукова — немного тёмную и пыльную, но окна выходят в тихий двор, а что может быть лучше тишины для того, кто с перекушенной лапой убежал из западни твоих оправданий? Немного обживусь и заведу кота — вдвоём мы будем иногда заглядывать в монитор ноутбука, ожидая письма от тебя. Именно — письма.
Не будем лукавить: если основательно протереть сонные глаза, всегда что-нибудь находишь. После несчастного кого-нибудь, после несчастного, но счастливого кого-то. И ты долго рассматриваешь найденную штучку, покачиваясь на дрожащих после случайной ночи ногах, потом бросаешь найденную ерундовину на мятую простынь и думаешь [неважно, про себя или с собственного разрешения — вслух]: как вы все мне надоели со своими уходами, раздери в клочья всех вас винторогие черти из табакерки, пылящейся в чулане. Вот именно — чумазые паразиты-черти из костяной коробки, которую давно пора, но нет сил выбросить и нет сил не выбрасывать: в ней хранится пара перламутровых камушков, упавших в твою ладошку с луны. Именно — с луны. Табакерка, освящённая спрятанным внутри перламутром, — ну что за глупость, правда?
Вынырнув из величия своего небесного Лиссабона, ты, конечно, сильно удивилась бы моей нынешней берлоге: если унять тремор, забавы ради этот городишко можно положить на одну ладонь и прихлопнуть другой, так невелик он в размерах. А ещё — он равнодушен к тем, кто стоя на смотровой площадке, шатко повисшей над северной городской окраиной, разглядывает его кривые улицы и немногочисленные строения, щурится на дурную зелень его тополей, цокая на его безвкусно одетых женщин и молчаливых в любое время дня бородатых мужчин.
Здесь совершенно невозможно понять, когда кончается вечер и наступает ночь: вероятно, здесь и нет ни этого самого дня, ни того самого утра — шатаясь по малолюдным тротуарам, я постоянно обращаю внимание на включенные фонари и на собственную почему-то раздвоенную тень. Если бы ты позвонила прямо сейчас, то, несомненно, услышала бы, как хрипло каркают на местных заплаканных проспектах двигатели старых праворульных тойот вездесущих таксистов. И куда им всем нужно под покровом бессонницы, в какое забвение? Но мне нравится здесь. Я снял комнатушку на площади маршала Жукова — немного тёмную и пыльную, но окна выходят в тихий двор, а что может быть лучше тишины для того, кто с перекушенной лапой убежал из западни твоих оправданий? Немного обживусь и заведу кота — вдвоём мы будем иногда заглядывать в монитор ноутбука, ожидая письма от тебя. Именно — письма.



