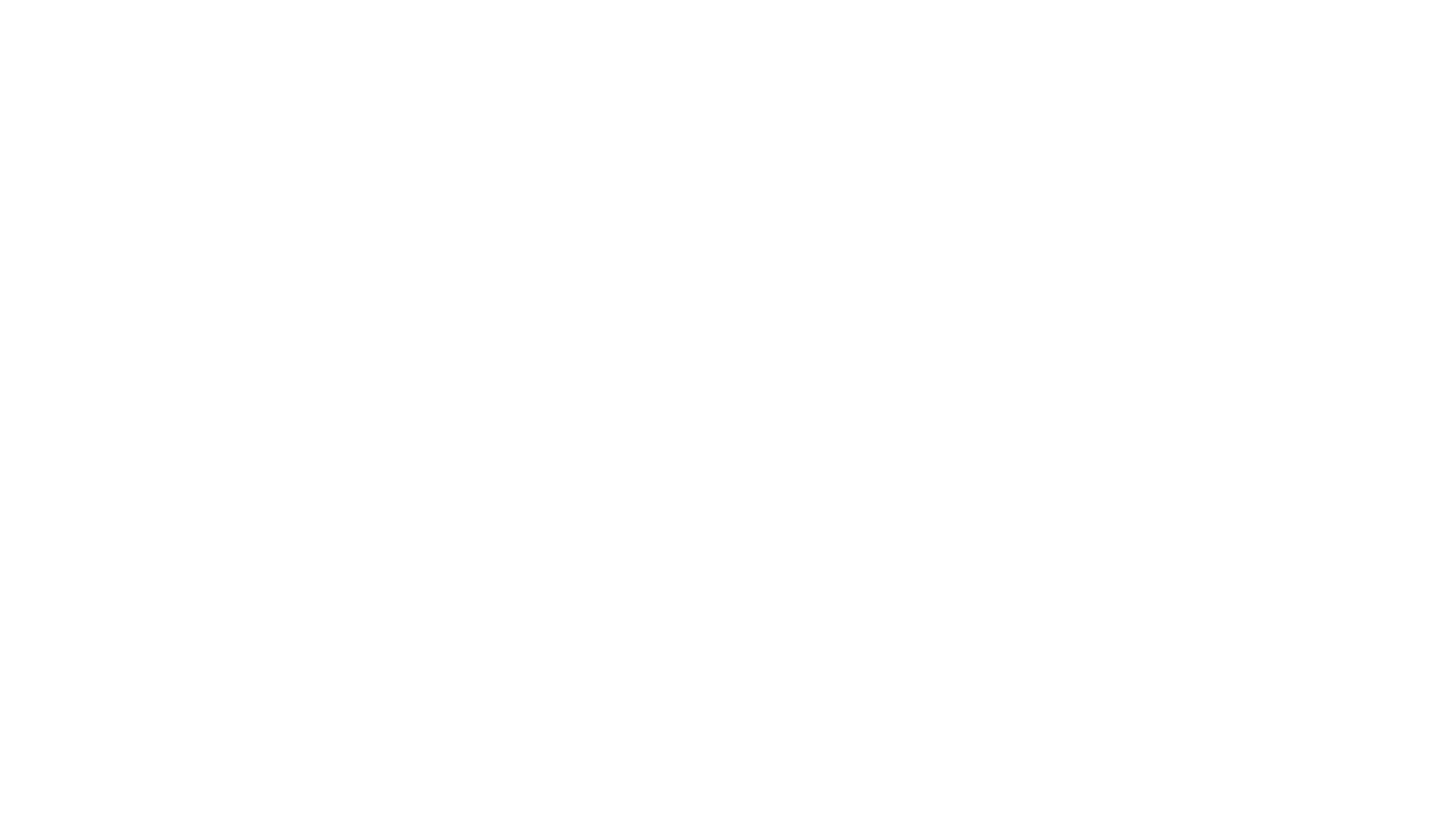
Михаил Рантович ─ Нетождественное равенство
(Рец. на кн.: О. Васякина. Роза. — Москва : Новое литературное обозрение, 2023. — 200 с.)
Михаил Рантович — поэт, литературный критик. Финалист премии И. Анненского (поэзия), финалист премии А. Казинцева (критика), лауреат премии «Пристальное прочтение поэзии» журнала «Prosōdia» (2021). Автор книги стихов «Нежный водолаз» (Издательство СТиХИ, 2023).
Устройство «Розы», этого маленького романа, позаимствовано из двух предыдущих книг Оксаны Васякиной. Здесь рассказывается о больной туберкулезом тетке по материнской линии. Условные сюжеты «Раны» и «Степи» закручивались, соответственно, вокруг матери, умершей от рака, и отца, пораженного СПИДом. Казалось бы, ничего нового, а тем более выдающегося от эксплуатации старого механизма появиться уже не может. Иные критики не преминули поерничать, что у Васякиной еще немало родственников. Однако завершающая книга триптиха — это пример любопытной эволюции.
Тетка Светлана никак не может вписаться в условия провинциального усть-илимского быта. Бóльшую часть жизни она не работает; после нескольких абортов у нее появляется дочь, но не полноценная семья с мужем; свою племянницу (рассказчицу Оксану Васякину) она не может научить ничему хорошему. Светлана остается выросшим, не повзрослевшим ребенком. Взрослеть — то есть подчиняться условиями взрослой рутины — она и не собирается.
Воспоминания светланиных характера, привычек, внешности и составляют внешнюю сторону истории. Эпизоды не подчиняются логическому или хронологическому закону, а чередуются благодаря ассоциативной машине памяти. Детские и взрослые рекапитуляции перемежаются рефлексией над художественными произведениями, а также отягощаются философскими построениями; осмысляется и сам процесс работы над книгой. Много этого было в «Ране». Более гладкая «Степь» казалась работой над ее ошибками. «Роза» гораздо уравновешенней и сбалансированней обеих книг, и дело не только в наработанной мастеровитости (иначе пришлось бы говорить, что Васякина всего лишь, набив шишек, набила руку). «Роза» теплее и светлее созданного прежде.
Важно не то, что Васякина якобы бесстрашно изображает обыденность, сохраняет чужой голос/память либо подвергает определенный тип людей романтизации. Васякина вовсе не зеркало (пусть так думает она), а передатчик света, природу которого не вполне может уяснить сама. Именно поэтому на незатейливом рассказе о жизни Светланы лежат отблески — чего? как это назвать? — если не любви, то приязненного интереса. Правда, странным образом интерес к человеку и миру сочетается с отвращением к телесности и жизни. Подспудные теплота и свечение вступают в противоречие с явной негативистской философией Васякиной. И такая биполярная смесь тоже делает книгу притягательной.
Текстовая ткань «Розы» куда тоньше и богаче, чем в «Ране» и «Степи». Суховатый стиль Васякиной местами достигает неожиданной влажной живописности. Это не просто хороший слог, но как бы симпатическое возникновение внутренних теплоты и приятия в описываемых предметах или обстановке.
Вот, например, как дана попытка умилостивить обиженную Светлану:
«Я медленно подошла, доставая из пакета футболки. Светлана не обернулась, но я уже могла рассмотреть ее густо накрашенные Ленинградской тушью ресницы, коричневые веснушки на щеках и сухие белые губы. Я позвала ее еще раз и сказала, что привезла для нее подарки. Я протянула ей расправленные футболки и попросила обратить внимание на то, какие они красивые. Я сказала, что фиолетовый и розовый цвета должны быть ей к лицу. Не оборачиваясь, она повела правой рукой, давая мне знак, чтобы я оставила вещи на кресле. Я положила футболки на кресло у ее дивана так, словно оставляла подношения божеству, и отошла. Выходя из комнаты, я обернулась и увидела, как она продолжала смотреть в телевизор. Ноздри ее тихо двигались в такт дыханию. Похоже, внутри она боролась со смешанными чувствами: обидой, любопытством и желанием не показаться слишком отходчивой».
А вот так показан канун Нового года, когда тетка с племянницей собираются срубить пихту, чтобы заменить ей праздничную ель:
«Светлана шла впереди, а я волокла сани по узкой протоптанной в снегу тропе. Иногда она оборачивалась и поправляла формовку рукой в вязаной варежке. Я разглядывала ее силуэт — все, что на ней надето, было с чужого плеча и поэтому пальто было ей великовато. Бабка принесла его с работы, на ножной машинке сшила подкладку, а воротник спорола со своей старой шубы. Шапка Светлане досталась от моей матери, ее шелковую подкладку стянули так, чтобы на маленькой голове она сидела хорошо и не спадала на глаза. Варежки также связала бабка. Светлана оборачивалась, и я видела, как она лукаво мне улыбается. Это было наше настоящее путешествие ночью сквозь зимний лес. Стоял мороз, и иногда с веток на нас падали хрупкие комья снега. От радости я начинала что-то лепетать, но Светлана оборачивалась, чтобы приложить к накрашенным губам варежку. Никто не должен был нас услышать, потому что мы шли на преступление».
Много и других приятных, точно схваченных наблюдений, не обязательно связанных со Светланой. Вот некоторые из них:
«…в своей дымной голове я смотрела на ее комнату с диваном и тяжелыми синтетическими шторами. Светлана лежала в ней, и я рассматривала ее затылок с небрежно забранными волосами мышиного цвета. Комната пылала: на полу рябил ворсистый ковер с красным узором, а ее диван был застелен китайским покрывалом с флуоресцентными бутонами. Ее халат синтетического шелка переливался в дымке моей головы».
«Вспоминаю Светлану. Ее болезненное тело и узловатые коричневые пальцы с покрытыми розовым лаком ногтями. Она непрестанно жаловалась на боль во всем теле. Утром она долго лежала в своей постели и поднималась только ради того, чтобы выкурить сигарету: зимой — в сером подъезде, летом — на балконе. <…> Вернувшись, она пахла собой. Мне казалось, что ее кисловатый запах, смешанный с дымом от дешевого табака, ни на что не похож: если бы у него было тело, он был бы щербатым, как хлебная корка».
«От ствола посыпались нежные бежевые осколки, они пахли смолой и были теплыми как обнаженный живот».
«Мне нравилось, что после обеда в ясные дни окна соседнего дома отражают солнечный свет и лучи падают на голубоватый снег. Эти блики были похожи на водяную паутинку или прожилки мрамора. Они были цвета топленого масла».
«Прилетел краснозадый дятел и стучит по гнилому пню, вынимая червяков из мертвой коры. И над той горой летают маленькие птицы, питаются крошками принесенного печенья и пьют дождевую воду в углублениях пластиковых лампадок»
«Я видела дрожащие острова бабочек-боярышниц. Они спаривались на влажном песке. Мутные источники питали приморский берег, и в июле бабочки слетались к намокшему песку. Их пронизанные черными жилками крылья трепетали. В неловком движении некоторые из них прилипали к песку, пыльца намокла, они бились в окружении своих братьев и сестер. Проезжающие мимо машины сбивали и давили их, оставляя на сером асфальте желтоватые пятна. <…> Недавно я нашла видео, на котором мужчина в течение нескольких минут, восхищаясь скоплением боярышниц, проводит рукой по их крыльям. Встревоженные бабочки срываются с песка и улетают куда-то в сторону реки. На видео слышен тихий треск их крыльев».
При выстроенности книги, ее композиция несколько произвольна, а иные части нагружены сильнее, чем могло бы быть (скучноватыми философскими или искусствоведческими раздумьями, к примеру), и с этим не вполне можно примириться только оттого, что там и сям случаются стилистические прорывы.
С другой стороны, нервная неровность, которой подвержена «Роза», а с ней вместе и вся трилогия, — это не столько грех или порок, сколько признак жизни. Живое в прозе Васякиной все-таки есть, оно упорно пробивается сквозь тьму и слепоту — не жизни, а может быть, судьбы. Борьба с судьбой, производные этой борьбы могут не нравиться или даже отталкивать. Но следить за этим пульсом интересно.
Тетка Светлана никак не может вписаться в условия провинциального усть-илимского быта. Бóльшую часть жизни она не работает; после нескольких абортов у нее появляется дочь, но не полноценная семья с мужем; свою племянницу (рассказчицу Оксану Васякину) она не может научить ничему хорошему. Светлана остается выросшим, не повзрослевшим ребенком. Взрослеть — то есть подчиняться условиями взрослой рутины — она и не собирается.
Воспоминания светланиных характера, привычек, внешности и составляют внешнюю сторону истории. Эпизоды не подчиняются логическому или хронологическому закону, а чередуются благодаря ассоциативной машине памяти. Детские и взрослые рекапитуляции перемежаются рефлексией над художественными произведениями, а также отягощаются философскими построениями; осмысляется и сам процесс работы над книгой. Много этого было в «Ране». Более гладкая «Степь» казалась работой над ее ошибками. «Роза» гораздо уравновешенней и сбалансированней обеих книг, и дело не только в наработанной мастеровитости (иначе пришлось бы говорить, что Васякина всего лишь, набив шишек, набила руку). «Роза» теплее и светлее созданного прежде.
Важно не то, что Васякина якобы бесстрашно изображает обыденность, сохраняет чужой голос/память либо подвергает определенный тип людей романтизации. Васякина вовсе не зеркало (пусть так думает она), а передатчик света, природу которого не вполне может уяснить сама. Именно поэтому на незатейливом рассказе о жизни Светланы лежат отблески — чего? как это назвать? — если не любви, то приязненного интереса. Правда, странным образом интерес к человеку и миру сочетается с отвращением к телесности и жизни. Подспудные теплота и свечение вступают в противоречие с явной негативистской философией Васякиной. И такая биполярная смесь тоже делает книгу притягательной.
Текстовая ткань «Розы» куда тоньше и богаче, чем в «Ране» и «Степи». Суховатый стиль Васякиной местами достигает неожиданной влажной живописности. Это не просто хороший слог, но как бы симпатическое возникновение внутренних теплоты и приятия в описываемых предметах или обстановке.
Вот, например, как дана попытка умилостивить обиженную Светлану:
«Я медленно подошла, доставая из пакета футболки. Светлана не обернулась, но я уже могла рассмотреть ее густо накрашенные Ленинградской тушью ресницы, коричневые веснушки на щеках и сухие белые губы. Я позвала ее еще раз и сказала, что привезла для нее подарки. Я протянула ей расправленные футболки и попросила обратить внимание на то, какие они красивые. Я сказала, что фиолетовый и розовый цвета должны быть ей к лицу. Не оборачиваясь, она повела правой рукой, давая мне знак, чтобы я оставила вещи на кресле. Я положила футболки на кресло у ее дивана так, словно оставляла подношения божеству, и отошла. Выходя из комнаты, я обернулась и увидела, как она продолжала смотреть в телевизор. Ноздри ее тихо двигались в такт дыханию. Похоже, внутри она боролась со смешанными чувствами: обидой, любопытством и желанием не показаться слишком отходчивой».
А вот так показан канун Нового года, когда тетка с племянницей собираются срубить пихту, чтобы заменить ей праздничную ель:
«Светлана шла впереди, а я волокла сани по узкой протоптанной в снегу тропе. Иногда она оборачивалась и поправляла формовку рукой в вязаной варежке. Я разглядывала ее силуэт — все, что на ней надето, было с чужого плеча и поэтому пальто было ей великовато. Бабка принесла его с работы, на ножной машинке сшила подкладку, а воротник спорола со своей старой шубы. Шапка Светлане досталась от моей матери, ее шелковую подкладку стянули так, чтобы на маленькой голове она сидела хорошо и не спадала на глаза. Варежки также связала бабка. Светлана оборачивалась, и я видела, как она лукаво мне улыбается. Это было наше настоящее путешествие ночью сквозь зимний лес. Стоял мороз, и иногда с веток на нас падали хрупкие комья снега. От радости я начинала что-то лепетать, но Светлана оборачивалась, чтобы приложить к накрашенным губам варежку. Никто не должен был нас услышать, потому что мы шли на преступление».
Много и других приятных, точно схваченных наблюдений, не обязательно связанных со Светланой. Вот некоторые из них:
«…в своей дымной голове я смотрела на ее комнату с диваном и тяжелыми синтетическими шторами. Светлана лежала в ней, и я рассматривала ее затылок с небрежно забранными волосами мышиного цвета. Комната пылала: на полу рябил ворсистый ковер с красным узором, а ее диван был застелен китайским покрывалом с флуоресцентными бутонами. Ее халат синтетического шелка переливался в дымке моей головы».
«Вспоминаю Светлану. Ее болезненное тело и узловатые коричневые пальцы с покрытыми розовым лаком ногтями. Она непрестанно жаловалась на боль во всем теле. Утром она долго лежала в своей постели и поднималась только ради того, чтобы выкурить сигарету: зимой — в сером подъезде, летом — на балконе. <…> Вернувшись, она пахла собой. Мне казалось, что ее кисловатый запах, смешанный с дымом от дешевого табака, ни на что не похож: если бы у него было тело, он был бы щербатым, как хлебная корка».
«От ствола посыпались нежные бежевые осколки, они пахли смолой и были теплыми как обнаженный живот».
«Мне нравилось, что после обеда в ясные дни окна соседнего дома отражают солнечный свет и лучи падают на голубоватый снег. Эти блики были похожи на водяную паутинку или прожилки мрамора. Они были цвета топленого масла».
«Прилетел краснозадый дятел и стучит по гнилому пню, вынимая червяков из мертвой коры. И над той горой летают маленькие птицы, питаются крошками принесенного печенья и пьют дождевую воду в углублениях пластиковых лампадок»
«Я видела дрожащие острова бабочек-боярышниц. Они спаривались на влажном песке. Мутные источники питали приморский берег, и в июле бабочки слетались к намокшему песку. Их пронизанные черными жилками крылья трепетали. В неловком движении некоторые из них прилипали к песку, пыльца намокла, они бились в окружении своих братьев и сестер. Проезжающие мимо машины сбивали и давили их, оставляя на сером асфальте желтоватые пятна. <…> Недавно я нашла видео, на котором мужчина в течение нескольких минут, восхищаясь скоплением боярышниц, проводит рукой по их крыльям. Встревоженные бабочки срываются с песка и улетают куда-то в сторону реки. На видео слышен тихий треск их крыльев».
При выстроенности книги, ее композиция несколько произвольна, а иные части нагружены сильнее, чем могло бы быть (скучноватыми философскими или искусствоведческими раздумьями, к примеру), и с этим не вполне можно примириться только оттого, что там и сям случаются стилистические прорывы.
С другой стороны, нервная неровность, которой подвержена «Роза», а с ней вместе и вся трилогия, — это не столько грех или порок, сколько признак жизни. Живое в прозе Васякиной все-таки есть, оно упорно пробивается сквозь тьму и слепоту — не жизни, а может быть, судьбы. Борьба с судьбой, производные этой борьбы могут не нравиться или даже отталкивать. Но следить за этим пульсом интересно.



