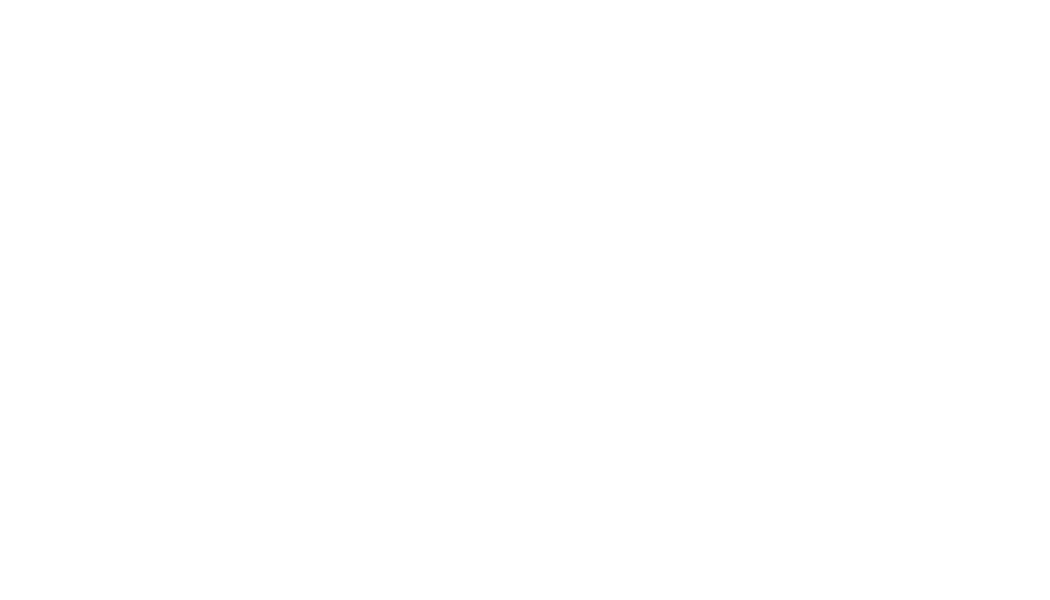
Михаил Рантович — Страдать, как человек
Михаил Рантович (род. в 1985 году) — поэт, критик, финалист премии им. А. И. Казинцева в номинации «Критика» (2022); шорт-листёр Международной премии им. Анненского. Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Кольцо А», «Крещатик», «Новый берег», «Урал», «Юность», «Алтай», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса»; альманахе «Менестрель», сборнике «Новые писатели»; в электронных журналах «Формаслов», «Реч#порт», на портале «Textura», «Prosodia»; рубрике «Лёгкая кавалерия» (сайт «Вопросов литературы»).
* * *
Я не знаю, как справиться с этим:
мы темны, но отчаянно светим.
Коченеет молчания ночь
и лучи не умеют помочь.
Творог снега, глухая тревога.
Объясни, наконец, ради Бога,
кем я был, вообще — для чего
не сказалось моё вещество?
Никакого, конечно, ответа —
лишь тоска обнажённого света.
* * *
Как пахнет облетевшая листва —
беззлобно, золотисто и устало, —
так выглядят наивные слова
о том, чего всегда мне не хватало.
Я ни за что их не произнесу,
не выпущу, не разожму ладони.
Я очутился в сумрачном лесу,
и музыка безмолвия на фоне.
Но музыка безумна из глубин,
где всё слепым отчаяньем воспето;
но целомудрен голос гнойных глин:
прекрасна жизнь, когда лишили света.
* * *
Молящий свет, молчащий зуммер
да паутинное окно.
И вот теперь, когда он умер,
природе вдруг не всё равно —
ей предстоит теперь работа,
которая уже не впрок:
с законом Бойля-Мариотта
термодинамики урок.
Ему воздастся не по вере,
не по делам на этот раз:
автолиз, пиршество бактерий,
разрушенный гомеостаз.
О вечной доле и мечтали
липиды и гемоглобин,
азот, хлор, магний, фосфор, калий.
Теперь он больше не один,
но он соседствует со всеми,
необратимо обратясь
в контакт на светлой микросхеме.
Мир — обнаруженная связь,
мир — обналиченные числа,
в горящих битах небосвод.
Ни мыслей больше нет, ни смысла —
одной гармонии круговорот.
* * *
поговори со мной душа
мне больше не с кем говорить
ты хороша ты хороша
но ты не хочешь говорить
но ты не смотришь на меня
хоть я в тебя гляжу
но ты посмотришь на меня
поговори нет не скажу
* * *
Напрасная и праздная вода,
и я среди неё стою шпионом
под равнодушьем высшего суда,
над нежным искажённым небосклоном.
Река вливается в мои глаза,
и вечность я вычерпываю взглядом.
Но вот стремительная стрекоза
стреляет в воздух слюдяным снарядом.
Не задевая зеркала крылом,
она, как я, прожорливо-глазаста,
бесстрашно отражается на нём
и только безучастьем сопричастна.
Её не схватит зрячее стекло,
и не приблизится она, доверясь,
она зависла нагло, наголо,
стреляет снова, устремляясь через
меня, и вот уже летим — куда? —
в пространстве беспрепятственном и трудном,
где трудятся и небо, и вода.
Ни неба, ни воды не зачерпнуть нам.
* * *
Бесцельный треск по вечерам в траве
так работящ за городской чертою,
да слышен, будто тяжесть в голове,
мне турбулентный след над головою.
Лишь силуэты различает глаз,
да вечность зажигается на звёздах,
и в лёгкие, как нежный водолаз,
ныряет воздух.
* * *
Спасибо, слава богу, — но кому
адресовать воскресшие признанья,
когда под снегопадом — как в дыму
деревья, птичьи голоса и зданья?
Бесцельно голубая благодать
обрушивается с любовью белой.
Мой дух не может голову поднять,
и не осталось тающего тела.
И я взлетаю, я иду ко дну,
мне не хватает воздуха и света,
я чувствую и счастье, и вину,
как совершивший, совершивший это.
* * *
Не экспрессивно, словно Шнитке, —
скорее шепчущий снежок —
чужие речи по ошибке.
Но дай мне голоса глоток.
Оставь уже меня в покое:
не ангел будет на снегу,
но только злое и земное
с трудом я высказать могу.
* * *
Хоть я существую опять,
но, видимо, это некстати:
себя не могу я собрать,
как трудную ртуть благодати.
В безбожной, большой тишине
мне дышится больно и ровно,
и молятся молча во мне
молекулы все поголовно.
* * *
Когда ещё я не был в этом теле,
когда я воплощения желал,
а гелиевые глаза глядели
в разверзшегося времени провал,
уже тогда была мне непонятна
мучительная вечность, чистота,
зато на совести понятней пятна
и человечьей жизни пустота,
был космос мне постыл, его кривое
пространство, где влачил за веком век
и где страдал так сильно оттого я,
что не умел страдать, как человек.
* * *
Когда прозрачный зимний лес залит
до неба керосином кислородным,
когда хрустит, стреляет и горит
в лазурном, обезумленном, голодном,
то снова я почти что невредим
брожу среди незримого пожара,
где пихты — это безнадёжный дым,
где статика с эстетикой кошмара,
брожу, с трудом и радостью дыша,
как не страдающий, а настоящий,
и чувствую: мучительна душа —
что лес горящий.
* * *
Утром встанешь — это спирт,
это радость винограда.
Жизнь — пустой минутный флирт.
Ни о чём жалеть не надо.
За мгновенье до распада
отрезвлённая душа
пожалеет. Так и надо.
Жизнь легка и хороша.
* * *
Такая улица осенняя, пустая,
что можно организм из воздуха изъять
и после этой ампутации опять
во все глаза смотреть, смотреть, не умирая.
Так натурально, капитально вещество,
где сумрачный проспект и нету никого,
и бьётся мошкара люминесцентной паствой,
а ствол карагача как трещина пространства.
Кому же и зачем мир в ощущеньях дан?
От ветра офонаревая и шалея,
свет фонарей проходит боковой аллеей,
где в картузе стоит контуженный болван.
* * *
Кто отменить согласен жадный взор,
покаяться, окуклиться, оглохнуть,
кому б хотелось подлость и позор
забыть, забыть, лазурь завесить в окнах, —
сквозь щель ресниц, не поднося к лицу,
увидит всё-таки без проволочек
новорождённых листьев зеленцу,
под ними — стреляные гильзы почек.
Как символ поражения войны
и объявления любви и мира —
приметы тривиальные весны,
захваченные вечностью визира.
* * *
Я не знаю, как справиться с этим:
мы темны, но отчаянно светим.
Коченеет молчания ночь
и лучи не умеют помочь.
Творог снега, глухая тревога.
Объясни, наконец, ради Бога,
кем я был, вообще — для чего
не сказалось моё вещество?
Никакого, конечно, ответа —
лишь тоска обнажённого света.
* * *
Как пахнет облетевшая листва —
беззлобно, золотисто и устало, —
так выглядят наивные слова
о том, чего всегда мне не хватало.
Я ни за что их не произнесу,
не выпущу, не разожму ладони.
Я очутился в сумрачном лесу,
и музыка безмолвия на фоне.
Но музыка безумна из глубин,
где всё слепым отчаяньем воспето;
но целомудрен голос гнойных глин:
прекрасна жизнь, когда лишили света.
* * *
Молящий свет, молчащий зуммер
да паутинное окно.
И вот теперь, когда он умер,
природе вдруг не всё равно —
ей предстоит теперь работа,
которая уже не впрок:
с законом Бойля-Мариотта
термодинамики урок.
Ему воздастся не по вере,
не по делам на этот раз:
автолиз, пиршество бактерий,
разрушенный гомеостаз.
О вечной доле и мечтали
липиды и гемоглобин,
азот, хлор, магний, фосфор, калий.
Теперь он больше не один,
но он соседствует со всеми,
необратимо обратясь
в контакт на светлой микросхеме.
Мир — обнаруженная связь,
мир — обналиченные числа,
в горящих битах небосвод.
Ни мыслей больше нет, ни смысла —
одной гармонии круговорот.
* * *
поговори со мной душа
мне больше не с кем говорить
ты хороша ты хороша
но ты не хочешь говорить
но ты не смотришь на меня
хоть я в тебя гляжу
но ты посмотришь на меня
поговори нет не скажу
* * *
Напрасная и праздная вода,
и я среди неё стою шпионом
под равнодушьем высшего суда,
над нежным искажённым небосклоном.
Река вливается в мои глаза,
и вечность я вычерпываю взглядом.
Но вот стремительная стрекоза
стреляет в воздух слюдяным снарядом.
Не задевая зеркала крылом,
она, как я, прожорливо-глазаста,
бесстрашно отражается на нём
и только безучастьем сопричастна.
Её не схватит зрячее стекло,
и не приблизится она, доверясь,
она зависла нагло, наголо,
стреляет снова, устремляясь через
меня, и вот уже летим — куда? —
в пространстве беспрепятственном и трудном,
где трудятся и небо, и вода.
Ни неба, ни воды не зачерпнуть нам.
* * *
Бесцельный треск по вечерам в траве
так работящ за городской чертою,
да слышен, будто тяжесть в голове,
мне турбулентный след над головою.
Лишь силуэты различает глаз,
да вечность зажигается на звёздах,
и в лёгкие, как нежный водолаз,
ныряет воздух.
* * *
Спасибо, слава богу, — но кому
адресовать воскресшие признанья,
когда под снегопадом — как в дыму
деревья, птичьи голоса и зданья?
Бесцельно голубая благодать
обрушивается с любовью белой.
Мой дух не может голову поднять,
и не осталось тающего тела.
И я взлетаю, я иду ко дну,
мне не хватает воздуха и света,
я чувствую и счастье, и вину,
как совершивший, совершивший это.
* * *
Не экспрессивно, словно Шнитке, —
скорее шепчущий снежок —
чужие речи по ошибке.
Но дай мне голоса глоток.
Оставь уже меня в покое:
не ангел будет на снегу,
но только злое и земное
с трудом я высказать могу.
* * *
Хоть я существую опять,
но, видимо, это некстати:
себя не могу я собрать,
как трудную ртуть благодати.
В безбожной, большой тишине
мне дышится больно и ровно,
и молятся молча во мне
молекулы все поголовно.
* * *
Когда ещё я не был в этом теле,
когда я воплощения желал,
а гелиевые глаза глядели
в разверзшегося времени провал,
уже тогда была мне непонятна
мучительная вечность, чистота,
зато на совести понятней пятна
и человечьей жизни пустота,
был космос мне постыл, его кривое
пространство, где влачил за веком век
и где страдал так сильно оттого я,
что не умел страдать, как человек.
* * *
Когда прозрачный зимний лес залит
до неба керосином кислородным,
когда хрустит, стреляет и горит
в лазурном, обезумленном, голодном,
то снова я почти что невредим
брожу среди незримого пожара,
где пихты — это безнадёжный дым,
где статика с эстетикой кошмара,
брожу, с трудом и радостью дыша,
как не страдающий, а настоящий,
и чувствую: мучительна душа —
что лес горящий.
* * *
Утром встанешь — это спирт,
это радость винограда.
Жизнь — пустой минутный флирт.
Ни о чём жалеть не надо.
За мгновенье до распада
отрезвлённая душа
пожалеет. Так и надо.
Жизнь легка и хороша.
* * *
Такая улица осенняя, пустая,
что можно организм из воздуха изъять
и после этой ампутации опять
во все глаза смотреть, смотреть, не умирая.
Так натурально, капитально вещество,
где сумрачный проспект и нету никого,
и бьётся мошкара люминесцентной паствой,
а ствол карагача как трещина пространства.
Кому же и зачем мир в ощущеньях дан?
От ветра офонаревая и шалея,
свет фонарей проходит боковой аллеей,
где в картузе стоит контуженный болван.
* * *
Кто отменить согласен жадный взор,
покаяться, окуклиться, оглохнуть,
кому б хотелось подлость и позор
забыть, забыть, лазурь завесить в окнах, —
сквозь щель ресниц, не поднося к лицу,
увидит всё-таки без проволочек
новорождённых листьев зеленцу,
под ними — стреляные гильзы почек.
Как символ поражения войны
и объявления любви и мира —
приметы тривиальные весны,
захваченные вечностью визира.



