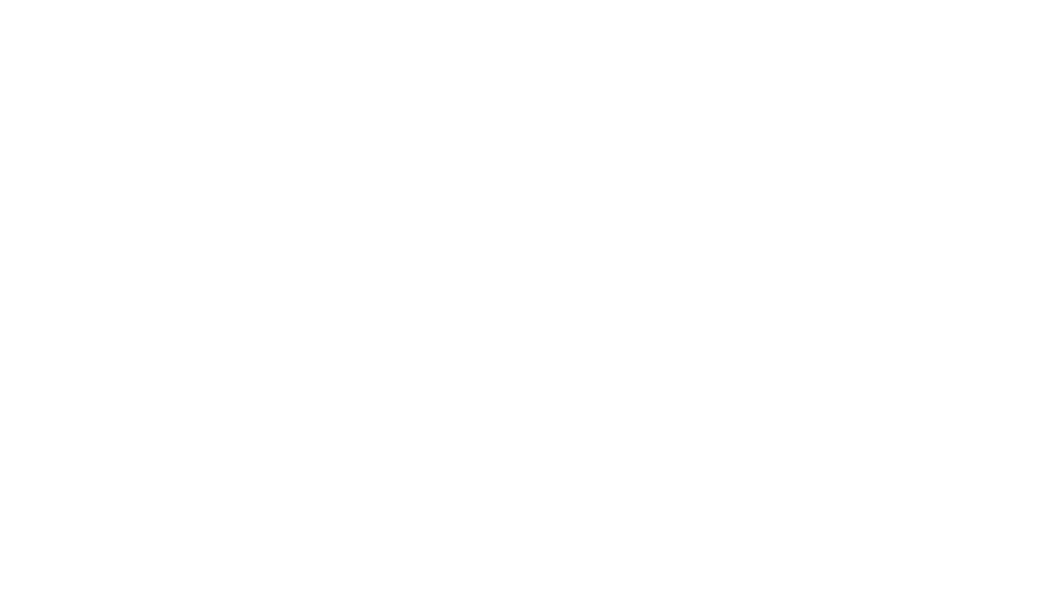
Эллина Савченко — Лидка
Эллина Савченко — писатель, публицист, руководитель мастерской художественного слова «Южный маяк».
Голубонебое утро уже давно разбудило всё живое. Слюдяное солнце заплетало косы. Оно находилось так высоко, что ветру было не достать до него, и он бил по речной воде пятками, пугая рыбу. Бог вращал гончарный круг, и тихая радость лилась далеко-далеко за пределы дач. Лидка сидела на берегу, удивляясь природе после плена городских громад. Ей казалось, что руки её горячи от обожжённой солнцем глины. Она дышала глубоко, словно хотела вместить в себя весь сладковатый воздух. Именно сладковатый. По-другому Лидка не могла определить. То ли фиалка, то ли цветки липы, то ли яблоко, только что разрезанное на тарелке… Это было сказочно.
Кто-то коснулся её худого плеча. Она вздрогнула, хотя, увидев перед собой Пашу, тут же сделала вид, что не испугалась. Он щурился и по-детски улыбался, демонстрируя удочку с ведром. Лидка оценивающе посмотрела на него и гордо отвернулась.
— Привет! — кивнул старый приятель.
— Рыбачить? — спросила она, сама зная ответ.
— Смешная ты, горожанка, — улыбнулся Паша. — Опять на всё лето к нам?
— Как родители скажут. Хотелось бы… — не поворачивалась к собеседнику Лидка.
— Дед твой, смотрю, забор новый поставил. Высокий забор-то.
Лидка не понимала, почему забор не может быть высоким. Она пожала плечами.
— Хочешь, порыбачить дам? — предложил Паша.
— Даже не знаю, не пробовала, — оживилась девушка.
— Как это не пробовала? Забыла разве, как мой батя нас совсем малыми сюда брал? Ты тогда ещё червяка на вкус попробовать собиралась.
— Как? — искренне засмеялась Лидка. — Не было такого! Я? И червяка?! Нет, не помню.
— А лет пять назад, помнишь, корову доить училась? Она от тебя вокруг сарая бегала? Забыла?
— Ой, — закрыла лицо руками Лидка, — ой, насмешил… не было такого. Неужели я корову доить пыталась?
— Ещё как! Только корова — это полбеды. А вот когда мы с тобой у груши ветки отпилили — вот это была настоящая беда. Баба Тася чуть не померла от ужаса и злости! Не помнишь что ли, как она фартуком нас лупила?
— Припоминаю, но смутно, — опустила глаза девушка.
Бесхитростная мудрая красота дышала в природе, заполняла Лидкину пустоту. Лидка, конечно, помнила всё: и разросшийся млечный сад, и рыбалку и погоню за коровой вокруг сарая, но не понимала, почему эти тягучие воспоминания не радуют её. А Пашка совсем взрослый стал, шея аж воловья.
— Горожанка… — передразнил Паша и резко дёрнулся к воде.
В прошлом широкогрудая река, помнящая времена, когда по ней молем сплавляли брёвна, теперь неторопливая и неговорливая, была рада всякой жизни. Паша зачерпывал горстями воду и «поливал» Лидку шумно, задорно, со всей дури.
— Вспоминай, горожанка, — смеялся он. — Тебе воздух городской совсем память отравил!
Лидка вскочила с места и, замерев, оглядела себя. Мокрое платье неуютно обняло её тонкое тело.
— Дурак! — штампованно выругалась она, но убегать, как это обычно показывают в фильмах, не стала.
— Отчего ж это я дурак? — почесал затылок Пашка. Латунные волосы его торчали по сторонам и от воды ещё больше отливали светом.
Лидка аргументов не имела. Ей стало горько и стыдно. Дурачиться не позволяло воспитание, советы старших: «как правильно жить» и городская девичья гордость. Лидка извиняюще смотрела на Пашу, словно он просил у неё прощения за свою весёлость.
— Ты что ж, и про письмо моё прошлогоднее забыла? — без укора спросил Паша.
Горожанка улыбнулась.
— А ты ещё напишешь?
— Напишу! — Паша снова зачерпнул в ладони воду.
Лидка вбежала в реку, уже раззадоренная, и начала плескаться в ответ. Она обрывисто что-то кричала про черногрудого воробья, покосину, аромат мёда и счастье, но было не разобрать — что именно. Всюдый косоплечий ветер уносил её слова. Лидка смывала с себя плен городских громад, а вместе с ним тягость чужого мнения, убивающего быта, и возносилось ввысь, к юному солнцу, земное величие обыкновенного человеческого счастья.
Кто-то коснулся её худого плеча. Она вздрогнула, хотя, увидев перед собой Пашу, тут же сделала вид, что не испугалась. Он щурился и по-детски улыбался, демонстрируя удочку с ведром. Лидка оценивающе посмотрела на него и гордо отвернулась.
— Привет! — кивнул старый приятель.
— Рыбачить? — спросила она, сама зная ответ.
— Смешная ты, горожанка, — улыбнулся Паша. — Опять на всё лето к нам?
— Как родители скажут. Хотелось бы… — не поворачивалась к собеседнику Лидка.
— Дед твой, смотрю, забор новый поставил. Высокий забор-то.
Лидка не понимала, почему забор не может быть высоким. Она пожала плечами.
— Хочешь, порыбачить дам? — предложил Паша.
— Даже не знаю, не пробовала, — оживилась девушка.
— Как это не пробовала? Забыла разве, как мой батя нас совсем малыми сюда брал? Ты тогда ещё червяка на вкус попробовать собиралась.
— Как? — искренне засмеялась Лидка. — Не было такого! Я? И червяка?! Нет, не помню.
— А лет пять назад, помнишь, корову доить училась? Она от тебя вокруг сарая бегала? Забыла?
— Ой, — закрыла лицо руками Лидка, — ой, насмешил… не было такого. Неужели я корову доить пыталась?
— Ещё как! Только корова — это полбеды. А вот когда мы с тобой у груши ветки отпилили — вот это была настоящая беда. Баба Тася чуть не померла от ужаса и злости! Не помнишь что ли, как она фартуком нас лупила?
— Припоминаю, но смутно, — опустила глаза девушка.
Бесхитростная мудрая красота дышала в природе, заполняла Лидкину пустоту. Лидка, конечно, помнила всё: и разросшийся млечный сад, и рыбалку и погоню за коровой вокруг сарая, но не понимала, почему эти тягучие воспоминания не радуют её. А Пашка совсем взрослый стал, шея аж воловья.
— Горожанка… — передразнил Паша и резко дёрнулся к воде.
В прошлом широкогрудая река, помнящая времена, когда по ней молем сплавляли брёвна, теперь неторопливая и неговорливая, была рада всякой жизни. Паша зачерпывал горстями воду и «поливал» Лидку шумно, задорно, со всей дури.
— Вспоминай, горожанка, — смеялся он. — Тебе воздух городской совсем память отравил!
Лидка вскочила с места и, замерев, оглядела себя. Мокрое платье неуютно обняло её тонкое тело.
— Дурак! — штампованно выругалась она, но убегать, как это обычно показывают в фильмах, не стала.
— Отчего ж это я дурак? — почесал затылок Пашка. Латунные волосы его торчали по сторонам и от воды ещё больше отливали светом.
Лидка аргументов не имела. Ей стало горько и стыдно. Дурачиться не позволяло воспитание, советы старших: «как правильно жить» и городская девичья гордость. Лидка извиняюще смотрела на Пашу, словно он просил у неё прощения за свою весёлость.
— Ты что ж, и про письмо моё прошлогоднее забыла? — без укора спросил Паша.
Горожанка улыбнулась.
— А ты ещё напишешь?
— Напишу! — Паша снова зачерпнул в ладони воду.
Лидка вбежала в реку, уже раззадоренная, и начала плескаться в ответ. Она обрывисто что-то кричала про черногрудого воробья, покосину, аромат мёда и счастье, но было не разобрать — что именно. Всюдый косоплечий ветер уносил её слова. Лидка смывала с себя плен городских громад, а вместе с ним тягость чужого мнения, убивающего быта, и возносилось ввысь, к юному солнцу, земное величие обыкновенного человеческого счастья.



