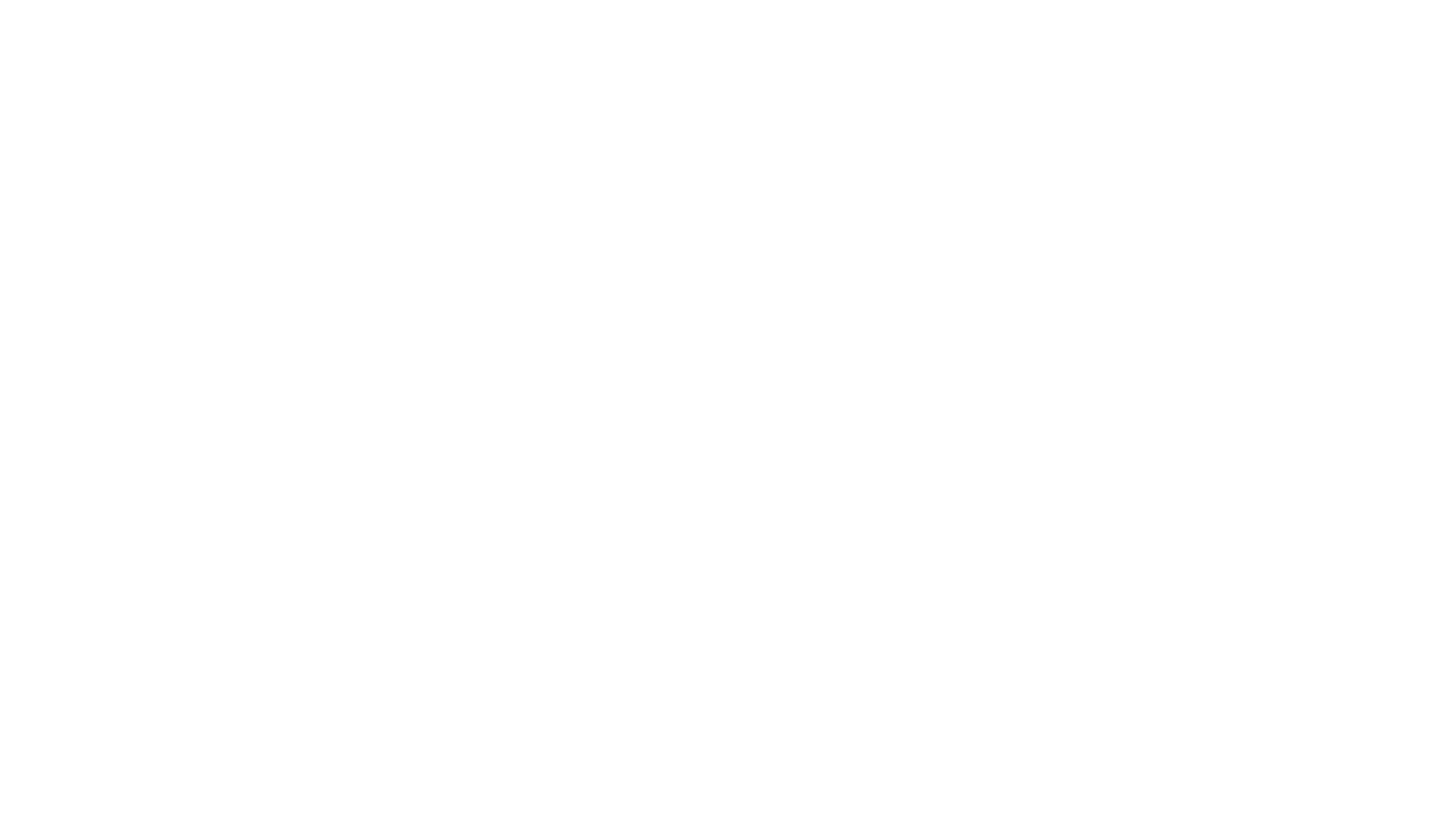
Эллина Савченко — На той стороне зимы
Молодая пегая сука народила их январской холодной и неподвижной, как мертвец, ночью. Они сгуртовались единым чёрным пятном у давно пересохшей, а теперь присыпанной снегом, реки и инстинктивно ждали горячего материнского брюха с огрубевшими сосками. Это было её третье щенение, и бог весть, почему она оставила выводок сразу после его появления на свет. Степной воздух нёс запах свежей крови и жизни.
Платон сокращал через степь нетерпеливый путь. Он хорошо знал эту дорогу, давно ничего не боялся, не берёг себя и других, потому что некого было беречь, кроме одной Ольги, к которой спешил. Шагая по закоченелому жнивью, Платон обратил внимание на чёрное пятно, однако не разглядел главного, но в уме тюкнуло молоточком и подтолкнуло приблизиться вплотную к замерзающей жизни.
— Ладно, ребята, — дал он одну кличку всему выводку, — пошли со мной. — И загрёб черноголовых слепышей в телогрейку.
Знакомый дом горел во все окна жёлтым счастливым светом. Во дворе, возле сарая, брюхом к верху спала старая лодка покойника-отца, его же снасти висельниками висели на гвоздях; кормушка покачивалась под тяжестью снега на голом орешнике.
Платон постучал морзянкой в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул её. Ольга выскочила в коридор, красивая и соскучившаяся после нескольких безобъятных месяцев.
— На-ка вот, — протянул он с порога телогрейку.
— Ну здравствуй, что ли! — красота мигом сошла с её лица.
— Аккуратно только.
— Ишь, нежный, — женская гордость давила.
— Да глянь, кого я тебе притащил, — Платон отвернул края.
— Это что?
— По пути к тебе нашёл. Вряд ли бы мать их оставила.
Ольга спохватилась:
— Может, у Гришки сука ощенилась? Всё брюхатая переваливалась, снег мела.
Платон не любил Гришку — мужика с изуродованным степным ветром лицом и такой же душой.
— Жрать им надо.
— Да где я тебе ночью молоко возьму?
— Погоди, если это Гришкина сука народила, так её сюда приволокти надо. Тут сиди. Сооруди народу этому чего-нибудь, — кивнул Платон на щенков, — а телогрейку мне давай. Да не бойся ты, —вздёрнул он Ольгин носик.
Гришка не спал. Он пил вчерашний чай и рассматривал местную газету на предмет её эксплуатации в быту, когда услышал, что с улицы позвали.
— Чего там? — запахнул он куртку на облачённой в майку бездушной груди.
— Где твоя собака? — понятно спросил Платон, но сосед не понял сути.
— Зачем она тебе?
— Ну так где? — повторил тот.
— В доме.
— Порожняя или ещё брюхатая?
— Да что за чёрт? Какая тебе разница?
В этот момент из будки высунулась виноватая пегая морда. Молча поглядела на Платона и нырнула обратно в черноту неизвестности.
— В доме, говоришь? — Платон дёрнул наглухо запертую калитку.
— Ну ты не наглей давай! — Гришка искал случайных свидетелей разговора.
— Это ты сосунков в балку скинул? — прямо спросил Платон.
— А зачем они мне нужны здесь?
— Выпусти собаку, пусть детей покормит.
— Ты их сюда что ли притащил?
— У Ольги они. Выпускай, пока я тебе калитку не вышиб.
Гришка, втянув шею, засеменил к калитке. На вытянутой руке повернул щеколду и отпрянул обратно.
— Иди вон к нему, шкура, — обратился он в черноту будки.
Платон присвистнул: пегая морда снова показалась наружу, а затем и её, сбросившее материнскую ношу, тело. Она поковыляла к тому, от кого пахло её кровью. Густое и белое дыхание Платона поднималось, как пар из котла жизни; ему хотелось подойти к Гришке и крепко ударить его.
Степь молчала — ей не придётся видеть сегодня, как Платон неторопливо будет выбивать из Гришки расхристанную дурь, когда угловатая и длинная тень его станет метаться среди голых и равнодушных деревьев. Биться с никому не нужным мертвецом не имеет никакого смысла… а для всякой борьбы должен быть смысл.
Умостившись на широкой груди Платона, Ольга смотрела в дальний угол комнаты, где из пегой матери жадно пили жизнь черноголовые болванчики.
Платон сокращал через степь нетерпеливый путь. Он хорошо знал эту дорогу, давно ничего не боялся, не берёг себя и других, потому что некого было беречь, кроме одной Ольги, к которой спешил. Шагая по закоченелому жнивью, Платон обратил внимание на чёрное пятно, однако не разглядел главного, но в уме тюкнуло молоточком и подтолкнуло приблизиться вплотную к замерзающей жизни.
— Ладно, ребята, — дал он одну кличку всему выводку, — пошли со мной. — И загрёб черноголовых слепышей в телогрейку.
Знакомый дом горел во все окна жёлтым счастливым светом. Во дворе, возле сарая, брюхом к верху спала старая лодка покойника-отца, его же снасти висельниками висели на гвоздях; кормушка покачивалась под тяжестью снега на голом орешнике.
Платон постучал морзянкой в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул её. Ольга выскочила в коридор, красивая и соскучившаяся после нескольких безобъятных месяцев.
— На-ка вот, — протянул он с порога телогрейку.
— Ну здравствуй, что ли! — красота мигом сошла с её лица.
— Аккуратно только.
— Ишь, нежный, — женская гордость давила.
— Да глянь, кого я тебе притащил, — Платон отвернул края.
— Это что?
— По пути к тебе нашёл. Вряд ли бы мать их оставила.
Ольга спохватилась:
— Может, у Гришки сука ощенилась? Всё брюхатая переваливалась, снег мела.
Платон не любил Гришку — мужика с изуродованным степным ветром лицом и такой же душой.
— Жрать им надо.
— Да где я тебе ночью молоко возьму?
— Погоди, если это Гришкина сука народила, так её сюда приволокти надо. Тут сиди. Сооруди народу этому чего-нибудь, — кивнул Платон на щенков, — а телогрейку мне давай. Да не бойся ты, —вздёрнул он Ольгин носик.
Гришка не спал. Он пил вчерашний чай и рассматривал местную газету на предмет её эксплуатации в быту, когда услышал, что с улицы позвали.
— Чего там? — запахнул он куртку на облачённой в майку бездушной груди.
— Где твоя собака? — понятно спросил Платон, но сосед не понял сути.
— Зачем она тебе?
— Ну так где? — повторил тот.
— В доме.
— Порожняя или ещё брюхатая?
— Да что за чёрт? Какая тебе разница?
В этот момент из будки высунулась виноватая пегая морда. Молча поглядела на Платона и нырнула обратно в черноту неизвестности.
— В доме, говоришь? — Платон дёрнул наглухо запертую калитку.
— Ну ты не наглей давай! — Гришка искал случайных свидетелей разговора.
— Это ты сосунков в балку скинул? — прямо спросил Платон.
— А зачем они мне нужны здесь?
— Выпусти собаку, пусть детей покормит.
— Ты их сюда что ли притащил?
— У Ольги они. Выпускай, пока я тебе калитку не вышиб.
Гришка, втянув шею, засеменил к калитке. На вытянутой руке повернул щеколду и отпрянул обратно.
— Иди вон к нему, шкура, — обратился он в черноту будки.
Платон присвистнул: пегая морда снова показалась наружу, а затем и её, сбросившее материнскую ношу, тело. Она поковыляла к тому, от кого пахло её кровью. Густое и белое дыхание Платона поднималось, как пар из котла жизни; ему хотелось подойти к Гришке и крепко ударить его.
Степь молчала — ей не придётся видеть сегодня, как Платон неторопливо будет выбивать из Гришки расхристанную дурь, когда угловатая и длинная тень его станет метаться среди голых и равнодушных деревьев. Биться с никому не нужным мертвецом не имеет никакого смысла… а для всякой борьбы должен быть смысл.
Умостившись на широкой груди Платона, Ольга смотрела в дальний угол комнаты, где из пегой матери жадно пили жизнь черноголовые болванчики.



