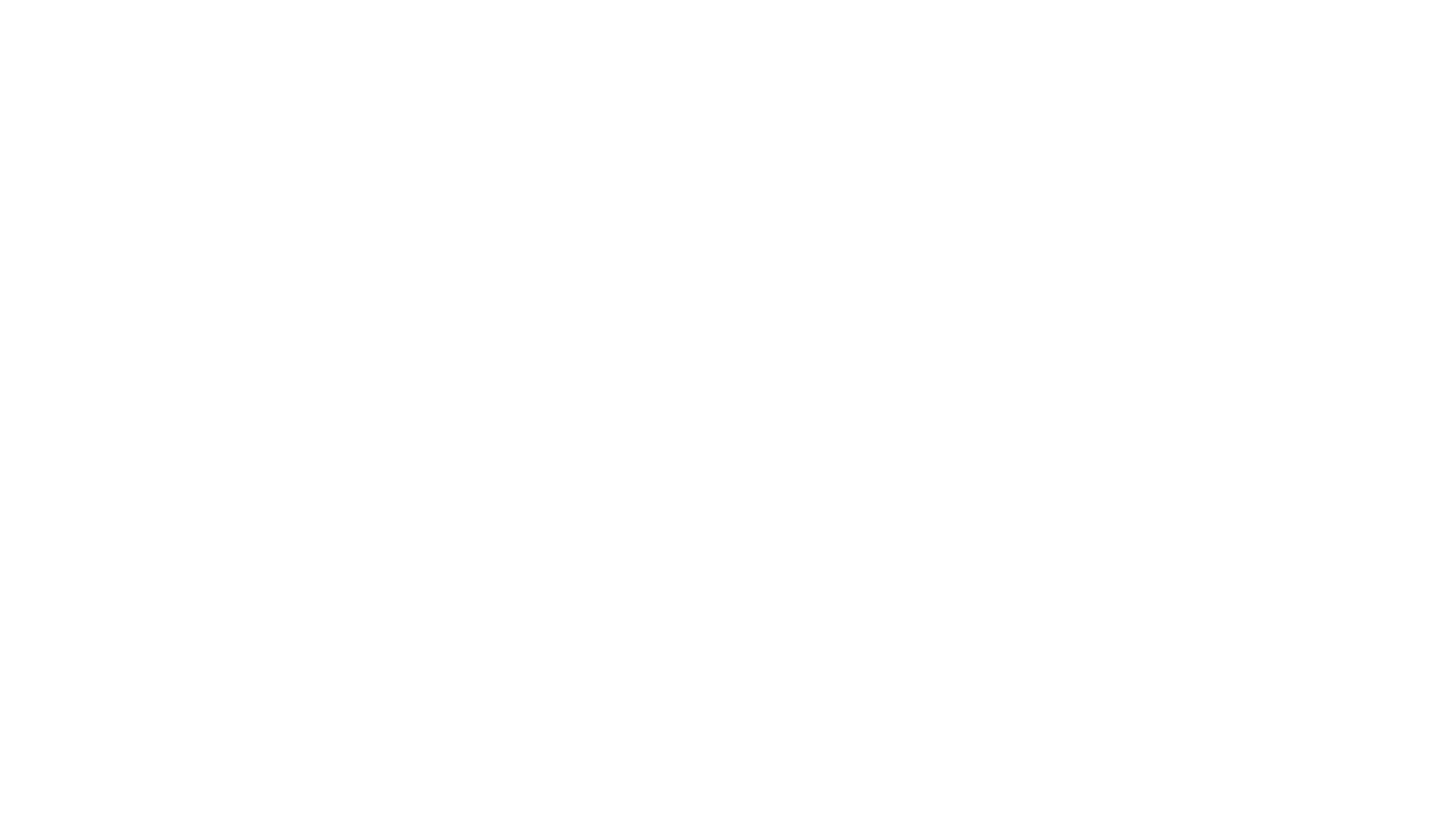
Андрей Сергеев — Чем не Лианозово
(о книге стихотворений Александра Ханьжова «Postscriptum», Саратов: Музыка и быт, 2024)
«Post scriptum» – переиздание второй и последней прижизненной книги «саратовского Вийона» Александра Ханьжова (1947-2002) – фигуры, ставшей мостиком между первым неподцензурным местным поэтом Валентином Ярыгиным, чьим учеником он себя считал, и знаковых для города объединений «Окраинные поэты» и «Контрапункт», в состав которых Ханьжов и сам входил, притом в «Контрапункте» в какой-то мере уже в роли старшего товарища. Поэтическое наследие небогато – чуть более сотни стихотворений, что, как писал его исследователь Алексей Голицын, говорило «о чувстве меры, столь не свойственной поэтическим натурам»[1]. Стихи его тем не менее выходят за пределы Саратова и могут рассматриваться как часть богатой традиции «проклятых поэтов» и вместе с тем – лианозовской школы и Евгения Кропивницкого, тем более что параллели проводил и он сам:
Место жительства – барак.
Проходняк, а в нем сквозняк…
Цвет заката розовый –
Чем не Лианозово?
Биография Ханьжова была подстать «проклятым поэтам»: ЛТП, психбольницы, туберкулезный диспансер, тюрьмы (убийство во время ссоры старшей сестры, за что получил 7 лет[2]). В его случае детали важны, поскольку тюремное прошлое насквозь пропитало лирику, что особенно заметно именно в этой книге – так один из центральных её блоков представляют циклы «пятерок», по сути – блатные частушки:
Очень разный контингент
В лагере имеется:
Этот вор, а этот мент,
В прошлом, разумеется.
Бывает и погрубее:
Не следят за речью тут,
Ругань полным ходом…
Ох, культуру им привьют
По другим проходам.
По темам и интонациям явно напрашиваются параллели с лагерной поэзией Бориса Чичибабина, местами, кстати, более грубые. Ханьжов, впрочем, выходит за пределы сугубо тюремной лирики. Будучи грамотным версификатором, он помещает в этот сборник и свои опыты с хокку, и стансы, и любовные послания, и множество сонетов, хотя также порой не чурающихся блатной тематики. Тексты не существуют в отрыве от мировой и отечественной традиции: он любит явно или скрыто цитировать классиков, с той же саркастической интонацией – сложно, например, не отгадать в строках «Надзиратели – каратели/ И карателей лакеи» издевочную параллель с «умывальников начальник и мочалок командир».
При всем том Ханьжов все-таки оказывается тоньше просто фигуры асоциального поэта, выбравшего не ту дорожку и сублимирующего свою ненависть к неволе через стихотворения, что может проявляться, скажем, в творчестве людей, взявшихся за поэзию в тюрьме для реализации собственных переживаний, или просто графоманов, продолживших творить и там, не говоря уже про культуру блатного шансона, эксплуатирующую клише противостояния тюрьмы «системе». Здесь можно провести мысль и дальше: происходит своего рода сохранение речи на фоне развала привычного уклада и – шире – литературы. Или, точнее, ее трансформация. Поскольку «с волками жить – по-волчьи выть», а процесс сохранения речи в месте, не располагающем к ее если и не развитию, то хотя бы отстаиванию на привычных правах, – попросту невозможен, что сближает Ханьжова с лагерной прозой Шаламова. Разумеется, с большой оговоркой.
Однако, как минимум, их роднит рефлексия на тему возможности «старой» речи в новых условиях и мотив вынужденного молчания. Как человек, прошедший места заключения, Ханьжов прекрасно отдавал отчет важности работы над словом:
Слова не бросаешь подряд,
А годы играешь в молчанку:
Слова извратят, как хотят,
И вывернут смысл наизнанку.
А чтоб не случилось того,
Ты сам – творец и корректор –
Глядишь на себя самого
Из времени plus quam perfectum.
Твой внутренний цензор «Атас»
Всегда и повсюду на страже:
Подумаешь тысячу раз,
Потом только скажешь.
Место жительства – барак.
Проходняк, а в нем сквозняк…
Цвет заката розовый –
Чем не Лианозово?
Биография Ханьжова была подстать «проклятым поэтам»: ЛТП, психбольницы, туберкулезный диспансер, тюрьмы (убийство во время ссоры старшей сестры, за что получил 7 лет[2]). В его случае детали важны, поскольку тюремное прошлое насквозь пропитало лирику, что особенно заметно именно в этой книге – так один из центральных её блоков представляют циклы «пятерок», по сути – блатные частушки:
Очень разный контингент
В лагере имеется:
Этот вор, а этот мент,
В прошлом, разумеется.
Бывает и погрубее:
Не следят за речью тут,
Ругань полным ходом…
Ох, культуру им привьют
По другим проходам.
По темам и интонациям явно напрашиваются параллели с лагерной поэзией Бориса Чичибабина, местами, кстати, более грубые. Ханьжов, впрочем, выходит за пределы сугубо тюремной лирики. Будучи грамотным версификатором, он помещает в этот сборник и свои опыты с хокку, и стансы, и любовные послания, и множество сонетов, хотя также порой не чурающихся блатной тематики. Тексты не существуют в отрыве от мировой и отечественной традиции: он любит явно или скрыто цитировать классиков, с той же саркастической интонацией – сложно, например, не отгадать в строках «Надзиратели – каратели/ И карателей лакеи» издевочную параллель с «умывальников начальник и мочалок командир».
При всем том Ханьжов все-таки оказывается тоньше просто фигуры асоциального поэта, выбравшего не ту дорожку и сублимирующего свою ненависть к неволе через стихотворения, что может проявляться, скажем, в творчестве людей, взявшихся за поэзию в тюрьме для реализации собственных переживаний, или просто графоманов, продолживших творить и там, не говоря уже про культуру блатного шансона, эксплуатирующую клише противостояния тюрьмы «системе». Здесь можно провести мысль и дальше: происходит своего рода сохранение речи на фоне развала привычного уклада и – шире – литературы. Или, точнее, ее трансформация. Поскольку «с волками жить – по-волчьи выть», а процесс сохранения речи в месте, не располагающем к ее если и не развитию, то хотя бы отстаиванию на привычных правах, – попросту невозможен, что сближает Ханьжова с лагерной прозой Шаламова. Разумеется, с большой оговоркой.
Однако, как минимум, их роднит рефлексия на тему возможности «старой» речи в новых условиях и мотив вынужденного молчания. Как человек, прошедший места заключения, Ханьжов прекрасно отдавал отчет важности работы над словом:
Слова не бросаешь подряд,
А годы играешь в молчанку:
Слова извратят, как хотят,
И вывернут смысл наизнанку.
А чтоб не случилось того,
Ты сам – творец и корректор –
Глядишь на себя самого
Из времени plus quam perfectum.
Твой внутренний цензор «Атас»
Всегда и повсюду на страже:
Подумаешь тысячу раз,
Потом только скажешь.
С Шаламовым Ханьжова роднит рефлексия на тему возможности «старой» речи в новых условиях и мотив вынужденного молчания.
Непроизносимость и непроговариваемость мысли уже давно стала общим местом в разговорах о литературе цензурной и неподцензурной. Однако редко у кого этот мотив становился основополагающим в творчестве, авторской оптикой, которая диктовала текст и сама же была предметом анализа – не только на уровне разговора о непроговариваемом, но и при описания этого малоприятного мира. В этом плане вселенная пораженного в правах человека оказывается неожиданно схожа не только с барачной поэзией лианозовцев, но и, например, с Виталием Пухановым, в творчестве которого столь важен мотив ада как естественного места обитания людей, вплоть до полного неразличения его с повседневной жизнью.
Притом, что важно, речь идет не об абстрактном метафизическом опыте проживания жизни как пребывания в аду, а о конкретном советском этапе истории нашей страны с построением проекта «советского человека» и экзистенциальным его осмыслением[3]:
Все идет свои чередом:
Я в тюрьме, и тюрьма мой дом
Впереди Божий Суд – и надо
Привыкать к филиалам Ада.
Или – из «Сонета лагерной больнице»:
Казенные координаты мук –
Под старость лет досталась мне морока:
Пространство сузилось в локальный круг,
А время в инфернальный морок срока.
Обращение к «высоким» и «низким» жанрам конвенционального силлабо-тонического письма у Ханьжова тем более должно подчеркивать инфернальную суть описываемого. По этой причине вещи у него описаны зачастую с гораздо большей любовью, чем человеческие портреты.
Благословенны овощи земные!
Я заново в неволе научился
Оценивать фактуру, запах, вкус…
И, как комментарий к предыдущим строкам:
Конечно, в зоне человек – никто,
И нравы здесь грубей и резче,
И ненавистней люди, но зато
Возлюбленнее вещи.
И все же, если у читателя сложился образ скорее неприятного, хоть и трагического человека, который, когда стало возможно, начал огрызаться, то он будет однобоким.
Да, Ханьжов много писал про свой лагерный опыт, да, и антисоветские агитки у него были и едва ли их можно отнести к его лучшим стихотворениям, а в некоторых – чувство вкуса ему и вовсе отказывает. Однако многие тексты раскрывают лирического героя как более многогранную фигуру, не чуждую и чувственности, и самоиронии («непризнанный вагант»), и добродушного юмора, как, например, в стихотворении к дочери:
Целую от души мою Ларису,
И в будущем ей спутника желаю,
Не уступающего красотой Парису,
А верностью и честью Менелаю.
Переиздание второго сборника Ханьжова стало одной из последних работ издательства «Музыка и быт», чей создатель и редактор журнала «Волга» Алексей Голицын скончался 30 апреля 2025 года. Событие это выходит за пределы привычной хроники местного книгоиздательства, поскольку от локальных легенд Ханьжов отличается цельностью образа, даже, скажем, фигуры, несмотря на жанровое и стилистическое разнообразие.
В современности у нас не так уж много поэтов, чей образ плотно ассоциируется именно с лагерной тематикой и воздействием ее на личность человека, приучением ее к новой реальности без потери чувства собственного достоинства. Ханьжов был тем автором, который выразил такую личность максимально ярко. Он не изобретал новую поэтику, но неожиданно заметил, что теснота стихового ряда имеет малоприятного, но вполне закономерного родственника в лице скупости на слова человека, прошедшего места, где нужно следить за языком. А родственников, как известно, не выбирают.
ХАНЬЖОВ. ПАМЯТЬ
В Саратове Ханьжов стал культовой фигурой, однако поколения сменяются, и теперь даже в родном городе о нем молодые авторы могут не знать. Тем не менее в контекст Саратова как один из главных его авторов он вписан – доказательством чему является его включение в антологию «Саратов 13/13», куда он вошел наряду с поэтами – Николаем Кононовым, Алексеем Александровым и Светланой Кековой. Правда, при жизни Ханьжов почти не печатался, за исключением «Волги» и сборников «Контрапункта».
Неудивительно, что он прошёл мимо внимания критики и других поэтов за пределами города: о нем, если не считать все той же «Волги» и «Детей Ра», издававшегося поначалу в Саратове, впоследствии практически никто не писал, за исключением Евгения Степанова, называвшего Ханьжова настоящим поэтом, но не закрывавшего, впрочем, глаза не недостатки: «Неровный, иногда излишне многословный, не всегда виртуозный. Но поэт. Поэт по сути»[4].
Что примечательно, интерес к Ханьжову у Степанова нельзя списать на необходимость включения саратовского контекста в первые номера «Детей Ра», поскольку заметки об авторе можно встретить во втором томе антологии «Они ушли. Они остались»[5] и в примечательной публикации «Александр Ханьжов, Борис Рыжий, Татьяна Бек, Анна Альчук: трагические голоса эпохи», где его имя впервые встраивается в контекст других авторов. Впрочем, скорее условно, поскольку в статье нет попыток связать этих четырех поэтов между собой[6], а объединены они скорее формальной функцией предсказывания своей судьбы, что случилось и с Ханьжовым: «Я умер в палиндромный год, / И возраст был мой палиндромен…».
Поэта не стало в 2002-м году. Ему было 55 лет. Данила Давыдов в недавней рецензии в «Воздухе» проводит аналогии с Леонидом Губановым, с которым якобы Ханьжов пересекался: ««Ты пишешь, как я», – если и соответствуют действительности, то лишь в рамках низового постромантического мифа о поэте (в его «есенинском изводе»); Ханьжов даже в ранних стихах суше и резче предводителя смогистов (но и чаще использует общие места). Определённо сильнее всего у Ханьжова во второй книге короткие тексты – будь то опыты подражания хайку и танка или крайне жёсткие, макабрические лагерные четверостишия в частушечном ритме»[7]. На этом попытки вписать Ханьжова в контекст эпохи на сегодняшний день заканчиваются.
[1] Голицын А. Рецензия на посмертный сборник Ханьжова // Новые времена. URL: https://golitzin.livejournal.com/3462.html?es=1
[2] Последний факт, впрочем, не столь однозначен, см. подробнее: Малякин Е. Последний глоток // Новые времена. 2003. №5(20). URL: https://www.nvsaratov.ru/nvrubr/?ELEMENT_ID=1071
[3] См. подробнее: Сергеев А. Ад как данность // Цирк «Олимп» + TV [электронный ресурс]. 2022. №37(70).URL: https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/1111/ad-kak-dannost
[4] Степанов Е. Саратовский Вийон. Рецензия на книгу Александра Ханьжова «Пора возвращения» // Дети Ра. 2004. №1. URL: https://magazines.gorky.media/ra/2004/1/reczenziya-na-knigu-aleksandra-hanzhova-pora-vozvrashheniya.html
[5] Степанов Е. Александр Ханьжов. «Официальное искусство…» // Читальный зал. URL: https://reading-hall.ru/publication.php?id=26486
[6] Степанов А. Александр Ханьжов, Борис Рыжий, Татьяна Бек и Анна Альчук: трагические голоса эпохи / Е. Степанов Профетические функции поэзии, или поэты-пророки. М.: Вест-Консалтинг, 2011. 84 с. URL: http://stepanov-plus.ru/literator/publication.php?id=16345
[7] Давыдов Д. Александр Ханьжов. Post Scriptum: вторая книга стихотворений // Воздух. 2025. №45. С.500.
Притом, что важно, речь идет не об абстрактном метафизическом опыте проживания жизни как пребывания в аду, а о конкретном советском этапе истории нашей страны с построением проекта «советского человека» и экзистенциальным его осмыслением[3]:
Все идет свои чередом:
Я в тюрьме, и тюрьма мой дом
Впереди Божий Суд – и надо
Привыкать к филиалам Ада.
Или – из «Сонета лагерной больнице»:
Казенные координаты мук –
Под старость лет досталась мне морока:
Пространство сузилось в локальный круг,
А время в инфернальный морок срока.
Обращение к «высоким» и «низким» жанрам конвенционального силлабо-тонического письма у Ханьжова тем более должно подчеркивать инфернальную суть описываемого. По этой причине вещи у него описаны зачастую с гораздо большей любовью, чем человеческие портреты.
Благословенны овощи земные!
Я заново в неволе научился
Оценивать фактуру, запах, вкус…
И, как комментарий к предыдущим строкам:
Конечно, в зоне человек – никто,
И нравы здесь грубей и резче,
И ненавистней люди, но зато
Возлюбленнее вещи.
И все же, если у читателя сложился образ скорее неприятного, хоть и трагического человека, который, когда стало возможно, начал огрызаться, то он будет однобоким.
Да, Ханьжов много писал про свой лагерный опыт, да, и антисоветские агитки у него были и едва ли их можно отнести к его лучшим стихотворениям, а в некоторых – чувство вкуса ему и вовсе отказывает. Однако многие тексты раскрывают лирического героя как более многогранную фигуру, не чуждую и чувственности, и самоиронии («непризнанный вагант»), и добродушного юмора, как, например, в стихотворении к дочери:
Целую от души мою Ларису,
И в будущем ей спутника желаю,
Не уступающего красотой Парису,
А верностью и честью Менелаю.
Переиздание второго сборника Ханьжова стало одной из последних работ издательства «Музыка и быт», чей создатель и редактор журнала «Волга» Алексей Голицын скончался 30 апреля 2025 года. Событие это выходит за пределы привычной хроники местного книгоиздательства, поскольку от локальных легенд Ханьжов отличается цельностью образа, даже, скажем, фигуры, несмотря на жанровое и стилистическое разнообразие.
В современности у нас не так уж много поэтов, чей образ плотно ассоциируется именно с лагерной тематикой и воздействием ее на личность человека, приучением ее к новой реальности без потери чувства собственного достоинства. Ханьжов был тем автором, который выразил такую личность максимально ярко. Он не изобретал новую поэтику, но неожиданно заметил, что теснота стихового ряда имеет малоприятного, но вполне закономерного родственника в лице скупости на слова человека, прошедшего места, где нужно следить за языком. А родственников, как известно, не выбирают.
ХАНЬЖОВ. ПАМЯТЬ
В Саратове Ханьжов стал культовой фигурой, однако поколения сменяются, и теперь даже в родном городе о нем молодые авторы могут не знать. Тем не менее в контекст Саратова как один из главных его авторов он вписан – доказательством чему является его включение в антологию «Саратов 13/13», куда он вошел наряду с поэтами – Николаем Кононовым, Алексеем Александровым и Светланой Кековой. Правда, при жизни Ханьжов почти не печатался, за исключением «Волги» и сборников «Контрапункта».
Неудивительно, что он прошёл мимо внимания критики и других поэтов за пределами города: о нем, если не считать все той же «Волги» и «Детей Ра», издававшегося поначалу в Саратове, впоследствии практически никто не писал, за исключением Евгения Степанова, называвшего Ханьжова настоящим поэтом, но не закрывавшего, впрочем, глаза не недостатки: «Неровный, иногда излишне многословный, не всегда виртуозный. Но поэт. Поэт по сути»[4].
Что примечательно, интерес к Ханьжову у Степанова нельзя списать на необходимость включения саратовского контекста в первые номера «Детей Ра», поскольку заметки об авторе можно встретить во втором томе антологии «Они ушли. Они остались»[5] и в примечательной публикации «Александр Ханьжов, Борис Рыжий, Татьяна Бек, Анна Альчук: трагические голоса эпохи», где его имя впервые встраивается в контекст других авторов. Впрочем, скорее условно, поскольку в статье нет попыток связать этих четырех поэтов между собой[6], а объединены они скорее формальной функцией предсказывания своей судьбы, что случилось и с Ханьжовым: «Я умер в палиндромный год, / И возраст был мой палиндромен…».
Поэта не стало в 2002-м году. Ему было 55 лет. Данила Давыдов в недавней рецензии в «Воздухе» проводит аналогии с Леонидом Губановым, с которым якобы Ханьжов пересекался: ««Ты пишешь, как я», – если и соответствуют действительности, то лишь в рамках низового постромантического мифа о поэте (в его «есенинском изводе»); Ханьжов даже в ранних стихах суше и резче предводителя смогистов (но и чаще использует общие места). Определённо сильнее всего у Ханьжова во второй книге короткие тексты – будь то опыты подражания хайку и танка или крайне жёсткие, макабрические лагерные четверостишия в частушечном ритме»[7]. На этом попытки вписать Ханьжова в контекст эпохи на сегодняшний день заканчиваются.
[1] Голицын А. Рецензия на посмертный сборник Ханьжова // Новые времена. URL: https://golitzin.livejournal.com/3462.html?es=1
[2] Последний факт, впрочем, не столь однозначен, см. подробнее: Малякин Е. Последний глоток // Новые времена. 2003. №5(20). URL: https://www.nvsaratov.ru/nvrubr/?ELEMENT_ID=1071
[3] См. подробнее: Сергеев А. Ад как данность // Цирк «Олимп» + TV [электронный ресурс]. 2022. №37(70).URL: https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/1111/ad-kak-dannost
[4] Степанов Е. Саратовский Вийон. Рецензия на книгу Александра Ханьжова «Пора возвращения» // Дети Ра. 2004. №1. URL: https://magazines.gorky.media/ra/2004/1/reczenziya-na-knigu-aleksandra-hanzhova-pora-vozvrashheniya.html
[5] Степанов Е. Александр Ханьжов. «Официальное искусство…» // Читальный зал. URL: https://reading-hall.ru/publication.php?id=26486
[6] Степанов А. Александр Ханьжов, Борис Рыжий, Татьяна Бек и Анна Альчук: трагические голоса эпохи / Е. Степанов Профетические функции поэзии, или поэты-пророки. М.: Вест-Консалтинг, 2011. 84 с. URL: http://stepanov-plus.ru/literator/publication.php?id=16345
[7] Давыдов Д. Александр Ханьжов. Post Scriptum: вторая книга стихотворений // Воздух. 2025. №45. С.500.



