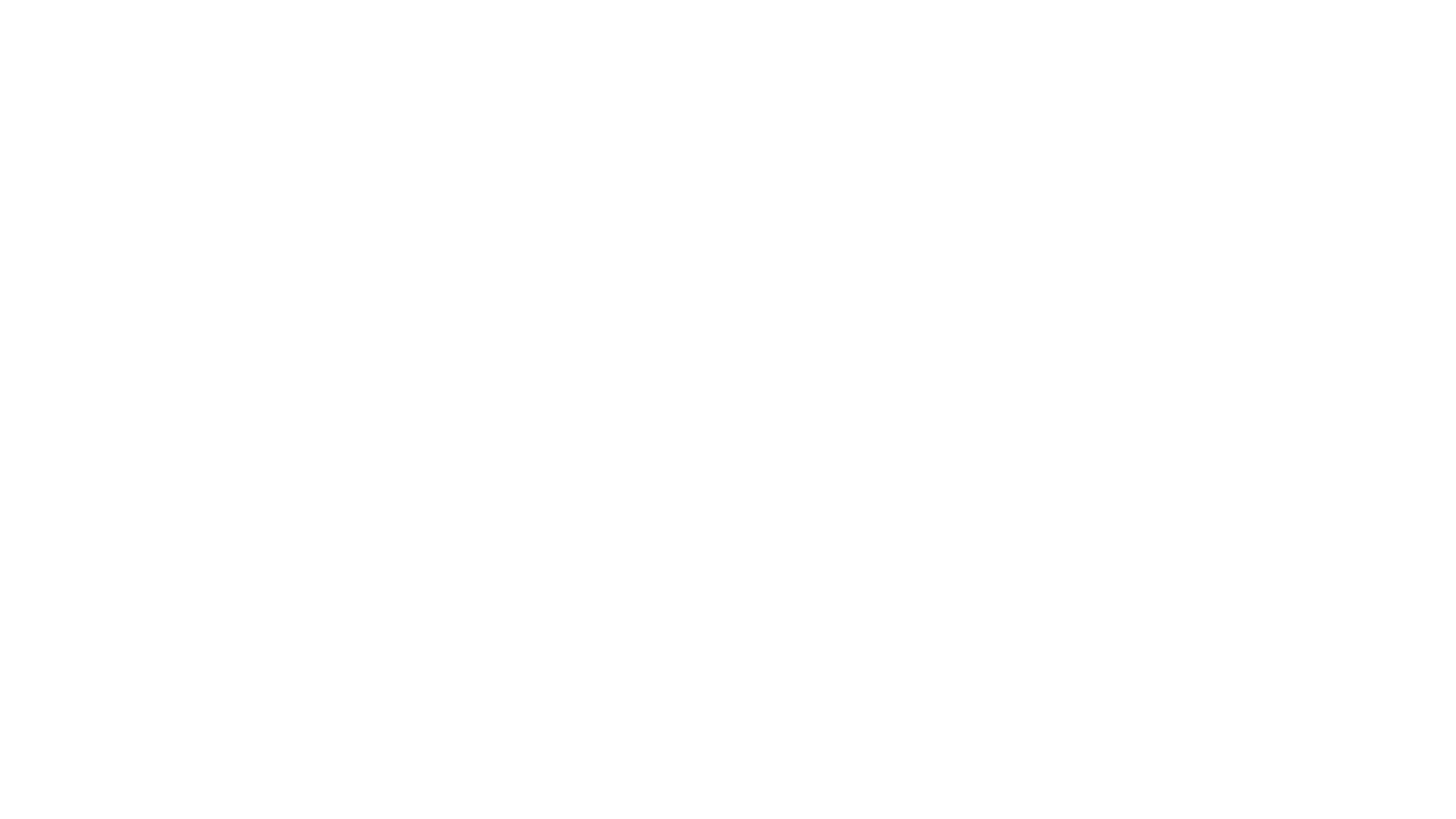
Ольга Ширяева — Исцеляющие тени подлеска
Рецензия на книгу «О чём я думаю» О. Васякиной (М.: Новое литературное обозрение, 2024).
Оксана Васякина в представлении не нуждается. Её творчество уже давно аккуратно уложили в коробочку литературы травмы, в которой современный автофикшн трудно представить без её романной трилогии – «Рана», «Степь» и «Роза».
Её история как поэта начинается со сборника стихов под названием «Женская проза» (2016), продолжается в откровенном сборнике-интервью «Ветер ярости» (2019) и на данный момент завершается книгой стихов «О чём я думаю» (2024). Тексты этого сборника появлялись в промежутках между «письмом в строчку» примерно с 2020 по 2024 гг.
В предисловии много говорится об ускользающих впечатлениях, например, в истории о «Подлеске» — картине, которую Васякина видела однажды и не смогла найти снова. Этот эпизод становится основной метафорой всей книги: память человека изменчива и подвижна. Автор действует по гумилёвскому принципу плюшкинского хозяйства: собирает и сохраняет даже едва уловимые впечатления и детали, впуская в свою поэтику больше свободы и случайности. Также в предисловии отмечается нелинейность изменения поэтического текста – Васякина предупреждает, что в книге будут «рытвины, петли и тупики». Хотя на самом деле сборник выстроен грамотно.
«О чём я думаю» условно можно поделить на две части. Первая состоит из верлибров, стремящихся к сюжетности и фиксации момента. Они саморефлексивны и напоминают психотерапевтическое письмо. Вторая - пронумерованные заметки о судьбе Е. Гуро: «Я не хотела о ней писать, но снова вернулась к своим материалам. Их бы хватило на книгу. Но какая неуместная форма - книга». Анализируя её жизнь, поэтесса ищет точки соприкосновения со своим внутренним миром. Это попытка нащупать комфортную форму самоисследования.
Во всех текстах проступает «я» лирической героини, которую трудно отделить от самой Васякиной, а так же мотив страха смерти и утраты, неотвратимо следующие за всем её творчеством. Текст при этом ныряет по разным географическим и временным точкам от Казани и Карелии до Российской Империи, где жила Гуро, и даже головы самой Васякиной (или её лирической героини), как ещё одного пространства для путешествия.
Верлибры первой части делают ставку на воспоминания, ассоциации, грёзы и мысли. Так, например, «Казанский текст» начинается с зафиксированного воспоминания. Толчком к его развитию становится видео, снятое на первый айфон, а дальше оно растягивается и дополняется портретами родственников, деталями и комментариями. Немаловажен портрет матери, о судьбе которой мы знаем по роману «Рана»:
«Книга закрылась
и внезапно открылась на самой первой странице.
Под заголовком ЛОГОС серый лист разорвала цветная фотография
из первых туристических фотоавтоматов нулевых,
в объектив еле вмещаются два широких татарских лица –
моё и моей матери»
После воспоминания, которое оживает на этой последней совместной фотографии, появляется интересный вопрос о матери, который на самом деле будто важнее, чем утверждение, стоящее в заголовке всего сборника: «О чём она думала в душной крымской фотобудке?»
Во «Второй штормовой» этот мотив отыгрывается привязкой к времени утраты «Накануне годовщины твоей смерти» и становится воспоминанием о близком человеке:
«Мы были на море дважды.
Ты говорила с прибрежными псами, как если бы они были твои одноклассники или братья.
Ты говорила со всеми, как если бы они были твои братья.
Ты говорила со мной, как с братом
Но я не была тебе братом».
В парном стихотворении «Время тяжелее печали» больше внутреннего размышления о течении времени и поэзии:
«пишу в уме
лежа с открытым ртом в стоматологическом кресле
и боюсь забыть всё что приходит на ум».
В главе «О чём я думаю» происходит скачок в прозаическое и текст уже «пишется в строчку», где разбивается на небольшие абзацы. Пожалуй, эти размышления сложно назвать стихотворениями или ритмизованной прозой, это гораздо ближе по характеру и содержанию к розановской эссеистике и психотерапевтическому письму.
«Думаю о раке груди. Ещё не проснувшись, пальцем прохожу вокруг соска и жду, что где-то там, внутри волокнистой железы, есть смертоносные сгустки»;
«Думаю об онкофобии. Непрерывно испытываю страх. Только тяжелая атлетика избавляет от страха»;
«Думаю о чувствах. Сегодня ничего не чувствовать неприлично».
В этой части для Васякиной особенно важна форма, в которой она могла бы зафиксировать внутреннюю речь:
«Ещё кто-то скажет, что этот текст не поэзия <…> Но есть тупая привычка оправдываться. Показывать, как устроена графика, как работает монтаж, и объяснять, что ритмическую систему можно изменять до бесконечности. Грубо говоря - до романа».
Во многих стихотворениях можно увидеть не только внутреннюю речь, но и разные отсылки к мировой литературе (Беньямин, Кьеркегор, Гинзбург, Мандельштам и, наконец, Гуро) составляют фундамент внутреннего мира поэтессы. Не чужда Васякиной и самокритика, она отмечает собственную манеру «интересничать»:
«В каждый текст пыталась ввернуть что-то такое, что как бы говорило: ты, читающий эти строки, не такой особенный, как я».
Наибольший интерес вызывает «Книга Гуро». Эта часть поделена на главки, тщательно пронумерована (хотя и не сказать, чтобы в расстановке глав была какая-то особенная ритмика, симметричность или даже логика) и открывается строками из «Небесных верблюжат»: «Хоронили недотрогу голубые сосны…»
Отсчёт снова начинается с момента смерти Гуро. И здесь можно проследить - нить размышлений тянется от зафиксированного момента, а именно – с фотографии, на которой изображены Матюшин, Малевич, Кручёных. Так или иначе, Васякина обращается к мотиву фиксированной памяти «долгое время на моём столе лежали репродукции её фотографий и рисунков», которая прекрасно резонирует с темой исчезнувшего из альбома «подлеска»: «Я не думала о Гуро около года, пока не обнаружила, что все фотографии, сделанные мной в Музее петербургского авангарда, исчезли из памяти айфона. Снимки её записей, которые я делала в РГАЛИ, тоже исчезли».
Васякина находит пересечения жизни Гуро с собственными мыслями и судьбой. Так, она цитирует запись из дневника писательницы: «Мне уже тридцать четыре года…» и в следующем абзаце проводит параллель с собой, своим возрастом. Она ступает по следам чужих воспоминаний и смотрит на жизнь писательницы, сосредотачиваясь на темах, которыми пронизан весь поэтический сборник, темы утраты, например: «Чего хотела Гуро? <…> Гладить лицо своего мальчика, погибшего брата, своего сына».
Становится ли «Книга Гуро» настоящим портретом? Скорее нет. Это снова текст о самой Васякиной, словно, автофикшн создал какой-то капкан: о ком бы ни писала Васякина, она пишет в гипертрофированном виде о себе. Возможно, узнавая о жизни Гуро, её тяготах в тяжелой болезни, чувствах её родных, Васякина переживает опыт, который помогает ей бороться с внутренними страхами.
Особняком стоит вопрос самооправдания, который периодически выпрыгивает из текста. Это либо писательское жеманство и игра с читателем, либо какая-то странная неуверенность. Многое поэтесса объясняет и разжевывает в предисловии: «До того как я начала писать прозу, я была одержима идеей, что стихотворение не имеет права на ошибку и обязано прибавлять смысл к тому, что мной уже было написано. Если мне казалось, что текст, который я задумала, ничем не обогащал мои предыдущие, я не позволяла себе писать»[1]. И вот, Васякина разрешила себе больше свободы в поэтическом тексте, но что дальше? Это рефлексивная поэзия, которая постепенно уплотняется и превращается в ритмизованную прозу. Таков, по крайней мере, замысел. Но во многом стихи сборника напоминают разновидность автоматического письма. Эта книга по большому счёту наблюдение за собой в последние четыре года: «Если вы будете читать стихотворения с первого до последнего, вы заметите, как менялось письмо. Убедитесь, что эта трансформация не была линейной. Поэтому в этой книге вы увидите рытвины, петли и тупики».
Эти размышления наталкивают на мысль: если раньше творческая кривая двигалась по теме травмы, то сейчас сборник показывает, что, возможно, началось движение в сторону исцеления. Разве не может быть, что текст становится самопомощью для писателя? И стоит ли ради этого выпускать целостный сборник или же это должно оставаться в писательской мастерской? Заслужила ли Васякина право на субъективность и нужно ли его заслуживать?
С одной стороны сборник раздражает своей акцентированной субъективностью. В «я» как центре отсчёта вселенной, просматривается нечто высокомерное. В постоянных метаниях между «ты, читающий эти строки, не такой особенный, как я» и желанием оправдать свою манеру письма – есть что-то противоречивое, нечестное.
В то же время, как экспериментальный поэтический сборник, ищущий новые методы компоновки текста и самопомощи – вполне допустимо, особенно если будет свой читатель, способный это оценить. Впрочем, есть ощущение, что тени подлеска выписывались больше для своего творческого мира с целью сберечь его почву.
[1] Выделение моё (О.Ш.)
Её история как поэта начинается со сборника стихов под названием «Женская проза» (2016), продолжается в откровенном сборнике-интервью «Ветер ярости» (2019) и на данный момент завершается книгой стихов «О чём я думаю» (2024). Тексты этого сборника появлялись в промежутках между «письмом в строчку» примерно с 2020 по 2024 гг.
В предисловии много говорится об ускользающих впечатлениях, например, в истории о «Подлеске» — картине, которую Васякина видела однажды и не смогла найти снова. Этот эпизод становится основной метафорой всей книги: память человека изменчива и подвижна. Автор действует по гумилёвскому принципу плюшкинского хозяйства: собирает и сохраняет даже едва уловимые впечатления и детали, впуская в свою поэтику больше свободы и случайности. Также в предисловии отмечается нелинейность изменения поэтического текста – Васякина предупреждает, что в книге будут «рытвины, петли и тупики». Хотя на самом деле сборник выстроен грамотно.
«О чём я думаю» условно можно поделить на две части. Первая состоит из верлибров, стремящихся к сюжетности и фиксации момента. Они саморефлексивны и напоминают психотерапевтическое письмо. Вторая - пронумерованные заметки о судьбе Е. Гуро: «Я не хотела о ней писать, но снова вернулась к своим материалам. Их бы хватило на книгу. Но какая неуместная форма - книга». Анализируя её жизнь, поэтесса ищет точки соприкосновения со своим внутренним миром. Это попытка нащупать комфортную форму самоисследования.
Во всех текстах проступает «я» лирической героини, которую трудно отделить от самой Васякиной, а так же мотив страха смерти и утраты, неотвратимо следующие за всем её творчеством. Текст при этом ныряет по разным географическим и временным точкам от Казани и Карелии до Российской Империи, где жила Гуро, и даже головы самой Васякиной (или её лирической героини), как ещё одного пространства для путешествия.
Верлибры первой части делают ставку на воспоминания, ассоциации, грёзы и мысли. Так, например, «Казанский текст» начинается с зафиксированного воспоминания. Толчком к его развитию становится видео, снятое на первый айфон, а дальше оно растягивается и дополняется портретами родственников, деталями и комментариями. Немаловажен портрет матери, о судьбе которой мы знаем по роману «Рана»:
«Книга закрылась
и внезапно открылась на самой первой странице.
Под заголовком ЛОГОС серый лист разорвала цветная фотография
из первых туристических фотоавтоматов нулевых,
в объектив еле вмещаются два широких татарских лица –
моё и моей матери»
После воспоминания, которое оживает на этой последней совместной фотографии, появляется интересный вопрос о матери, который на самом деле будто важнее, чем утверждение, стоящее в заголовке всего сборника: «О чём она думала в душной крымской фотобудке?»
Во «Второй штормовой» этот мотив отыгрывается привязкой к времени утраты «Накануне годовщины твоей смерти» и становится воспоминанием о близком человеке:
«Мы были на море дважды.
Ты говорила с прибрежными псами, как если бы они были твои одноклассники или братья.
Ты говорила со всеми, как если бы они были твои братья.
Ты говорила со мной, как с братом
Но я не была тебе братом».
В парном стихотворении «Время тяжелее печали» больше внутреннего размышления о течении времени и поэзии:
«пишу в уме
лежа с открытым ртом в стоматологическом кресле
и боюсь забыть всё что приходит на ум».
В главе «О чём я думаю» происходит скачок в прозаическое и текст уже «пишется в строчку», где разбивается на небольшие абзацы. Пожалуй, эти размышления сложно назвать стихотворениями или ритмизованной прозой, это гораздо ближе по характеру и содержанию к розановской эссеистике и психотерапевтическому письму.
«Думаю о раке груди. Ещё не проснувшись, пальцем прохожу вокруг соска и жду, что где-то там, внутри волокнистой железы, есть смертоносные сгустки»;
«Думаю об онкофобии. Непрерывно испытываю страх. Только тяжелая атлетика избавляет от страха»;
«Думаю о чувствах. Сегодня ничего не чувствовать неприлично».
В этой части для Васякиной особенно важна форма, в которой она могла бы зафиксировать внутреннюю речь:
«Ещё кто-то скажет, что этот текст не поэзия <…> Но есть тупая привычка оправдываться. Показывать, как устроена графика, как работает монтаж, и объяснять, что ритмическую систему можно изменять до бесконечности. Грубо говоря - до романа».
Во многих стихотворениях можно увидеть не только внутреннюю речь, но и разные отсылки к мировой литературе (Беньямин, Кьеркегор, Гинзбург, Мандельштам и, наконец, Гуро) составляют фундамент внутреннего мира поэтессы. Не чужда Васякиной и самокритика, она отмечает собственную манеру «интересничать»:
«В каждый текст пыталась ввернуть что-то такое, что как бы говорило: ты, читающий эти строки, не такой особенный, как я».
Наибольший интерес вызывает «Книга Гуро». Эта часть поделена на главки, тщательно пронумерована (хотя и не сказать, чтобы в расстановке глав была какая-то особенная ритмика, симметричность или даже логика) и открывается строками из «Небесных верблюжат»: «Хоронили недотрогу голубые сосны…»
Отсчёт снова начинается с момента смерти Гуро. И здесь можно проследить - нить размышлений тянется от зафиксированного момента, а именно – с фотографии, на которой изображены Матюшин, Малевич, Кручёных. Так или иначе, Васякина обращается к мотиву фиксированной памяти «долгое время на моём столе лежали репродукции её фотографий и рисунков», которая прекрасно резонирует с темой исчезнувшего из альбома «подлеска»: «Я не думала о Гуро около года, пока не обнаружила, что все фотографии, сделанные мной в Музее петербургского авангарда, исчезли из памяти айфона. Снимки её записей, которые я делала в РГАЛИ, тоже исчезли».
Васякина находит пересечения жизни Гуро с собственными мыслями и судьбой. Так, она цитирует запись из дневника писательницы: «Мне уже тридцать четыре года…» и в следующем абзаце проводит параллель с собой, своим возрастом. Она ступает по следам чужих воспоминаний и смотрит на жизнь писательницы, сосредотачиваясь на темах, которыми пронизан весь поэтический сборник, темы утраты, например: «Чего хотела Гуро? <…> Гладить лицо своего мальчика, погибшего брата, своего сына».
Становится ли «Книга Гуро» настоящим портретом? Скорее нет. Это снова текст о самой Васякиной, словно, автофикшн создал какой-то капкан: о ком бы ни писала Васякина, она пишет в гипертрофированном виде о себе. Возможно, узнавая о жизни Гуро, её тяготах в тяжелой болезни, чувствах её родных, Васякина переживает опыт, который помогает ей бороться с внутренними страхами.
Особняком стоит вопрос самооправдания, который периодически выпрыгивает из текста. Это либо писательское жеманство и игра с читателем, либо какая-то странная неуверенность. Многое поэтесса объясняет и разжевывает в предисловии: «До того как я начала писать прозу, я была одержима идеей, что стихотворение не имеет права на ошибку и обязано прибавлять смысл к тому, что мной уже было написано. Если мне казалось, что текст, который я задумала, ничем не обогащал мои предыдущие, я не позволяла себе писать»[1]. И вот, Васякина разрешила себе больше свободы в поэтическом тексте, но что дальше? Это рефлексивная поэзия, которая постепенно уплотняется и превращается в ритмизованную прозу. Таков, по крайней мере, замысел. Но во многом стихи сборника напоминают разновидность автоматического письма. Эта книга по большому счёту наблюдение за собой в последние четыре года: «Если вы будете читать стихотворения с первого до последнего, вы заметите, как менялось письмо. Убедитесь, что эта трансформация не была линейной. Поэтому в этой книге вы увидите рытвины, петли и тупики».
Эти размышления наталкивают на мысль: если раньше творческая кривая двигалась по теме травмы, то сейчас сборник показывает, что, возможно, началось движение в сторону исцеления. Разве не может быть, что текст становится самопомощью для писателя? И стоит ли ради этого выпускать целостный сборник или же это должно оставаться в писательской мастерской? Заслужила ли Васякина право на субъективность и нужно ли его заслуживать?
С одной стороны сборник раздражает своей акцентированной субъективностью. В «я» как центре отсчёта вселенной, просматривается нечто высокомерное. В постоянных метаниях между «ты, читающий эти строки, не такой особенный, как я» и желанием оправдать свою манеру письма – есть что-то противоречивое, нечестное.
В то же время, как экспериментальный поэтический сборник, ищущий новые методы компоновки текста и самопомощи – вполне допустимо, особенно если будет свой читатель, способный это оценить. Впрочем, есть ощущение, что тени подлеска выписывались больше для своего творческого мира с целью сберечь его почву.
[1] Выделение моё (О.Ш.)



