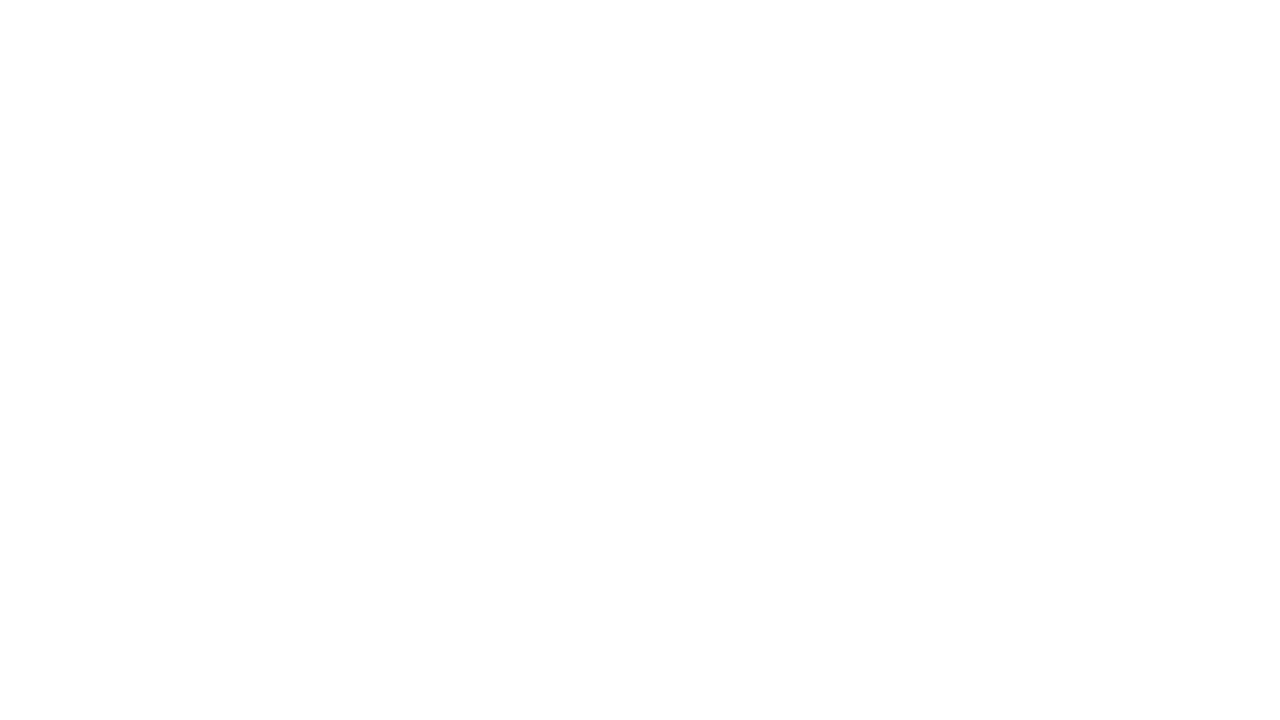
Максим Симбирев - За день
Максим Симбирев – прозаик, родился и вырос в Саратове. Окончил СГУ им. Чернышевского (институт филологии и журналистики). Участник Мастерской Захара Прилепина, Мастерских АСПИР и семинаров-совещаний «Мы выросли в России». Публиковался в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Нева», «Нижний Новгород». Победитель международного конкурса короткого рассказа «Верлибр».
От полной темноты спасает луна и тусклые огоньки в «Колизее». Мы идем в бар на окраине, где продают без паспорта. Я твержу, что дорога через Колизей – плохая затея. Спартак отстраненно напевает свою песню: «Я лишь хотел, чтобы ты улыбнулась, на скамейке шепотом вдыхали юность». Лева подталкивает меня и в шутку говорит, что в его новой шапке с помпоном никто не тронет.
Колизей – дом, похожий на – бублик с плесенью. Огромный двор, где дерутся чаще, чем дрались гладиаторы. Где нам никогда не рады. То мы фрики, то хипари, то еще кто-нибудь.
Возле арки висит табличка: «Пушкина десять». В центре двора почему-то стоит Гоголь с отколовшимся носом. Каждый раз, когда мы проходим мимо бюста, Лева ерошит уложенное каре Спартака и говорит: «Ты чи Бузова? Тычибузова?». Как-то ночью, еще во времена карантина, под фамилией Гоголя появились две фразы: «Нет, блин, Спартак» и «Лев не лев, а телка крашеная».
Возле Гоголя на лавочках почти всегда пьют мужики. Они и в баре частые гости, но только в первую неделю, когда получают пенсию или ветеранские. Деньги быстро пропиваются, и в остальные дни мужики покупают в ларьке. В ларьке дешевле на сорок рублей.
Мы почти минуем улицу без приключений, но я вижу, как за нами увязывается алкаш. Мне не по себе. Он как собака чувствует страх. Похож на спичку. Не худой, нет. Его лицо горит в темноте. То ли от мороза, то ли от алкоголя. Он еле идет, шатается.
– Э-э, ребятишь, есть дымить?
– Спортсмены, – врет Лева. – С Днем защитника!
– За базар ответишь? Я, мля, мастер спорта.
Он воняет, будто вылез из мусорки. Я замечаю, как его пьяные друзья братаются на лавочке. Издалека может показаться и нечто другое.
– По литроболу мастер? – язвит Лева.
– Ты че, белобрысый, попутал? – мужик бьет по помпону Левиной шапки. – Шапка у тя классная, фирма́. Дай погонять!
– Да шо вы робите, дядя, я бы вам подарил ее, оскорблять не надо! – начинает тараторить Лева на своем. Он всегда на нем говорит, когда нервничает.
Алкаш улыбается и издает звуки «гхыхыхы». Так смеются дикари в мультиках. Лева намеренно хрустит шеей.
– Камон, ну че ты к нам пристал? – встревает Спар. Я единственный почему-то молчу. Мне тяжело дышать.
Мужик выбрасывает руку в воздух и стягивает с Левы шапку. Заодно задевает его по лицу. Сука. Пьяный мастер. Лева морщится. Мужик шатается и уходит.
–Да шо такэ! – кричит Лева в нашу сторону. Его примятая прическа напоминает маленькую желтую каску.
Мы неуверенно идем в сторону мужика. Алкаш разворачивается и безумно мотает головой. Вместе с ней как-то безумно трясется и помпон шапки.
– Еще шаг и..!
– Тихо, п-пацаны, – полушепотом говорю я, – мы бы его в-вывезли, а если он заяву напишет?
– А если мы накатаем! – кричит Спар. Хорошо, что мужик не услышал.
– Мусорнуться хочешь? – раздраженно спрашивает Лева. – Пойдем уже.
Спар медленно идет за Левой. У меня немеют пальцы. Лева с мокрыми глазами смотрит на нас. Так смотрят на предателей. Ноги не идут. Мужик уже показывает друзьям шапку. Лева бежит на них. Один. С криками: «С**а! Думаешь, школяров задел, крутой типа?» Мужики двигаются в нашу сторону, издалека они похожи на зомби.
Лева пробегает еще пару метров, поскальзывается на мокром снегу и падает в растаявшую грязь.
– Там тебе и место! – кричит какая-то женщина с окна. – Разорался тут! Что ты пришел сюда? Убирайся с нашего двора!
Спар поднимает Леву, Лева вырывается, как какой-то бешеный хорек. У меня кружится голова. Женщина не унимается и продолжает орать.
Лева с размаху кидает в окно снежок с грязью.
Мужики еще далеко, наверное, они ждут, пока мы убежим. Я очень хочу убежать. Спар орет на Леву и показывает на меня. Я задыхаюсь. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Один, два. Один. Они хотят меня убить. Превратить в порванный пакет. Я не брат я не брат я не брат. Я живой. Да, немые руки, да, холодею. Но я вижу все. Вот, на снегу кровь. Кровь вытекает, как вода из порезанного пакета. Вот родная паутинка, в ней коробочка, белая ленточка на лбу и отпечаток тетиных губ. Какой позор, какой позор, какой позор. Какая паутинка? Какая коробочка? Поцелуй брата! Нет. Брат не хочет, чтобы я его целовал! Брат говорил мне, мужчина должен быть сильным.
Толпа мужиков приближается. Лева берет последние зимние ледышки и обстреливает их. Спар уводит меня с Колизея. Я сопротивляюсь всем зажатым телом. Но почти сразу прихожу в себя. Покорно перебираю ногами. Бегу, как могу. Спар кричит Леве, что-то вроде: «ада ходить, автра им ана, дем с итами». Не могу разобрать. Пацаны смеются надо мной, точно надо мной. Мужики тоже насмехаются надо мной – двумерные алкаши!
Мы убегаем через арку, за нами Лева.
Лева долго ищет чистый снег. Лева с нами не разговаривает. Собаки мечутся вокруг нас и, наверное, думают, что мы свои. Я сижу на холодном бордюре и жадно втягиваю воздух. Где-то в горле застрял кирпич. Спар выглядит размякшим. И даже не поет, как обычно.
Лева моет руки в снегу. Лева достает пачку, берем по одной. Не могу прикурить из-за трясущихся рук. Пацаны нервно и быстро курят. Мне тяжело глубоко вдыхать дым. Лева разъяренно пинает остатки снега, тем самым создает макеты каких-то гор. Топчет, и опять создает. Я чувствую напряжение, исходящее от него, словно сейчас, зимой, пойдет ливень.
– Как терпилы последние.
– После файта кулаками не машут, – отвечает Леве Спар.
– Да какого файта?! Нас опять унизили. Вдарить бы ево!
– Да чел, не сейчас. Ну не сейчас! Проживешь без шапки. Ты о Юрце подумай, он же в баре копыта откинет, – Спар показывает на меня. Я мочусь на морозе, не могу терпеть.
– Дело не в шапке, – говорит Лева.
Я сам предлагаю пойти в бар в надежде на то, что пиво меня расслабит.
Рядом с баром магазин «Свежее мясо», поэтому у бара всегда воняет тухлятиной. На крыльце без курток курят мужики. Один из них, бородатый, крутит четки, второй кашляет, словно внутри него болото мокроты.
Обсуждают признание ЛНР И ДНР. Здороваемся. Поздравляем с Днем защитника. На нас презрительно смотрят. И не поздравляют в ответ. Вижу, как Лева сжимает кулак. Я непроизвольно отгрызаю мертвую кожу на губе.
Здороваемся с Максом – владельцем бара. Поздравляем, он поздравляет нас и поочередно хлопает по плечу. От него зимой и летом воняет потом. Макс носит черную майку с Юрием Никулиным и надписью: «Алкоголь вредный, но, сука, веселый!» А еще у Макса гвардейские усы.
– Так, зумерки́, увижу телефон – будете пить сок. Мы тут общаемся, а не по кнопкам давим, – говорит главное правило Макс.
Как-то душновато мне. Свободные диванчики в углу. Спар садится напротив нас с Левой. Играет «Марш троицы». Внутри всего несколько человек, при этом бар выглядит наполовину забитым. Еще бы, это попросту однушка на первом этаже.
– Максон! Нальешь эля? – просит Спартак.
– Иди в жопу, Мясо! Жигуля пей, – кричит Макс из-за стойки.
– Меня малышка бросила, ну налей! – вкидывает Спар.
– Потому что дрищ, – говорит Макс и сам смеется. – Кожа да кости, еще и в песнях мямлишь. Выпрямись, а то как собака сутулая. Пофиг на твою, сейчас такая дама придет, ты офигеешь!
– Угараешь, Максон, к тебе девки не ходят, – удивляется Лева. Он ковыряет заусенец под столом.
– Придет дама, будет драма, – рифмует Спар.
Любуюсь баром. Вокруг все такое разрозненное. Как в провинциальном музее: на одной стене плакат из фильма «Чапаев», на другой картина Шишкина. Под «Чапаевым» мужик, похожий на крысу, жадно грызет сушеную рыбу на газетке. Наверное, он и нас так может сгрызть.
Макс приходит с тремя кружками жидкого золота. Лева выпивает половину залпом. Я делаю пару глотков, и почти сразу проходит духота.
– Толстой, а ты че чуб отрастил? Под Коул Спроуса косишь?
Макс называет меня Толстым не потому что думает, что я хорошо пишу, нет, я просто большой. Жирный. Пудж. Как угодно. Все равно не обижаюсь. Другое дело прыщи, их не могу себе простить. И слабость нашу не могу простить. И смерть брата не могу простить. Брат был большим, еще больше меня, с румяными щеками, как он мог умереть? Как я это допустил?
– С-сериал крутой.
– А ты, Максон, под моржа косишь? – впрягается за меня Спар и получает отцовский подзатыльник. Лева ухмыляется.
– Говно американское. Сюжет параша, герои картонка. А ты смотрел, потому что другие смотрели. Вот и все.
– И что, М-мухтар круче!?
– Бриллиантовая рука! Смотрел? Утомленные солнцем! Смотрел? Брата! Смотрел?
Отмахиваюсь.
– Бестолочь. Нетфликс последние мозги высосал.
Лева зевает, а затем делает вид, что спит.
Макс ругает как-то по-доброму. Смотрю по сторонам: за соседним столом сидит маленький и круглый человечек с оттопыренными ушами. Его друг спит на диванчике. У друга звонит телефон под песню «Вставай, страна огромная!». И он вскакивает, правда, потом деловито разваливается на стуле и орет в трубку на весь бар.
– А что Россия может п-предложить?
– Ты упоролся что ли? Почитай Михалыча, тебе полезно. У него Карамазовы твой Нетфликс вот так вот! – Макс бьет ладонью по кулаку. – У меня, короче, страх дороги, и я все равно с друзьями в Крым потащился, на десятке. Если бы не Федор Михалыч, я бы в ней и умер. Тесно, жарит, духота. Последняя страница и там: «А правда, Алешенька, что мы в рай попадем? Правда дети, все воскреснем и попадем!», и мы в этот момент чуть в фуру не влетели. Я как заново родился!
– Чуть не хапнули на Пушкина, – затыкает Макса Лева.
– На бокс пора. Мне в твоем возрасте за три месяца удар поставили. Смотри!
Макс показывает нам, как нужно бить двоечку. Это выглядит нелепо, потому что вместо бицепса смешно трясется жир.
В баре на нас могут коситься, но не более. Нас не трогают, наверное, потому, что Макс к нам хорошо относится. У нас часто интересуются: «А че, щас модно с длинными ходить? А в девяностые другая мода была, все лысые!»Было и такое: какой-то зэк рассказывал про то, как девять тысяч лет назад создавал Петербург. Потом он резко начал недоумевать из-за моего шоппера: «Че эт такое, давай, если я туда куртку не запихну, я те по роже дам?». Макс выгонял его пинками.
Макс уходит за барную стойку. Допиваю первую кружку. Пацаны крючатся от старых песен.
В бар модельной походкой заходит женщина. Все ей аплодируют и ликуют. Она машет двумя руками, как на детском утреннике. Просит Макса включить Rammstein. Вот это да! Начинает танцевать чуть ли не хип-хоп. Мужики поднимают тост: «За красивые сиськи и за узенькие письки». Начинают танцевать вокруг нее и толкать друг друга плечами.
Мы смеемся. Спар двигает головой, словно голубь. Женщина зачем-то идет к нам, поправляя прическу. Не может отдышаться после танца. Здоровается с нами. Поздравляет. Щурится и добавляет:
– Ой, какие вы молодые. Я Танечка. Татьяна. Борисовна. Но для вас про-о-сто Танечка.
– И горячие, – вставляет Спар.
– А ты мне нравишься, – нежно говорит Танечка, но голос все равно какой-то…как у Пугачевой. – Всем пива за этот столик! – кричит она Максу.
Мы говорим спасибо. Лева воодушевленно потирает руки. Танечка садится к Спару и немного теснит, ерзая пятой точкой. Прижимает его голову к своей груди. Спар смущается, но затем обнимает в ответ. К нам подходят двое пьяных мужиков.
– Танюш, давай к нам!
– С вами я каждый день сижу, а тут молодая кровь пришла.
Танечка отправляет им воздушный поцелуй, замечаю массивные перстни на ее пальцах. Мужики вздыхают и уходят. Мне хочется крикнуть им: «Ха-а-а, съели, сегодня мы тут львы».
Танечка зачем-то спрашивает нас про школу и про то, кем мы хотим стать.
– Да хрен его знает, – говорит Спар. – У России три пути: рейвы водка и IT, – поет он.
– Чур я в IT, – внезапно говорит Лева.
Мы никогда не говорим про школу, что-то типа дурного тона считается. Тем более Спар учится в ПТУ, да и то кое-как, на грани отчисления.
Танечка из сумочки достает зеркальце и губнушку, подкрашивает губки, любуется собой.
– Правильно, с такими, простите меня, мальчики, fuckable face, туда нельзя. А я, мальчики, не работаю, я же леди. Зачем мне работать? Нет, ну а как же, раньше работала. В Германии. Психологом.
– Спар у нас тоже в Берлине жил. Дня два, пока дед со шпателем фотообои не отодрал. С криками: «Предатель! Засранец маленький! У тебя прадед в Бресте убит!» – пародирует Лева.
Спар держится за голову и ковыряется в волосах.
– Дед у меня ваще крейзи. У него на хате вместо мишени висят фотки Горбачева, Ельцина и там еще чувака, этот, пирамиды, короче, придумал.
Второе пиво идет почему-то медленнее первого. Спар говорит про Мавроди. Мы с пацанами никогда не были за границей, разве что Лева в детстве отдыхал в Крыму. Но как-то так получилось, что у всех были фотообои – у меня Париж, у Левы – Нью-Йорк, а Спар хотел Берлин.
– А п-почему в-вернулись? – спрашиваю я. – Это же Европа!
– Так и вали в свою гейропу! – кричит один из мужиков в рваных спортивках. В телевизоре показывают клип «Про красивую жизнь». – Танюш, пойдем, че ты с ними возишься?
Танечка делает вид, что не замечает его. Мы быстро набрасываем Танечке вопросы про мюнхенскую «Баварию» и немецкое пиво, сложно ли переехать, и сколько стоит квартира. Таня качает головой и затыкает нас:
– Мальчики, вы там никому не нужны. Я-то нужна была, потому что всем помогала. Я любого на ноги ставила. Ну-у-у, почти. У кого была резинка. И больше тридцати евро. Да и муж-то меня любил.
– А он, типа, ничего не прочухал? – интересуется Спар. Вижу, как Танечка кладет ему руку на бедро. Спар приоткрывает рот.
– Вы чего, мальчики?! Я никогда не обманываю. Спросил бы прямо – ответила. Интересные вы такие. Я мужа люблю, но у него в подвале форма эсэсовца, как такое простишь? Вот и помогала другим. А еще у него прибор так себе. Как сорок стукнуло, так вообще перестал.
– Что перестал? – спрашивает Лева.
– Ну как что?
– Да он девственник! – внезапно вскрикивает Спар. Танечка шевелит рукой под столом.
Лева напрягает брови и с тяжестью смотрит на Спара. На месте оторванного заусенца сочится кровь.
– Так мы исправим! У меня подружки есть – красавицы! Все без парней. Ты юноша солидный. Сейчас тебе выберем! Готов поехать? – спрашивает она Леву.
Танечка убирает руку, и Спар долго выдыхает звук «ф». Лева мнется и говорит что-то быстрое и несвязанное.
– Не пугайся! Они у меня послушные. Я им скажу, они все сделают. За копеечку, но тебе бесплатно! С защитой. Ну конечно, с защитой!
– А есть фото на телефони? Шо, вы дивиется? Я без фото не пойду.
– Я тебе все покажу, пойдем, такси вызову, и все покажу! – говорит Танечка.
– К-как же пиво п-попить? Т-ты же с-с-сам хотел.
– Да в жопу вас, – говорит Лева, надевает куртку и выходит с Танечкой. Спар пожимает плечами, затем идет в туалет.
– Ждите меня, мальчики, я сейчас! – кричит Танечка.
Через окно замечаю, как Лева подкуривает ей сигарету.Танечка что-то показывает ему в телефоне. Вижу, как Лева достает еще одну. Спар возвращается раньше Танечки. По дороге она ему подмигивает.
– Подружка у меня опытная. По секрету: она вот бывшему с арабами изменяла. Все хорошо будет с вашим мальчиком, вернем в целости и сохранности, как говорится. А тебя я себе заберу! Ты же готов со мной? – обращается она к Спару.
Спар быстро кивает, но затем говорит, что расстался с девушкой и иронично кладет руку на сердце. Танечка делает щенячье лицо, но получается какой-то бульдог. Спар предлагает выпить еще.
– Да ты представь, как я могу!
– Представля-яю! – воодушевленно говорит Спар. Я вижу в нем какое-то животное, не могу понять какое.
Танечка приказывает Максу, чтобы он принес ей банан. Макс долго объясняет, что в баре бананы не растут.
– Смотри, – обращается она уже к Спару, – даже грудь стоячая!
Спар сидит рядом с Танечкой, словно кот у аквариума.
– Своя? – спрашивает Спар.
– Обижаешь! Как у внучки!
Спар натягивает улыбку и щурит глаза. Танечка смеется, и я тоже начинаю смеяться. Предлагает нам выпить залпом, а потом пойти покурить, хотя только что курила.
Мы чокаемся. Мы пьем. Мы выходим. На улице почему-то слышно, как летят самолеты. Не понимаю, почему. Аэропорт у нас находится за городом. Танечка угощает нас тонким винстоном. Темно. Туманно и свежо. Ничуть не холодно. Я смотрю на часы – два ночи. Три пропущенных от мамы. Первый раз мы остаемся после двенадцати.
Самолеты не смолкают. Дым от трех сигарет из-за влажности создает большое облако. Падает снег. Я смотрю на пьяного Спара. Он облокачивается на перила, размахивает сигаретой и рассказывает Танечке про бывшую:
– Она, короче, в моменте со мной счастлива. Но как только я ухожу, домой, ее, типа, косит как-то. Сама не своя.
– Б-будто бы день без дерьма?
– Так-так, – удивляется Таня.
– Отсылка к его песне, локальный п-прикол, – громко говорю я.
Танечка умоляет Спара спеть. Спар двумя руками делает крест и затем показывает на небо. Танечка продолжает уговаривать. Я напоминаю ему, что это шанс спеть кому-то еще, кроме нас с Левой, хотя бы попытаться.
Спар поет во весь голос. В противовес гулу самолетов. И дрыгает руками, словно снимается в клипе.
– Знаешь, мне кажется, что я не доживу до утра, детка, я больше не дышу, мне пора. Отправлюсь в небеса. Такой же никчемный как все, но совесть чиста…
Похоже, мы кого-то будим с верхнего этажа. Над нами ворчит какой-то мужик. А, возможно, и не мы. Возможно, самолеты будят. Уж слишком долго они не смолкают. Танечка в восторге, она хлопает в ладоши.
Из бара выходят мужики. Завтра, уже сегодня, им опять на работу, а вечером опять сюда.
– Так вот зачем те грива! – говорят они Спару, – ты с нею трындишь лучше, наверное, ха-ха. Ты, так-то, нормально трындидшь, мы услышали. Все мужики, давайте, с праздником, – они поздравляют нас и пожимают руку. Я замираю, пока они растворяются в тумане.
Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два. Нет, не могу. Такая шершавая толстая рука убила моего брата. Такая шершавая толстая рука не спасла его на операционном столе. Такая шершавая толстая рука копала ему могилу и забивала гвозди в гроб. Мир такой изменчивый. Ты просыпаешься утром. Все хорошо. Ты открываешь телефон и читаешь сообщение от мамы: «Брата на Пушкина зарезали, он в больнице без сознания». Все плохо. В суде ты видишь убийцу. Ты сам хочешь его убить, но боишься.
– Тнша, ловь аша! авай!
Один, два, три, четыре, пять. Все нас ненавидят. Ненавижу все. Люди причиняют боль друг другу. Танечка машет рукой и отправляет воздушный поцелуй. Какая у нее старая рука. Скоро ее съедят опарыши. Я совсем не понимаю этих мужиков. Это не первый день. Да, мы другие. Мы правда другие! Зачем нас задевать? Мы поколение. Зачем нас задевают? Я не хочу, чтобы так было. Все это было. Я не понимаю себя.
Спар держит меня за плечо. Говорю, что со мной все нормально. Иду в туалет. В баре никого нет, только Макс.
Нет, ну все-таки этих мужиков можно понять. Они прошли такие ужасы, естественно, им нужно забываться. Это наше поколение может не только выпить, но и сходить к психологу, а они, как говорит Таня, держат все в себе.
Возвращаюсь.
– Пустырничка нужно попить, пустырничка! – говорит Танечка.– Я тебе скажу сейчас, ты можешь меня не слушать: в церковь сходи, исповедуйся. Серьезно говорю. Все пройдет, я обещаю. Можешь не верить, я в твоем возрасте тоже не верила, а потом все поняла. Все равно сходи!
Я судорожно киваю.
– Запомни: любовь – это близость, – переключается Танечка на Спара. – Ты без отца рос?
– С мамой и бабой. Еще, типа, дед был, но он так, только обои мне содрал. Че за вопросы? Ну, без бати, да, я похож на девку?!
– Семью хочешь! Бабка то, наверное, все детство пилила мамку, а мамка тебя, а ты бабку.
– Да не, хочу с батей в футбик поиграть, на рыбалку там сгонять, в деревеньку, а батя в космос улетел, походу.
– Полстраны так живет. А раньше другое ценилось! Была семья. Отец учил сына. Было мужество. Сейчас все неполные.
– Неполные… я че, неполноценный? И вот че, я сильный? Нифига. Храбрый? Неа. Успешный? Тоже нифига. Надежный? Ну, типа того. Еще и бати нет. Неправильный я какой-то. И че, я типа, не мужик!?
– Мужчина должен быть собой, говорит Таня. – Это главное. Не волнуйся о том, что скажут другие.
– А меня это и не парит. Должен-должен! Да мы ваще всем должны! Готовить, типа не должен, не по-мужски. Следить за собой, тоже не круто? Мы че, звери? Надо, походу, махаться каждый день.
– Ты лучше невесту хорошую найди, семью создай!
– Нашел уже одну, а у нее откуда-то шмотки новые и цацки каждую неделю, – Спар делает паузу. – Не, ну камон, я понимаю, что есть переборы – когда чувак на каблуках и в юбке, ну и нафига? А я что, типа, с сережкой и сразу педик? Одна деталь, и я педик! Убрать – я нормальный. А с сережкой – педик.
– Спар, ну м-м-маскулиность диктует эпоха, раньше мужики в чулках ходили, – вмешиваюсь я.
Таня берет нас за руки и сильно сжимает, затем опускается на колени, но мы ее быстро поднимаем. Что это было, я не понимаю. Она пытается еще раз встать на колени, и мы опять ее поднимаем.
– Настоящий мужчина – не насилие. Мужчина – про поступки, – говорит Танечка, словно сейчас ничего не происходило. – Скажи, я падать буду, поймаешь? – обращается она ко мне. Я ничего не успеваю ответить, как Танечка пытается упасть, и я ее рефлекторно ловлю.
– Вот! Мужчина! Все! Вы оба мужчины, клянусь.
– Кентов унижают, меня унижают. Я мужик или телка? Нет, скажи, Юр, мы как телки!
– П-п-ойдем в бар. Хочу п-посидеть.
Я вспомнил историю, как в садике всю нашу группу терроризировал один мальчик Никита Бичурин. Ходил как робот, затем врезался и рубил нас руками. Это продолжалось больше года, и тогда мы со Спаром объединились, зажали его в угол и наваляли ему как следует. Никита плакал, а потом и вовсе пожаловался маме. Нас ругали, но нам не было стыдно.
А сейчас мы как будто боимся получить. А ведь что боятся, если позор страшнее боли?
Макс переключает канал. В телевизоре показывают повтор с патриотического концерта. Мальчик-курсант поет «Катюшу». У меня бегут мурашки оттого, как отважно, красиво и серьезно он поет.
«Выыхоодиила на берег Катююша, нааа высоокий берег на крутой».
Мы все невольно подпеваем. Танечка в слезах уходит вытирать тушь.
– Вот б-бы ссейчас Коня спеть! – кричу я.
Спар толкает меня в плечо и показывает на дверь. Я вижу пьяного мужика в левиной шапке. Те же бычьи глаза, та же грязная куртка. Лицо у него в крови. Он вламывается в бар и падает по центру. Нас не замечает. Встает. Его заносит к стойке, еле удерживается на ногах.
– Я его убью, – говорит мне Спар.
– Командир, налей пивка, – просит алкаш Макса. Сносит кружки с барной стойки, они падают возле Макса.
Макс орет, что только купил новую посуду. Спар молча идет на алкаша и хрустит костяшками.
В бар заходят трое мужиков, одетые как братки. И тоже идут на алкаша. Один седой и лыбится, у второго пятно на лысине, третий кудрявый и в очках с толстыми линзами.
Спар отходит ближе ко мне и говорит: «Смотри, дедовские мишени». Я про себя проговариваю: Ельцин, Горбачев и Мавроди.
Макс собирает осколки за барной стойкой. Ельцин берет за шкирку алкаша и валит его на пол. Бьет по животу, по голове. Мужик извивается и перекатывается. Закрывает лицо руками. Мне опять тяжело дышать. Только не сейчас.
Один, два, три, четыре. Не бросайте меня. Никому до меня нет дела. Я могу быть сильным или слабым. Могу чувствовать. Могу кричать. Даже плакать могу, имею право. Я не обязан никуда вливаться, не обязан объяснять этот мир, как и не обязан его менять. Один, два, три, четыре. Пять, пять, пять. Я хочу жить так, как живу. И буду жить. И брата помнить буду. Я справляюсь. Да-да-да, пять, пять, пять.
– Убьете же. Давай не тут, – просит Макс.
– Должок за ним.
Макс повторяет просьбу и добавляет, что мужик еще за разбитые стаканы не отдал. Браткам некогда. Они заняты. Они делают фарш из человека.
Мужик ничего не говорит, лишь издает звуки «Аууаа-а-ао». Тяжело и громко дышит. Левина шапка пропитывается кровью. Пол все больше пачкается в красных брызгах. Сейчас убьют человека. На наших глазах убьют человека. Человек больше не закрывает лицо руками. Его лицо втаптывают в пол.
В этот момент я все понимаю.
Я смотрю на Спара. Спар смотрит на меня. Я отталкиваю лысого, и сразу получаю двойку в челюсть. Сука, Стетхем, а не Горбачев. Это не страшно. Это приятно. Голова – не барабан. И сердце тоже. Кружится все. Ставлю блок. Горбачев бьет, а мне не больно. Совсем. Из моей рассеченной губы сочится кровь. Раз – бью с размаху в ответ. Выбиваю палец. Себе. Горбачев бьет еще по корпусу, и я падаю рядом с мужиком. Мужик крючится, словно эмбрион. Моя воспаленная разгоряченная рука охлаждается плиткой на полу. Я чувствую во рту вкус растаявшего мороженного из грязи вперемешку с кровью.
Заденьте меня.
Вижу, как дерется Спар, он дерется лучше меня. Макс достает биту, но Ельцин направляет на него пистолет. Макс поднимает руки. Спар изо всех сил душит тонкими пальцами толстую шею Мавроди и заодно прикрывается его тушей.
Не могу следить за тем, что происходит. Горбачев пинает меня ногами. Мне не больно. Я будто сам подставляюсь под удары. Хочу больше, хочу еще. Так я отыгрываюсь за все небитые годы. За своего брата. Хватаю Горбачева за ногу и опрокидываю на пол.
С каждым движением тяжелее драться. В бар, словно с того света, с криками залетает Лева и начинает душить Ельцина. Ельцин роняет пистолет. Макс сразу поднимает биту и бьет по хребтине Горбачева, тот спадает с меня и корчится рядом с алкашом.
– Aufhoert, – строго говорит Таня. Она выходит словно из ниоткуда, то есть, из туалета. – Aufhoert!
Никто из нас не останавливается. Мы бьем братков, братки бьют нас, пытаемся друг друга задушить. Задеть. Сломать. Уничтожить.
– Я сказала Genug!
Спар в одиночку справляется с Мавроди, а Лева с Ельциным. Мы побеждаем. Горбачев и Мавроди отключаются.
Все замечают Танечку. Оказывается, что братки ее друзья. Танечка говорит с Ельциным, отдает ему деньги за алкаша. Все заканчивается. Вспотевшие Горбачев и Мавроди быстро оживают, и они с Ельциным садятся за стол. Вместе с ними садится Танечка, вызывает алкашу какую-то частную скорую, чтобы не было лишних проблем. Алкаш так и лежит, скрючившись. Встать, видимо, не хочет.
– А ты чего так быстро? – спрашивает Таня Леву.
Лева улыбается.
– Да не мое что-то.
– Эх ты, дрочер… – вздыхает Спар. Он аккуратно снимает с алкаша шапку и отдает Леве, вытирает мне кровь под носом.
Мы с пацанами решаем, что пора домой. Как только мы выходим, Лева кричит:
– Там твоя бывшая! Прикинь!
– Что моя бывшая?
– Подумай!
– Парня нашла?
– Дебил, я к ней приехал. Она была не против.
– Хорош пранковать, – Спар опускает взгляд.
– Я видел, т-тебе Таня п-показывала, ты выбирал, куда поехать, – говорю я.
– Да она вообще других показывала! У нее там целая армия. Я еще удивился, дом твоей, совпадение походу, подъезд-то я не знал какой.
– И че ты, засадил ей? Как настоящая крыса? – спрашивает Спар.
– Я не пацан что ли?
– Ай, красавчик, – говорит Спар и с хлопком жмет ему руку. – Ну, ничего, брат, я тебе на днюху вызову. Или завтра, хочешь?
Левино лицо становится каким-то, не знаю, прямо как на детских фотографиях.
Брат. Два брата.
По-прежнему темно. Всю дорогу под шум самолетов мы обсуждаем, как, оказывается, круто драться, но лучше вообще не драться. И то, что Спару изменяли с арабами. Пацаны замечают, что я почти не заикаюсь.
В Колизее очень тихо. Только самолеты шумят на фоне. И никто больше не может нас задеть.
Колизей – дом, похожий на – бублик с плесенью. Огромный двор, где дерутся чаще, чем дрались гладиаторы. Где нам никогда не рады. То мы фрики, то хипари, то еще кто-нибудь.
Возле арки висит табличка: «Пушкина десять». В центре двора почему-то стоит Гоголь с отколовшимся носом. Каждый раз, когда мы проходим мимо бюста, Лева ерошит уложенное каре Спартака и говорит: «Ты чи Бузова? Тычибузова?». Как-то ночью, еще во времена карантина, под фамилией Гоголя появились две фразы: «Нет, блин, Спартак» и «Лев не лев, а телка крашеная».
Возле Гоголя на лавочках почти всегда пьют мужики. Они и в баре частые гости, но только в первую неделю, когда получают пенсию или ветеранские. Деньги быстро пропиваются, и в остальные дни мужики покупают в ларьке. В ларьке дешевле на сорок рублей.
Мы почти минуем улицу без приключений, но я вижу, как за нами увязывается алкаш. Мне не по себе. Он как собака чувствует страх. Похож на спичку. Не худой, нет. Его лицо горит в темноте. То ли от мороза, то ли от алкоголя. Он еле идет, шатается.
– Э-э, ребятишь, есть дымить?
– Спортсмены, – врет Лева. – С Днем защитника!
– За базар ответишь? Я, мля, мастер спорта.
Он воняет, будто вылез из мусорки. Я замечаю, как его пьяные друзья братаются на лавочке. Издалека может показаться и нечто другое.
– По литроболу мастер? – язвит Лева.
– Ты че, белобрысый, попутал? – мужик бьет по помпону Левиной шапки. – Шапка у тя классная, фирма́. Дай погонять!
– Да шо вы робите, дядя, я бы вам подарил ее, оскорблять не надо! – начинает тараторить Лева на своем. Он всегда на нем говорит, когда нервничает.
Алкаш улыбается и издает звуки «гхыхыхы». Так смеются дикари в мультиках. Лева намеренно хрустит шеей.
– Камон, ну че ты к нам пристал? – встревает Спар. Я единственный почему-то молчу. Мне тяжело дышать.
Мужик выбрасывает руку в воздух и стягивает с Левы шапку. Заодно задевает его по лицу. Сука. Пьяный мастер. Лева морщится. Мужик шатается и уходит.
–Да шо такэ! – кричит Лева в нашу сторону. Его примятая прическа напоминает маленькую желтую каску.
Мы неуверенно идем в сторону мужика. Алкаш разворачивается и безумно мотает головой. Вместе с ней как-то безумно трясется и помпон шапки.
– Еще шаг и..!
– Тихо, п-пацаны, – полушепотом говорю я, – мы бы его в-вывезли, а если он заяву напишет?
– А если мы накатаем! – кричит Спар. Хорошо, что мужик не услышал.
– Мусорнуться хочешь? – раздраженно спрашивает Лева. – Пойдем уже.
Спар медленно идет за Левой. У меня немеют пальцы. Лева с мокрыми глазами смотрит на нас. Так смотрят на предателей. Ноги не идут. Мужик уже показывает друзьям шапку. Лева бежит на них. Один. С криками: «С**а! Думаешь, школяров задел, крутой типа?» Мужики двигаются в нашу сторону, издалека они похожи на зомби.
Лева пробегает еще пару метров, поскальзывается на мокром снегу и падает в растаявшую грязь.
– Там тебе и место! – кричит какая-то женщина с окна. – Разорался тут! Что ты пришел сюда? Убирайся с нашего двора!
Спар поднимает Леву, Лева вырывается, как какой-то бешеный хорек. У меня кружится голова. Женщина не унимается и продолжает орать.
Лева с размаху кидает в окно снежок с грязью.
Мужики еще далеко, наверное, они ждут, пока мы убежим. Я очень хочу убежать. Спар орет на Леву и показывает на меня. Я задыхаюсь. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Один, два. Один. Они хотят меня убить. Превратить в порванный пакет. Я не брат я не брат я не брат. Я живой. Да, немые руки, да, холодею. Но я вижу все. Вот, на снегу кровь. Кровь вытекает, как вода из порезанного пакета. Вот родная паутинка, в ней коробочка, белая ленточка на лбу и отпечаток тетиных губ. Какой позор, какой позор, какой позор. Какая паутинка? Какая коробочка? Поцелуй брата! Нет. Брат не хочет, чтобы я его целовал! Брат говорил мне, мужчина должен быть сильным.
Толпа мужиков приближается. Лева берет последние зимние ледышки и обстреливает их. Спар уводит меня с Колизея. Я сопротивляюсь всем зажатым телом. Но почти сразу прихожу в себя. Покорно перебираю ногами. Бегу, как могу. Спар кричит Леве, что-то вроде: «ада ходить, автра им ана, дем с итами». Не могу разобрать. Пацаны смеются надо мной, точно надо мной. Мужики тоже насмехаются надо мной – двумерные алкаши!
Мы убегаем через арку, за нами Лева.
Лева долго ищет чистый снег. Лева с нами не разговаривает. Собаки мечутся вокруг нас и, наверное, думают, что мы свои. Я сижу на холодном бордюре и жадно втягиваю воздух. Где-то в горле застрял кирпич. Спар выглядит размякшим. И даже не поет, как обычно.
Лева моет руки в снегу. Лева достает пачку, берем по одной. Не могу прикурить из-за трясущихся рук. Пацаны нервно и быстро курят. Мне тяжело глубоко вдыхать дым. Лева разъяренно пинает остатки снега, тем самым создает макеты каких-то гор. Топчет, и опять создает. Я чувствую напряжение, исходящее от него, словно сейчас, зимой, пойдет ливень.
– Как терпилы последние.
– После файта кулаками не машут, – отвечает Леве Спар.
– Да какого файта?! Нас опять унизили. Вдарить бы ево!
– Да чел, не сейчас. Ну не сейчас! Проживешь без шапки. Ты о Юрце подумай, он же в баре копыта откинет, – Спар показывает на меня. Я мочусь на морозе, не могу терпеть.
– Дело не в шапке, – говорит Лева.
Я сам предлагаю пойти в бар в надежде на то, что пиво меня расслабит.
Рядом с баром магазин «Свежее мясо», поэтому у бара всегда воняет тухлятиной. На крыльце без курток курят мужики. Один из них, бородатый, крутит четки, второй кашляет, словно внутри него болото мокроты.
Обсуждают признание ЛНР И ДНР. Здороваемся. Поздравляем с Днем защитника. На нас презрительно смотрят. И не поздравляют в ответ. Вижу, как Лева сжимает кулак. Я непроизвольно отгрызаю мертвую кожу на губе.
Здороваемся с Максом – владельцем бара. Поздравляем, он поздравляет нас и поочередно хлопает по плечу. От него зимой и летом воняет потом. Макс носит черную майку с Юрием Никулиным и надписью: «Алкоголь вредный, но, сука, веселый!» А еще у Макса гвардейские усы.
– Так, зумерки́, увижу телефон – будете пить сок. Мы тут общаемся, а не по кнопкам давим, – говорит главное правило Макс.
Как-то душновато мне. Свободные диванчики в углу. Спар садится напротив нас с Левой. Играет «Марш троицы». Внутри всего несколько человек, при этом бар выглядит наполовину забитым. Еще бы, это попросту однушка на первом этаже.
– Максон! Нальешь эля? – просит Спартак.
– Иди в жопу, Мясо! Жигуля пей, – кричит Макс из-за стойки.
– Меня малышка бросила, ну налей! – вкидывает Спар.
– Потому что дрищ, – говорит Макс и сам смеется. – Кожа да кости, еще и в песнях мямлишь. Выпрямись, а то как собака сутулая. Пофиг на твою, сейчас такая дама придет, ты офигеешь!
– Угараешь, Максон, к тебе девки не ходят, – удивляется Лева. Он ковыряет заусенец под столом.
– Придет дама, будет драма, – рифмует Спар.
Любуюсь баром. Вокруг все такое разрозненное. Как в провинциальном музее: на одной стене плакат из фильма «Чапаев», на другой картина Шишкина. Под «Чапаевым» мужик, похожий на крысу, жадно грызет сушеную рыбу на газетке. Наверное, он и нас так может сгрызть.
Макс приходит с тремя кружками жидкого золота. Лева выпивает половину залпом. Я делаю пару глотков, и почти сразу проходит духота.
– Толстой, а ты че чуб отрастил? Под Коул Спроуса косишь?
Макс называет меня Толстым не потому что думает, что я хорошо пишу, нет, я просто большой. Жирный. Пудж. Как угодно. Все равно не обижаюсь. Другое дело прыщи, их не могу себе простить. И слабость нашу не могу простить. И смерть брата не могу простить. Брат был большим, еще больше меня, с румяными щеками, как он мог умереть? Как я это допустил?
– С-сериал крутой.
– А ты, Максон, под моржа косишь? – впрягается за меня Спар и получает отцовский подзатыльник. Лева ухмыляется.
– Говно американское. Сюжет параша, герои картонка. А ты смотрел, потому что другие смотрели. Вот и все.
– И что, М-мухтар круче!?
– Бриллиантовая рука! Смотрел? Утомленные солнцем! Смотрел? Брата! Смотрел?
Отмахиваюсь.
– Бестолочь. Нетфликс последние мозги высосал.
Лева зевает, а затем делает вид, что спит.
Макс ругает как-то по-доброму. Смотрю по сторонам: за соседним столом сидит маленький и круглый человечек с оттопыренными ушами. Его друг спит на диванчике. У друга звонит телефон под песню «Вставай, страна огромная!». И он вскакивает, правда, потом деловито разваливается на стуле и орет в трубку на весь бар.
– А что Россия может п-предложить?
– Ты упоролся что ли? Почитай Михалыча, тебе полезно. У него Карамазовы твой Нетфликс вот так вот! – Макс бьет ладонью по кулаку. – У меня, короче, страх дороги, и я все равно с друзьями в Крым потащился, на десятке. Если бы не Федор Михалыч, я бы в ней и умер. Тесно, жарит, духота. Последняя страница и там: «А правда, Алешенька, что мы в рай попадем? Правда дети, все воскреснем и попадем!», и мы в этот момент чуть в фуру не влетели. Я как заново родился!
– Чуть не хапнули на Пушкина, – затыкает Макса Лева.
– На бокс пора. Мне в твоем возрасте за три месяца удар поставили. Смотри!
Макс показывает нам, как нужно бить двоечку. Это выглядит нелепо, потому что вместо бицепса смешно трясется жир.
В баре на нас могут коситься, но не более. Нас не трогают, наверное, потому, что Макс к нам хорошо относится. У нас часто интересуются: «А че, щас модно с длинными ходить? А в девяностые другая мода была, все лысые!»Было и такое: какой-то зэк рассказывал про то, как девять тысяч лет назад создавал Петербург. Потом он резко начал недоумевать из-за моего шоппера: «Че эт такое, давай, если я туда куртку не запихну, я те по роже дам?». Макс выгонял его пинками.
Макс уходит за барную стойку. Допиваю первую кружку. Пацаны крючатся от старых песен.
В бар модельной походкой заходит женщина. Все ей аплодируют и ликуют. Она машет двумя руками, как на детском утреннике. Просит Макса включить Rammstein. Вот это да! Начинает танцевать чуть ли не хип-хоп. Мужики поднимают тост: «За красивые сиськи и за узенькие письки». Начинают танцевать вокруг нее и толкать друг друга плечами.
Мы смеемся. Спар двигает головой, словно голубь. Женщина зачем-то идет к нам, поправляя прическу. Не может отдышаться после танца. Здоровается с нами. Поздравляет. Щурится и добавляет:
– Ой, какие вы молодые. Я Танечка. Татьяна. Борисовна. Но для вас про-о-сто Танечка.
– И горячие, – вставляет Спар.
– А ты мне нравишься, – нежно говорит Танечка, но голос все равно какой-то…как у Пугачевой. – Всем пива за этот столик! – кричит она Максу.
Мы говорим спасибо. Лева воодушевленно потирает руки. Танечка садится к Спару и немного теснит, ерзая пятой точкой. Прижимает его голову к своей груди. Спар смущается, но затем обнимает в ответ. К нам подходят двое пьяных мужиков.
– Танюш, давай к нам!
– С вами я каждый день сижу, а тут молодая кровь пришла.
Танечка отправляет им воздушный поцелуй, замечаю массивные перстни на ее пальцах. Мужики вздыхают и уходят. Мне хочется крикнуть им: «Ха-а-а, съели, сегодня мы тут львы».
Танечка зачем-то спрашивает нас про школу и про то, кем мы хотим стать.
– Да хрен его знает, – говорит Спар. – У России три пути: рейвы водка и IT, – поет он.
– Чур я в IT, – внезапно говорит Лева.
Мы никогда не говорим про школу, что-то типа дурного тона считается. Тем более Спар учится в ПТУ, да и то кое-как, на грани отчисления.
Танечка из сумочки достает зеркальце и губнушку, подкрашивает губки, любуется собой.
– Правильно, с такими, простите меня, мальчики, fuckable face, туда нельзя. А я, мальчики, не работаю, я же леди. Зачем мне работать? Нет, ну а как же, раньше работала. В Германии. Психологом.
– Спар у нас тоже в Берлине жил. Дня два, пока дед со шпателем фотообои не отодрал. С криками: «Предатель! Засранец маленький! У тебя прадед в Бресте убит!» – пародирует Лева.
Спар держится за голову и ковыряется в волосах.
– Дед у меня ваще крейзи. У него на хате вместо мишени висят фотки Горбачева, Ельцина и там еще чувака, этот, пирамиды, короче, придумал.
Второе пиво идет почему-то медленнее первого. Спар говорит про Мавроди. Мы с пацанами никогда не были за границей, разве что Лева в детстве отдыхал в Крыму. Но как-то так получилось, что у всех были фотообои – у меня Париж, у Левы – Нью-Йорк, а Спар хотел Берлин.
– А п-почему в-вернулись? – спрашиваю я. – Это же Европа!
– Так и вали в свою гейропу! – кричит один из мужиков в рваных спортивках. В телевизоре показывают клип «Про красивую жизнь». – Танюш, пойдем, че ты с ними возишься?
Танечка делает вид, что не замечает его. Мы быстро набрасываем Танечке вопросы про мюнхенскую «Баварию» и немецкое пиво, сложно ли переехать, и сколько стоит квартира. Таня качает головой и затыкает нас:
– Мальчики, вы там никому не нужны. Я-то нужна была, потому что всем помогала. Я любого на ноги ставила. Ну-у-у, почти. У кого была резинка. И больше тридцати евро. Да и муж-то меня любил.
– А он, типа, ничего не прочухал? – интересуется Спар. Вижу, как Танечка кладет ему руку на бедро. Спар приоткрывает рот.
– Вы чего, мальчики?! Я никогда не обманываю. Спросил бы прямо – ответила. Интересные вы такие. Я мужа люблю, но у него в подвале форма эсэсовца, как такое простишь? Вот и помогала другим. А еще у него прибор так себе. Как сорок стукнуло, так вообще перестал.
– Что перестал? – спрашивает Лева.
– Ну как что?
– Да он девственник! – внезапно вскрикивает Спар. Танечка шевелит рукой под столом.
Лева напрягает брови и с тяжестью смотрит на Спара. На месте оторванного заусенца сочится кровь.
– Так мы исправим! У меня подружки есть – красавицы! Все без парней. Ты юноша солидный. Сейчас тебе выберем! Готов поехать? – спрашивает она Леву.
Танечка убирает руку, и Спар долго выдыхает звук «ф». Лева мнется и говорит что-то быстрое и несвязанное.
– Не пугайся! Они у меня послушные. Я им скажу, они все сделают. За копеечку, но тебе бесплатно! С защитой. Ну конечно, с защитой!
– А есть фото на телефони? Шо, вы дивиется? Я без фото не пойду.
– Я тебе все покажу, пойдем, такси вызову, и все покажу! – говорит Танечка.
– К-как же пиво п-попить? Т-ты же с-с-сам хотел.
– Да в жопу вас, – говорит Лева, надевает куртку и выходит с Танечкой. Спар пожимает плечами, затем идет в туалет.
– Ждите меня, мальчики, я сейчас! – кричит Танечка.
Через окно замечаю, как Лева подкуривает ей сигарету.Танечка что-то показывает ему в телефоне. Вижу, как Лева достает еще одну. Спар возвращается раньше Танечки. По дороге она ему подмигивает.
– Подружка у меня опытная. По секрету: она вот бывшему с арабами изменяла. Все хорошо будет с вашим мальчиком, вернем в целости и сохранности, как говорится. А тебя я себе заберу! Ты же готов со мной? – обращается она к Спару.
Спар быстро кивает, но затем говорит, что расстался с девушкой и иронично кладет руку на сердце. Танечка делает щенячье лицо, но получается какой-то бульдог. Спар предлагает выпить еще.
– Да ты представь, как я могу!
– Представля-яю! – воодушевленно говорит Спар. Я вижу в нем какое-то животное, не могу понять какое.
Танечка приказывает Максу, чтобы он принес ей банан. Макс долго объясняет, что в баре бананы не растут.
– Смотри, – обращается она уже к Спару, – даже грудь стоячая!
Спар сидит рядом с Танечкой, словно кот у аквариума.
– Своя? – спрашивает Спар.
– Обижаешь! Как у внучки!
Спар натягивает улыбку и щурит глаза. Танечка смеется, и я тоже начинаю смеяться. Предлагает нам выпить залпом, а потом пойти покурить, хотя только что курила.
Мы чокаемся. Мы пьем. Мы выходим. На улице почему-то слышно, как летят самолеты. Не понимаю, почему. Аэропорт у нас находится за городом. Танечка угощает нас тонким винстоном. Темно. Туманно и свежо. Ничуть не холодно. Я смотрю на часы – два ночи. Три пропущенных от мамы. Первый раз мы остаемся после двенадцати.
Самолеты не смолкают. Дым от трех сигарет из-за влажности создает большое облако. Падает снег. Я смотрю на пьяного Спара. Он облокачивается на перила, размахивает сигаретой и рассказывает Танечке про бывшую:
– Она, короче, в моменте со мной счастлива. Но как только я ухожу, домой, ее, типа, косит как-то. Сама не своя.
– Б-будто бы день без дерьма?
– Так-так, – удивляется Таня.
– Отсылка к его песне, локальный п-прикол, – громко говорю я.
Танечка умоляет Спара спеть. Спар двумя руками делает крест и затем показывает на небо. Танечка продолжает уговаривать. Я напоминаю ему, что это шанс спеть кому-то еще, кроме нас с Левой, хотя бы попытаться.
Спар поет во весь голос. В противовес гулу самолетов. И дрыгает руками, словно снимается в клипе.
– Знаешь, мне кажется, что я не доживу до утра, детка, я больше не дышу, мне пора. Отправлюсь в небеса. Такой же никчемный как все, но совесть чиста…
Похоже, мы кого-то будим с верхнего этажа. Над нами ворчит какой-то мужик. А, возможно, и не мы. Возможно, самолеты будят. Уж слишком долго они не смолкают. Танечка в восторге, она хлопает в ладоши.
Из бара выходят мужики. Завтра, уже сегодня, им опять на работу, а вечером опять сюда.
– Так вот зачем те грива! – говорят они Спару, – ты с нею трындишь лучше, наверное, ха-ха. Ты, так-то, нормально трындидшь, мы услышали. Все мужики, давайте, с праздником, – они поздравляют нас и пожимают руку. Я замираю, пока они растворяются в тумане.
Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два. Нет, не могу. Такая шершавая толстая рука убила моего брата. Такая шершавая толстая рука не спасла его на операционном столе. Такая шершавая толстая рука копала ему могилу и забивала гвозди в гроб. Мир такой изменчивый. Ты просыпаешься утром. Все хорошо. Ты открываешь телефон и читаешь сообщение от мамы: «Брата на Пушкина зарезали, он в больнице без сознания». Все плохо. В суде ты видишь убийцу. Ты сам хочешь его убить, но боишься.
– Тнша, ловь аша! авай!
Один, два, три, четыре, пять. Все нас ненавидят. Ненавижу все. Люди причиняют боль друг другу. Танечка машет рукой и отправляет воздушный поцелуй. Какая у нее старая рука. Скоро ее съедят опарыши. Я совсем не понимаю этих мужиков. Это не первый день. Да, мы другие. Мы правда другие! Зачем нас задевать? Мы поколение. Зачем нас задевают? Я не хочу, чтобы так было. Все это было. Я не понимаю себя.
Спар держит меня за плечо. Говорю, что со мной все нормально. Иду в туалет. В баре никого нет, только Макс.
Нет, ну все-таки этих мужиков можно понять. Они прошли такие ужасы, естественно, им нужно забываться. Это наше поколение может не только выпить, но и сходить к психологу, а они, как говорит Таня, держат все в себе.
Возвращаюсь.
– Пустырничка нужно попить, пустырничка! – говорит Танечка.– Я тебе скажу сейчас, ты можешь меня не слушать: в церковь сходи, исповедуйся. Серьезно говорю. Все пройдет, я обещаю. Можешь не верить, я в твоем возрасте тоже не верила, а потом все поняла. Все равно сходи!
Я судорожно киваю.
– Запомни: любовь – это близость, – переключается Танечка на Спара. – Ты без отца рос?
– С мамой и бабой. Еще, типа, дед был, но он так, только обои мне содрал. Че за вопросы? Ну, без бати, да, я похож на девку?!
– Семью хочешь! Бабка то, наверное, все детство пилила мамку, а мамка тебя, а ты бабку.
– Да не, хочу с батей в футбик поиграть, на рыбалку там сгонять, в деревеньку, а батя в космос улетел, походу.
– Полстраны так живет. А раньше другое ценилось! Была семья. Отец учил сына. Было мужество. Сейчас все неполные.
– Неполные… я че, неполноценный? И вот че, я сильный? Нифига. Храбрый? Неа. Успешный? Тоже нифига. Надежный? Ну, типа того. Еще и бати нет. Неправильный я какой-то. И че, я типа, не мужик!?
– Мужчина должен быть собой, говорит Таня. – Это главное. Не волнуйся о том, что скажут другие.
– А меня это и не парит. Должен-должен! Да мы ваще всем должны! Готовить, типа не должен, не по-мужски. Следить за собой, тоже не круто? Мы че, звери? Надо, походу, махаться каждый день.
– Ты лучше невесту хорошую найди, семью создай!
– Нашел уже одну, а у нее откуда-то шмотки новые и цацки каждую неделю, – Спар делает паузу. – Не, ну камон, я понимаю, что есть переборы – когда чувак на каблуках и в юбке, ну и нафига? А я что, типа, с сережкой и сразу педик? Одна деталь, и я педик! Убрать – я нормальный. А с сережкой – педик.
– Спар, ну м-м-маскулиность диктует эпоха, раньше мужики в чулках ходили, – вмешиваюсь я.
Таня берет нас за руки и сильно сжимает, затем опускается на колени, но мы ее быстро поднимаем. Что это было, я не понимаю. Она пытается еще раз встать на колени, и мы опять ее поднимаем.
– Настоящий мужчина – не насилие. Мужчина – про поступки, – говорит Танечка, словно сейчас ничего не происходило. – Скажи, я падать буду, поймаешь? – обращается она ко мне. Я ничего не успеваю ответить, как Танечка пытается упасть, и я ее рефлекторно ловлю.
– Вот! Мужчина! Все! Вы оба мужчины, клянусь.
– Кентов унижают, меня унижают. Я мужик или телка? Нет, скажи, Юр, мы как телки!
– П-п-ойдем в бар. Хочу п-посидеть.
Я вспомнил историю, как в садике всю нашу группу терроризировал один мальчик Никита Бичурин. Ходил как робот, затем врезался и рубил нас руками. Это продолжалось больше года, и тогда мы со Спаром объединились, зажали его в угол и наваляли ему как следует. Никита плакал, а потом и вовсе пожаловался маме. Нас ругали, но нам не было стыдно.
А сейчас мы как будто боимся получить. А ведь что боятся, если позор страшнее боли?
Макс переключает канал. В телевизоре показывают повтор с патриотического концерта. Мальчик-курсант поет «Катюшу». У меня бегут мурашки оттого, как отважно, красиво и серьезно он поет.
«Выыхоодиила на берег Катююша, нааа высоокий берег на крутой».
Мы все невольно подпеваем. Танечка в слезах уходит вытирать тушь.
– Вот б-бы ссейчас Коня спеть! – кричу я.
Спар толкает меня в плечо и показывает на дверь. Я вижу пьяного мужика в левиной шапке. Те же бычьи глаза, та же грязная куртка. Лицо у него в крови. Он вламывается в бар и падает по центру. Нас не замечает. Встает. Его заносит к стойке, еле удерживается на ногах.
– Я его убью, – говорит мне Спар.
– Командир, налей пивка, – просит алкаш Макса. Сносит кружки с барной стойки, они падают возле Макса.
Макс орет, что только купил новую посуду. Спар молча идет на алкаша и хрустит костяшками.
В бар заходят трое мужиков, одетые как братки. И тоже идут на алкаша. Один седой и лыбится, у второго пятно на лысине, третий кудрявый и в очках с толстыми линзами.
Спар отходит ближе ко мне и говорит: «Смотри, дедовские мишени». Я про себя проговариваю: Ельцин, Горбачев и Мавроди.
Макс собирает осколки за барной стойкой. Ельцин берет за шкирку алкаша и валит его на пол. Бьет по животу, по голове. Мужик извивается и перекатывается. Закрывает лицо руками. Мне опять тяжело дышать. Только не сейчас.
Один, два, три, четыре. Не бросайте меня. Никому до меня нет дела. Я могу быть сильным или слабым. Могу чувствовать. Могу кричать. Даже плакать могу, имею право. Я не обязан никуда вливаться, не обязан объяснять этот мир, как и не обязан его менять. Один, два, три, четыре. Пять, пять, пять. Я хочу жить так, как живу. И буду жить. И брата помнить буду. Я справляюсь. Да-да-да, пять, пять, пять.
– Убьете же. Давай не тут, – просит Макс.
– Должок за ним.
Макс повторяет просьбу и добавляет, что мужик еще за разбитые стаканы не отдал. Браткам некогда. Они заняты. Они делают фарш из человека.
Мужик ничего не говорит, лишь издает звуки «Аууаа-а-ао». Тяжело и громко дышит. Левина шапка пропитывается кровью. Пол все больше пачкается в красных брызгах. Сейчас убьют человека. На наших глазах убьют человека. Человек больше не закрывает лицо руками. Его лицо втаптывают в пол.
В этот момент я все понимаю.
Я смотрю на Спара. Спар смотрит на меня. Я отталкиваю лысого, и сразу получаю двойку в челюсть. Сука, Стетхем, а не Горбачев. Это не страшно. Это приятно. Голова – не барабан. И сердце тоже. Кружится все. Ставлю блок. Горбачев бьет, а мне не больно. Совсем. Из моей рассеченной губы сочится кровь. Раз – бью с размаху в ответ. Выбиваю палец. Себе. Горбачев бьет еще по корпусу, и я падаю рядом с мужиком. Мужик крючится, словно эмбрион. Моя воспаленная разгоряченная рука охлаждается плиткой на полу. Я чувствую во рту вкус растаявшего мороженного из грязи вперемешку с кровью.
Заденьте меня.
Вижу, как дерется Спар, он дерется лучше меня. Макс достает биту, но Ельцин направляет на него пистолет. Макс поднимает руки. Спар изо всех сил душит тонкими пальцами толстую шею Мавроди и заодно прикрывается его тушей.
Не могу следить за тем, что происходит. Горбачев пинает меня ногами. Мне не больно. Я будто сам подставляюсь под удары. Хочу больше, хочу еще. Так я отыгрываюсь за все небитые годы. За своего брата. Хватаю Горбачева за ногу и опрокидываю на пол.
С каждым движением тяжелее драться. В бар, словно с того света, с криками залетает Лева и начинает душить Ельцина. Ельцин роняет пистолет. Макс сразу поднимает биту и бьет по хребтине Горбачева, тот спадает с меня и корчится рядом с алкашом.
– Aufhoert, – строго говорит Таня. Она выходит словно из ниоткуда, то есть, из туалета. – Aufhoert!
Никто из нас не останавливается. Мы бьем братков, братки бьют нас, пытаемся друг друга задушить. Задеть. Сломать. Уничтожить.
– Я сказала Genug!
Спар в одиночку справляется с Мавроди, а Лева с Ельциным. Мы побеждаем. Горбачев и Мавроди отключаются.
Все замечают Танечку. Оказывается, что братки ее друзья. Танечка говорит с Ельциным, отдает ему деньги за алкаша. Все заканчивается. Вспотевшие Горбачев и Мавроди быстро оживают, и они с Ельциным садятся за стол. Вместе с ними садится Танечка, вызывает алкашу какую-то частную скорую, чтобы не было лишних проблем. Алкаш так и лежит, скрючившись. Встать, видимо, не хочет.
– А ты чего так быстро? – спрашивает Таня Леву.
Лева улыбается.
– Да не мое что-то.
– Эх ты, дрочер… – вздыхает Спар. Он аккуратно снимает с алкаша шапку и отдает Леве, вытирает мне кровь под носом.
Мы с пацанами решаем, что пора домой. Как только мы выходим, Лева кричит:
– Там твоя бывшая! Прикинь!
– Что моя бывшая?
– Подумай!
– Парня нашла?
– Дебил, я к ней приехал. Она была не против.
– Хорош пранковать, – Спар опускает взгляд.
– Я видел, т-тебе Таня п-показывала, ты выбирал, куда поехать, – говорю я.
– Да она вообще других показывала! У нее там целая армия. Я еще удивился, дом твоей, совпадение походу, подъезд-то я не знал какой.
– И че ты, засадил ей? Как настоящая крыса? – спрашивает Спар.
– Я не пацан что ли?
– Ай, красавчик, – говорит Спар и с хлопком жмет ему руку. – Ну, ничего, брат, я тебе на днюху вызову. Или завтра, хочешь?
Левино лицо становится каким-то, не знаю, прямо как на детских фотографиях.
Брат. Два брата.
По-прежнему темно. Всю дорогу под шум самолетов мы обсуждаем, как, оказывается, круто драться, но лучше вообще не драться. И то, что Спару изменяли с арабами. Пацаны замечают, что я почти не заикаюсь.
В Колизее очень тихо. Только самолеты шумят на фоне. И никто больше не может нас задеть.



