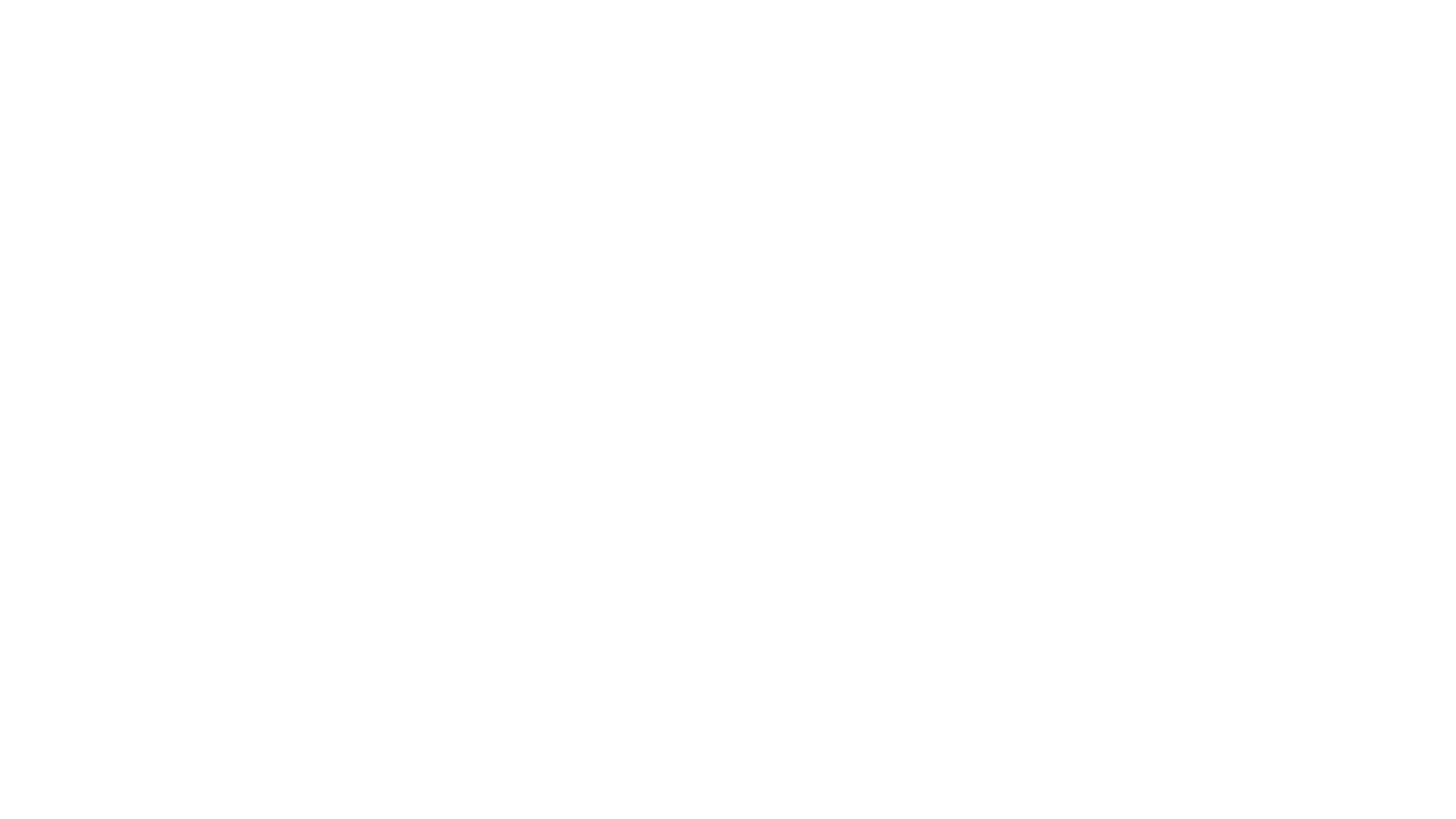
Сергей Скуратовский — Дети девяностых: хранители отчаяния
«Мне не хватает себя» – слишком часто я эту фразу слышу от ровесников. Слишком часто для того, чтобы не увидеть в этом закономерность. Мало того, глядя на свою историю, я легко представляю себя, произносящего ту же фразу, даже если учесть, что я сижу в кресле психотерапевта, а не клиента.
Большинство моих клиентов, рожденных, как и я, в районе 90-х, скованы какой-то невидимой цепью. Да, наверно, как у Бутусова, только невидимой. История, в которой они живут, слишком часто побеждает их, они чувствуют свою уязвимость перед средой, перед обществом, перед людьми, с которыми пытаются выстроить близкие отношения. Чаще всего им сложно противостоять давлению, выдерживать напряжение чувств, хочется покоя и равновесия любой ценой. Метафора невидимой цепи мне кажется очень точным образом, раскрывающим суть конфликта моего поколения: словно я стою перед новой, правильной, зрелой, счастливой жизнью, вот она, светится за поворотом, совсем близко. Но стоит только начать туда идти, непонятная тяжесть возникает из ниоткуда, вяжет по рукам и ногам. И вот что отмечают многие: этот груз страха, обиды, стыда, вины, гнева отчетливо ощущается как абсурдно огромный, чуждый, несоразмерный обстоятельствам моей жизни.
Где-то здесь и появляется отчаяние: разрушение чаяний, невыносимость разницы между желаемым и действительным, тотальное недоверие будущему, как следствие – обессмысливание настоящего.
Видимо, поэтому, разменяв тридцатник, мои сверстники, как когда-то их родители, кинулись к бабкам, экстрасенсам и инфоцыганам – за определенностью и уверенностью. Гораздо меньшее количество пришло к психологам.
К (Клиент, женщина, 35 лет): Я не могу там больше работать, это невыносимо. Мне могут позвонить в любое время дня и ночи, я постоянно задерживаюсь на час-два. Чувствую прессинг тотальный. Когда я заикнулась о своем рабочем времени, (начальник) сказал мне, что я и так никому не нужна без высшего образования. Еще сказал, что столько, сколько он мне платит, мне нигде платить не будут.
Я: Как тебе было, когда ты это все слышала?
К: Горько, больно, обидно. И мерзко от того, что он прав. Хотелось его ударить, хлопнуть дверью и уйти в закат (смущенно улыбается)… Только куда?
Я: А куда хочется?
К: (Долгая пауза) Не знаю. (Пауза) Хочу, чтобы было спокойно, чтобы не надо было париться о том, угодила ли ты начальству. (Начинает плакать). Да какая разница, все равно нет такой работы. Мне мама говорила, засунь свои хотелки себе в …, никого они не колышат.
Я: Я вижу и слышу, что тебе сейчас больно. Мне жаль. Ты расстроена тем, что даже когда ты пытаешься быть хорошей, полезной и нужной, для твоих желаний все равно нет места. (Кивает) Ты вспомнила про маму. Ее слова и слова начальника показались тебе похожими? (Кивает, вытирает слезы).
К: (Со злостью) Да, как будто их на одном заводе делали. Да и возраста они одного и того же. Им самим, наверно, все запрещали, они и не знают, как разрешать. Бесит!..
Я: (Улыбаюсь) Я сейчас рад, что ты на них злишься. Тем более, кажется, ты и сама запретила себе что-то хотеть. Ты ведь так и не ответила, куда ты хотела бы пойти работать. Ты только сказала, что работа должна быть спокойной.
К: (Грустно улыбается в ответ) Да, да, я часто так делаю. Запрещаю себе хотеть.
Я: Попробуешь еще раз найти ответ на мой вопрос?
На месте тревоги и беспомощности, переживаемых моей клиенткой, может оказаться злость и показная бесчувственность, или стыд и оглушающая горечь от неудач. В данном случае это неважно, любой из этих наборов содержит в себе одну и ту же историю: мне себя не хватает, я не чувствую себя включенным в жизнь, жизнь кажется мне чужой, изъятой из меня. Причем эти переживания абсолютно не зависят от материального благополучия или социального статуса, они могут касаться работы, связи с друзьями, супружеских отношений или всей жизни в целом. Мое поколение профессионально охотится за счастьем, так же профессионально, как и спасается от отчаяния.
На самом деле смысл, который я вкладываю в этот текст, не поплакать над бедами «девяностиков», а попытаться в очередной раз решить задачу о взаимопринадлежности человека и истории, о курице и яйце. Потому что беды повторяются. Какими бы уникальными ни были судьбы тех, кто ко мне приходит, всегда есть общие знаменатели, которые заставляют как 55-летнего бизнесмена, так и 19-летнюю студентку плакать об одном и том же. О нелюбимости, о потерянности, о смертности, о несвободе. Об этом прекрасно писал Ирвин Ялом, перечисляя экзистенциалы человеческого бытия.
Так принадлежит ли человек истории или же история принадлежит человеку? Глупый вопрос, правда? Неясно ведь, о каком объеме человека и о каком объеме истории идет речь. Любой человек сам есть история, а любая история кем-то рассказана. Слишком все проникает друг в друга. И здесь нам поможет понятие поколения, оно подсказывает нам, как история ведет себя внутри человека, и как человек ведет себя внутри истории.
Ответить на этот вопрос помогут отчаяние и любовь – две ключевые фигуры, на которых мне хотелось бы сейчас сосредоточиться. Именно отчаяние и любовь, их плотная смысловая взаимосвязь, их сочетание и столкновение рисуют портрет каждого поколения, определяют границы основного мировоззренческого конфликта.
Представьте себе обычную семью, молодых парня и девушку, родившихся в 1915-1920 годах. Они встречают Великую Отечественную войну. Возможно, у них есть маленький ребенок на руках, возможно, еще нет, появится позже, в сороковых. Моя прабабушка была 1916 года рождения.
Выжившее, выжженное, полумертвое поколение, пытавшееся справиться с бесконечным грузом горя, постоянно выбирающее между горем и жизнью. Резко и жестко расставшись с детством, они не имели шансов повзрослеть. Сколько из них винили себя в том, что они живы? Сколько из них замолчали, убили свою внутреннюю речь, окаменели, стали живыми памятниками? Их отчаяние было гораздо больше их самих. От этого поколения пришла привычка любить через молчаливую заботу, ставя лишнюю тарелку супа, укутывая потеплее в холода. Своих детей, родившихся в 1930-1940 годах, они любили именно так.
Следующее поколение – дети войны, вечно старавшиеся стать чересчур взрослыми. Они пытались победить свой детский ужас взрослыми привычками: инициативностью, организованностью, трудолюбием, алкоголем, нарочитым оптимизмом. Хрущевская оттепель прекрасно иллюстрирует это столкновение памяти о холоде и мечты о тепле. Их отчаяние – скрытое, неразличимое среди бесконечных долженствований и обязанностей быть «быстрее, выше, сильнее». Рязанов, Гайдай и Данелия учили это поколение улыбаться и любить заново. Но, когда любишь по учебнику, это получается неестественно. А когда тебе больно вспоминать о своем детстве, не получается понять чужое. От этого поколения пришла привычка любить своих детей на дистанции, воспитывая их.
Поэтому дети, рожденные в 1950-1960 годах, выросли в тоске по родителю-другу. Это их поколение вывело формулу «Счастье – это когда тебя понимают». Их же поколение восторгалось непонятостью и свободой, записываясь в рокеры. Именно дети 50х-60х инициировали сексуальную революцию, как будто бы отвечая ей на холодность и недостижимость предыдущего, смертельно взрослого поколения. Их отчаяние зашифровано в страстях: отчаянная мечта о тепле, переданная по наследству, столкнулась со столь же отчаянной жаждой свободы. А потом случилась перестройка, в лице которой вернулся смертный ужас, страх исчезновения. Боящийся несовершенен в любви, так ведь? Поэтому дети 1980-1990 годов либо подвергались беспомощной, на разрыв, любви родителей, либо росли сами по себе.
Они с самого детства знали и видели, что есть тепло, любовь, свобода, так же как есть и смерть, секс, страх. Слишком противоречивый, слишком большой набор знаний для ребенка, которого взрослые сделали свидетелем, хранителем своего отчаяния. Очень легко раствориться в мире, полном таких понятий, исчезнуть как фигура, потерять себя. Поэтому выученное отчаяние, выученная беспомощность – классическая история детей девяностых.
Взрослея, вырастая над своим наследством, уходить от отчаяния можно двумя путями. Один путь нам дарит Альбер Камю. Грустнолицый атеист-туберкулезник, на пороге войны он утешает своего собеседника так: «Поймите, что можно отчаяться в смысле жизни вообще, но не в ее отдельных проявлениях, можно отчаяться в существовании, потому что мы не имеем над ним власти, но не в истории, где отдельный человек может все». Многие «девяностики» выбрали именно такой вариант: кто-то становится героем семейной жизни, кто-то – карьеристом-трудоголиком, кто-то – бизнесменом-людоедом. Они выбирают сбегать из клетки отчаяния какой-то своей частью, отдавая остальное в уплату за побег.
Другой путь подсказывает св. Николай Сербский в письме сокрушающемуся молодому священнику: «Благочестивый решительно воюет с отчаянием непобедимым оружием веры. Уединение – пробный камень: испытайте свою веру в уединении. Сколь бы ни возносился безбожник перед людьми, наедине с собой он впадает в отчаяние. А верующий в уединении ощущает прилив сил и радости». Этот путь тоже выбирают многие мои клиенты: сквозь отчаяние они пытаются дотянуться до невидимого, опереться, если не на веру в Бога, то на доверие к себе. Кто-то просто выбирает удаленность от чувств, концентрируется на себе: для себя живет, для себя старается радоваться, для себя рожает ребенка, разменивает отчаяние на одиночество.
Так или иначе, любое отчаяние – это всегда разговор о том, что где-то твоя история, твой поток жизни тебя подвел, твои чаяния не оправдались. В этом тоже специфическая черта моего поколения: мир воспринимается как сказка, страшная или волшебная, с гарантированно хорошим или гарантированно плохим концом, но именно сказка, жестко структурированное повествование с обязательным присутствием чуда, где я – главный герой. Например, поэтому для многих моих сверстников принцип быстрых денег, быстрых отношений, быстрого успеха стал горячо желаемой нормой, типа, так жизнь и должна на меня реагировать, ибо я здесь протагонист. Как видите, магическое мышление и вера в бесконечную сказку – это тоже способ сбежать от отчаяния.
Чем же отчаяние побеждается? Очевидно, любовью, не зря же я ее постоянно упоминаю в этом тексте. Когда «девяностик» учится любить себя не в роли главного героя, а целиком; любить жизнь не волшебную, а настоящую, без загадочной тишины и мистического тумана; любить чудо как часть Божьего промысла, а не своего собственного сценария – тогда человек и его история перестают друг друга подчинять. А он, мой абстрактный сверстник, научается не быть, а бывать счастливым, чувствуя, что большего и не надо.
Большинство моих клиентов, рожденных, как и я, в районе 90-х, скованы какой-то невидимой цепью. Да, наверно, как у Бутусова, только невидимой. История, в которой они живут, слишком часто побеждает их, они чувствуют свою уязвимость перед средой, перед обществом, перед людьми, с которыми пытаются выстроить близкие отношения. Чаще всего им сложно противостоять давлению, выдерживать напряжение чувств, хочется покоя и равновесия любой ценой. Метафора невидимой цепи мне кажется очень точным образом, раскрывающим суть конфликта моего поколения: словно я стою перед новой, правильной, зрелой, счастливой жизнью, вот она, светится за поворотом, совсем близко. Но стоит только начать туда идти, непонятная тяжесть возникает из ниоткуда, вяжет по рукам и ногам. И вот что отмечают многие: этот груз страха, обиды, стыда, вины, гнева отчетливо ощущается как абсурдно огромный, чуждый, несоразмерный обстоятельствам моей жизни.
Где-то здесь и появляется отчаяние: разрушение чаяний, невыносимость разницы между желаемым и действительным, тотальное недоверие будущему, как следствие – обессмысливание настоящего.
Видимо, поэтому, разменяв тридцатник, мои сверстники, как когда-то их родители, кинулись к бабкам, экстрасенсам и инфоцыганам – за определенностью и уверенностью. Гораздо меньшее количество пришло к психологам.
К (Клиент, женщина, 35 лет): Я не могу там больше работать, это невыносимо. Мне могут позвонить в любое время дня и ночи, я постоянно задерживаюсь на час-два. Чувствую прессинг тотальный. Когда я заикнулась о своем рабочем времени, (начальник) сказал мне, что я и так никому не нужна без высшего образования. Еще сказал, что столько, сколько он мне платит, мне нигде платить не будут.
Я: Как тебе было, когда ты это все слышала?
К: Горько, больно, обидно. И мерзко от того, что он прав. Хотелось его ударить, хлопнуть дверью и уйти в закат (смущенно улыбается)… Только куда?
Я: А куда хочется?
К: (Долгая пауза) Не знаю. (Пауза) Хочу, чтобы было спокойно, чтобы не надо было париться о том, угодила ли ты начальству. (Начинает плакать). Да какая разница, все равно нет такой работы. Мне мама говорила, засунь свои хотелки себе в …, никого они не колышат.
Я: Я вижу и слышу, что тебе сейчас больно. Мне жаль. Ты расстроена тем, что даже когда ты пытаешься быть хорошей, полезной и нужной, для твоих желаний все равно нет места. (Кивает) Ты вспомнила про маму. Ее слова и слова начальника показались тебе похожими? (Кивает, вытирает слезы).
К: (Со злостью) Да, как будто их на одном заводе делали. Да и возраста они одного и того же. Им самим, наверно, все запрещали, они и не знают, как разрешать. Бесит!..
Я: (Улыбаюсь) Я сейчас рад, что ты на них злишься. Тем более, кажется, ты и сама запретила себе что-то хотеть. Ты ведь так и не ответила, куда ты хотела бы пойти работать. Ты только сказала, что работа должна быть спокойной.
К: (Грустно улыбается в ответ) Да, да, я часто так делаю. Запрещаю себе хотеть.
Я: Попробуешь еще раз найти ответ на мой вопрос?
На месте тревоги и беспомощности, переживаемых моей клиенткой, может оказаться злость и показная бесчувственность, или стыд и оглушающая горечь от неудач. В данном случае это неважно, любой из этих наборов содержит в себе одну и ту же историю: мне себя не хватает, я не чувствую себя включенным в жизнь, жизнь кажется мне чужой, изъятой из меня. Причем эти переживания абсолютно не зависят от материального благополучия или социального статуса, они могут касаться работы, связи с друзьями, супружеских отношений или всей жизни в целом. Мое поколение профессионально охотится за счастьем, так же профессионально, как и спасается от отчаяния.
На самом деле смысл, который я вкладываю в этот текст, не поплакать над бедами «девяностиков», а попытаться в очередной раз решить задачу о взаимопринадлежности человека и истории, о курице и яйце. Потому что беды повторяются. Какими бы уникальными ни были судьбы тех, кто ко мне приходит, всегда есть общие знаменатели, которые заставляют как 55-летнего бизнесмена, так и 19-летнюю студентку плакать об одном и том же. О нелюбимости, о потерянности, о смертности, о несвободе. Об этом прекрасно писал Ирвин Ялом, перечисляя экзистенциалы человеческого бытия.
Так принадлежит ли человек истории или же история принадлежит человеку? Глупый вопрос, правда? Неясно ведь, о каком объеме человека и о каком объеме истории идет речь. Любой человек сам есть история, а любая история кем-то рассказана. Слишком все проникает друг в друга. И здесь нам поможет понятие поколения, оно подсказывает нам, как история ведет себя внутри человека, и как человек ведет себя внутри истории.
Ответить на этот вопрос помогут отчаяние и любовь – две ключевые фигуры, на которых мне хотелось бы сейчас сосредоточиться. Именно отчаяние и любовь, их плотная смысловая взаимосвязь, их сочетание и столкновение рисуют портрет каждого поколения, определяют границы основного мировоззренческого конфликта.
Представьте себе обычную семью, молодых парня и девушку, родившихся в 1915-1920 годах. Они встречают Великую Отечественную войну. Возможно, у них есть маленький ребенок на руках, возможно, еще нет, появится позже, в сороковых. Моя прабабушка была 1916 года рождения.
Выжившее, выжженное, полумертвое поколение, пытавшееся справиться с бесконечным грузом горя, постоянно выбирающее между горем и жизнью. Резко и жестко расставшись с детством, они не имели шансов повзрослеть. Сколько из них винили себя в том, что они живы? Сколько из них замолчали, убили свою внутреннюю речь, окаменели, стали живыми памятниками? Их отчаяние было гораздо больше их самих. От этого поколения пришла привычка любить через молчаливую заботу, ставя лишнюю тарелку супа, укутывая потеплее в холода. Своих детей, родившихся в 1930-1940 годах, они любили именно так.
Следующее поколение – дети войны, вечно старавшиеся стать чересчур взрослыми. Они пытались победить свой детский ужас взрослыми привычками: инициативностью, организованностью, трудолюбием, алкоголем, нарочитым оптимизмом. Хрущевская оттепель прекрасно иллюстрирует это столкновение памяти о холоде и мечты о тепле. Их отчаяние – скрытое, неразличимое среди бесконечных долженствований и обязанностей быть «быстрее, выше, сильнее». Рязанов, Гайдай и Данелия учили это поколение улыбаться и любить заново. Но, когда любишь по учебнику, это получается неестественно. А когда тебе больно вспоминать о своем детстве, не получается понять чужое. От этого поколения пришла привычка любить своих детей на дистанции, воспитывая их.
Поэтому дети, рожденные в 1950-1960 годах, выросли в тоске по родителю-другу. Это их поколение вывело формулу «Счастье – это когда тебя понимают». Их же поколение восторгалось непонятостью и свободой, записываясь в рокеры. Именно дети 50х-60х инициировали сексуальную революцию, как будто бы отвечая ей на холодность и недостижимость предыдущего, смертельно взрослого поколения. Их отчаяние зашифровано в страстях: отчаянная мечта о тепле, переданная по наследству, столкнулась со столь же отчаянной жаждой свободы. А потом случилась перестройка, в лице которой вернулся смертный ужас, страх исчезновения. Боящийся несовершенен в любви, так ведь? Поэтому дети 1980-1990 годов либо подвергались беспомощной, на разрыв, любви родителей, либо росли сами по себе.
Они с самого детства знали и видели, что есть тепло, любовь, свобода, так же как есть и смерть, секс, страх. Слишком противоречивый, слишком большой набор знаний для ребенка, которого взрослые сделали свидетелем, хранителем своего отчаяния. Очень легко раствориться в мире, полном таких понятий, исчезнуть как фигура, потерять себя. Поэтому выученное отчаяние, выученная беспомощность – классическая история детей девяностых.
Взрослея, вырастая над своим наследством, уходить от отчаяния можно двумя путями. Один путь нам дарит Альбер Камю. Грустнолицый атеист-туберкулезник, на пороге войны он утешает своего собеседника так: «Поймите, что можно отчаяться в смысле жизни вообще, но не в ее отдельных проявлениях, можно отчаяться в существовании, потому что мы не имеем над ним власти, но не в истории, где отдельный человек может все». Многие «девяностики» выбрали именно такой вариант: кто-то становится героем семейной жизни, кто-то – карьеристом-трудоголиком, кто-то – бизнесменом-людоедом. Они выбирают сбегать из клетки отчаяния какой-то своей частью, отдавая остальное в уплату за побег.
Другой путь подсказывает св. Николай Сербский в письме сокрушающемуся молодому священнику: «Благочестивый решительно воюет с отчаянием непобедимым оружием веры. Уединение – пробный камень: испытайте свою веру в уединении. Сколь бы ни возносился безбожник перед людьми, наедине с собой он впадает в отчаяние. А верующий в уединении ощущает прилив сил и радости». Этот путь тоже выбирают многие мои клиенты: сквозь отчаяние они пытаются дотянуться до невидимого, опереться, если не на веру в Бога, то на доверие к себе. Кто-то просто выбирает удаленность от чувств, концентрируется на себе: для себя живет, для себя старается радоваться, для себя рожает ребенка, разменивает отчаяние на одиночество.
Так или иначе, любое отчаяние – это всегда разговор о том, что где-то твоя история, твой поток жизни тебя подвел, твои чаяния не оправдались. В этом тоже специфическая черта моего поколения: мир воспринимается как сказка, страшная или волшебная, с гарантированно хорошим или гарантированно плохим концом, но именно сказка, жестко структурированное повествование с обязательным присутствием чуда, где я – главный герой. Например, поэтому для многих моих сверстников принцип быстрых денег, быстрых отношений, быстрого успеха стал горячо желаемой нормой, типа, так жизнь и должна на меня реагировать, ибо я здесь протагонист. Как видите, магическое мышление и вера в бесконечную сказку – это тоже способ сбежать от отчаяния.
Чем же отчаяние побеждается? Очевидно, любовью, не зря же я ее постоянно упоминаю в этом тексте. Когда «девяностик» учится любить себя не в роли главного героя, а целиком; любить жизнь не волшебную, а настоящую, без загадочной тишины и мистического тумана; любить чудо как часть Божьего промысла, а не своего собственного сценария – тогда человек и его история перестают друг друга подчинять. А он, мой абстрактный сверстник, научается не быть, а бывать счастливым, чувствуя, что большего и не надо.



