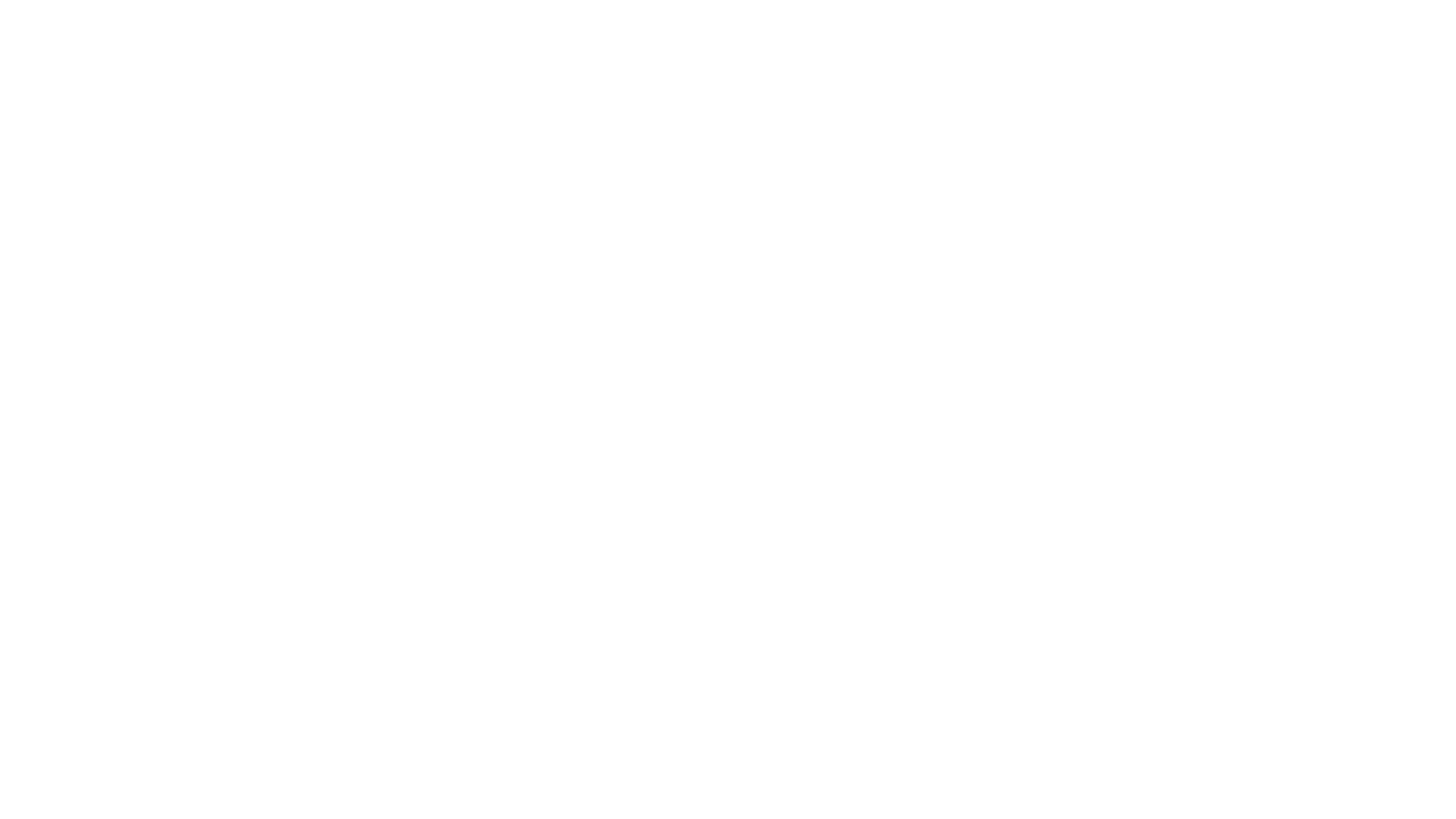
Георгий Смолин — Бегство
Георгий Смолин — прозаик. Родился в Вологде в 1992 году. Окончил Вологодский Государственный Педагогический Университет. Работает учителем истории в одной из гимназий Краснодара. Участник Литературных мастерских АСПИР в Смоленске и Таганроге, ХII Молодёжного литературного фестиваля «КоРифеи» в Уфе, Фестиваля им. М. Анищенко в Самаре. Лауреат литературного конкурса «Диалог».
Белый лист всегда пугал Николаева. Низ живота сводило от мысли о необходимости опустить ручку и извазюкать красными чернилами девственность бумаги. Это должно происходить осмысленно, по взаимной любви, по обоюдному желанию. Запечатленная мысль обязана быть обдуманной, тщательно выверенной, а слова — безупречно подогнаны друг к другу, как детальки «Лего».
Николаев с закрытыми глазами медленно приложил ручку к поверхности бумаги. Аккуратно вывел:
«На синем пароходике
Никакой экзотики,
Никакой эротики —
Лишь яйца лижут котики»
Перечитал и вслух сказал:
— Рубикон тронулся!
Теперь можно было работать.
Светало. Николаев посмотрел на часы — почти шесть. Он был удовлетворен плодами ночи: рядом лежала приличная стопка исписанной бумаги.
— Культура — это палимпсест, один сблюет, другой поест, — неизвестно кого процитировал он.
В ванной Николаев посмотрел на отражение.
— Двухдневная? — спросил у зеркала Николаев.
Отражение согласно кивнуло.
Побриться было необходимо. Даже после очередной бессонной ночи рука была тверда и не дрожала. Он закончил и внимательно осмотрел гладкое лицо. Обошлось без порезов.
Вернувшись в комнату, недолго постоял возле окна. День был ответственным, и требовалось сосредоточение. Несколько дротиков полетели в приколотый к двери портрет Мандельштама. Два — воткнулись.
— Не обижайся, Осип Эмильевич. Я тебя люблю. Это — знаки внимания и глубочайшего почтения.
На завтрак он ел блины. Они остались еще с позавчерашнего дня, когда у Николаева были гости. В конце вечера Николаев стал печь, и напек так много, что не хватало посуды. Он был готов на многое, лишь бы не оставаться наедине с ночью, но все же вскоре компания разошлась. Оставались только блины.
Николаев аккуратно завязал галстук: светло-серый, под цвет глаз, в горизонтальную синюю полоску. Сегодня ему нравилось, как он выглядел, и при солнечном свете никакие тени не мельтешили за спиной.
За окном взвизгнуло авто. Николаев решился, наконец, выходить. Во дворе возле пивной в ожидании открытия мучились какие-то хмыри, и Николаев быстро прошагал мимо. В магазинчике спросил водку.
— Водки нет. Кончилась.
— Кончилась?
— Да.
— Вся?
— Вся. Выходные же были.
— Тогда давай покрепче, что есть. Одну.
Теперь Николаев слегка опаздывал и прибавил шаг. Подходя к месту, сверился с часами — успевал.
Майское солнце пекло, земля, после ночного дождя, парила, природа зеленела. Николаев огляделся и сказал:
— Здравствуйте!
Он прочистил горло и замолчал. Николаев всегда так начинал лекцию — дожидался, когда смолкнет. Он еще раз посмотрел вокруг: аудитория была готова внимать.
— Спасибо всем, кто пришел.
Эта фраза ему нравилась. Будто бы у них был выбор. Никто не улыбнулся.
— Какого знака вы ждете? Вот ты, — Николаев пригляделся к надписи, — Исаакян Кирилл Игнатьевич, какого знака ты ждешь?
Кирилл Игнатьевич предсказуемо молчал.
— Что заставляет вас всех здесь находиться? Вы здесь существуете под стеклянным колпаком, под каменной плитой, вдали от мира. Почему? И не надо на меня так укоризненно смотреть, не надо. Я бы хотел, чтобы вы попытались ответить на мой вопрос. Молчите? — кругом Николаева и вправду молчали. Ему даже не удавалось поймать ничьи взгляды. — Тогда я скажу. Вам здесь нравится. Нравится так жить, да, жить, я не оговорился! Независимо от общественного мнения, в стороне от норм морали и одобрения окружающих.
— Давайте выпьем. Николаев достал купленную в магазине бутылку. — Сколько вам лет?
Он обратился к ближайшему слушателю. На надписи значилось: «1890».
— Уже больше ста. Можно.
Николаев брызнул на могильную плиту.
— Нет, закусить не имеется. Не возмущайтесь, нет, значит — нет. А что вы хотели — тушенку в шампанском?
Он продекламировал:
«Тушенка в шампанском, тушенка в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро...»
— Нет уж. Пейте так.
Теперь он поливал всех соседей.
— Я знаю, почему вы все здесь остаетесь. Вы все потеряли. Все хорошее, что вы знали, не пригодилось. — Он прочитал. — «Курганов Петр Алексеевич, тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения. Муж. Отец. Учитель». Чему вы учили, Петр Алексеевич? Ведь все оказалось неправдой. Вы рассказывали — нам рассказывали! — про Гагарина, крылатые качели, великие победы, а потом мы начали взрослеть (а вы, Петр Алексеевич, скончались, семидесяти пяти лет от роду), и нам подсунули пакет с клеем и портвейн. А под окнами в это время стреляли соседа! Потеряли вы вашу страну. И нас обманули.
— Раиса Николаевна. Буланова. — он стоял перед следующей плитой. — тридцать седьмой, шестьдесят второй. А что так коротко? «Дорогая мученица, доченька, мамочка, сестренка. Твой муж — злодей умышленно вырезал у нас счастье, радость и покой. Прощай, наша желанная…». Раиса Николаевна, к вам вопросов нет.
Николаев вытряс из бутылки Раисе Николаевне последние капли и перешел дальше.
— А это кто? Титулярный советник. А ведь и вашу Россию мы потеряли, господин титулярный советник. То есть, что это я? Вы ее потеряли, ваше благородие. Вы и потеряли-с!
— Вот поэтому сейчас вы здесь остаетесь. — он обвел рукой всех присутствующих. — Вы — все! — всё потеряли, и нет вам оправданий. Но здесь, повторюсь, под стеклянными колпаками вы надежно прикрыты от порицания и неодобрения. Смерть все спишет, и списала. Да — списала!
Николаев устал и начал говорить тише и медленнее:
— И не пытайтесь спорить. Ведь какой знак вы бы не получили, вы останетесь здесь, под этим солнцем, с этим вечным чик-чирик и ветром. И редкими гостями, никто из которых не скажет вам и слова упрека.
Николаев стоял перед очередной могилой:
— Встань, Никишин М. К., встань! Встань и иди! Иди, куда ты хочешь!
Николаев опять перешел на истеричный крик.
— Вы все — встаньте и идите! Какой еще знак вам нужен?!
Никто не шелохнулся.
— Видите, ничего вам уже не нужно. И до вас никому нет дела. Все эти цветочки, которые вам приносят, да оградки крашенные — это чтобы подольше с вами не встречаться. Один я к вам по-настоящему прихожу.
Аудитория недовольно бурлила, но никто не смел высказаться вслух.
— При жизни вы все были тыквами. До полуночи — карета, а после тухлый овощ. Не было-то ничего в вас настоящего. А я! — Я! — Не хочу быть тыквой! Я хочу быть фонариком.
На этом признании вокруг замерло. Николаев в последний раз огляделся.
— Есть вопросы? До свиданья.
Выходя с кладбища Николаев выбросил в мусорную урну пустую бутылку. Рядом лежали несколько букетов. «Не донесли? Не нашли?». Он закурил. Уже смеркалось. Следовало скорее попасть домой, пока по городу не поползли тени.
Николаев с закрытыми глазами медленно приложил ручку к поверхности бумаги. Аккуратно вывел:
«На синем пароходике
Никакой экзотики,
Никакой эротики —
Лишь яйца лижут котики»
Перечитал и вслух сказал:
— Рубикон тронулся!
Теперь можно было работать.
Светало. Николаев посмотрел на часы — почти шесть. Он был удовлетворен плодами ночи: рядом лежала приличная стопка исписанной бумаги.
— Культура — это палимпсест, один сблюет, другой поест, — неизвестно кого процитировал он.
В ванной Николаев посмотрел на отражение.
— Двухдневная? — спросил у зеркала Николаев.
Отражение согласно кивнуло.
Побриться было необходимо. Даже после очередной бессонной ночи рука была тверда и не дрожала. Он закончил и внимательно осмотрел гладкое лицо. Обошлось без порезов.
Вернувшись в комнату, недолго постоял возле окна. День был ответственным, и требовалось сосредоточение. Несколько дротиков полетели в приколотый к двери портрет Мандельштама. Два — воткнулись.
— Не обижайся, Осип Эмильевич. Я тебя люблю. Это — знаки внимания и глубочайшего почтения.
На завтрак он ел блины. Они остались еще с позавчерашнего дня, когда у Николаева были гости. В конце вечера Николаев стал печь, и напек так много, что не хватало посуды. Он был готов на многое, лишь бы не оставаться наедине с ночью, но все же вскоре компания разошлась. Оставались только блины.
Николаев аккуратно завязал галстук: светло-серый, под цвет глаз, в горизонтальную синюю полоску. Сегодня ему нравилось, как он выглядел, и при солнечном свете никакие тени не мельтешили за спиной.
За окном взвизгнуло авто. Николаев решился, наконец, выходить. Во дворе возле пивной в ожидании открытия мучились какие-то хмыри, и Николаев быстро прошагал мимо. В магазинчике спросил водку.
— Водки нет. Кончилась.
— Кончилась?
— Да.
— Вся?
— Вся. Выходные же были.
— Тогда давай покрепче, что есть. Одну.
Теперь Николаев слегка опаздывал и прибавил шаг. Подходя к месту, сверился с часами — успевал.
Майское солнце пекло, земля, после ночного дождя, парила, природа зеленела. Николаев огляделся и сказал:
— Здравствуйте!
Он прочистил горло и замолчал. Николаев всегда так начинал лекцию — дожидался, когда смолкнет. Он еще раз посмотрел вокруг: аудитория была готова внимать.
— Спасибо всем, кто пришел.
Эта фраза ему нравилась. Будто бы у них был выбор. Никто не улыбнулся.
— Какого знака вы ждете? Вот ты, — Николаев пригляделся к надписи, — Исаакян Кирилл Игнатьевич, какого знака ты ждешь?
Кирилл Игнатьевич предсказуемо молчал.
— Что заставляет вас всех здесь находиться? Вы здесь существуете под стеклянным колпаком, под каменной плитой, вдали от мира. Почему? И не надо на меня так укоризненно смотреть, не надо. Я бы хотел, чтобы вы попытались ответить на мой вопрос. Молчите? — кругом Николаева и вправду молчали. Ему даже не удавалось поймать ничьи взгляды. — Тогда я скажу. Вам здесь нравится. Нравится так жить, да, жить, я не оговорился! Независимо от общественного мнения, в стороне от норм морали и одобрения окружающих.
— Давайте выпьем. Николаев достал купленную в магазине бутылку. — Сколько вам лет?
Он обратился к ближайшему слушателю. На надписи значилось: «1890».
— Уже больше ста. Можно.
Николаев брызнул на могильную плиту.
— Нет, закусить не имеется. Не возмущайтесь, нет, значит — нет. А что вы хотели — тушенку в шампанском?
Он продекламировал:
«Тушенка в шампанском, тушенка в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро...»
— Нет уж. Пейте так.
Теперь он поливал всех соседей.
— Я знаю, почему вы все здесь остаетесь. Вы все потеряли. Все хорошее, что вы знали, не пригодилось. — Он прочитал. — «Курганов Петр Алексеевич, тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения. Муж. Отец. Учитель». Чему вы учили, Петр Алексеевич? Ведь все оказалось неправдой. Вы рассказывали — нам рассказывали! — про Гагарина, крылатые качели, великие победы, а потом мы начали взрослеть (а вы, Петр Алексеевич, скончались, семидесяти пяти лет от роду), и нам подсунули пакет с клеем и портвейн. А под окнами в это время стреляли соседа! Потеряли вы вашу страну. И нас обманули.
— Раиса Николаевна. Буланова. — он стоял перед следующей плитой. — тридцать седьмой, шестьдесят второй. А что так коротко? «Дорогая мученица, доченька, мамочка, сестренка. Твой муж — злодей умышленно вырезал у нас счастье, радость и покой. Прощай, наша желанная…». Раиса Николаевна, к вам вопросов нет.
Николаев вытряс из бутылки Раисе Николаевне последние капли и перешел дальше.
— А это кто? Титулярный советник. А ведь и вашу Россию мы потеряли, господин титулярный советник. То есть, что это я? Вы ее потеряли, ваше благородие. Вы и потеряли-с!
— Вот поэтому сейчас вы здесь остаетесь. — он обвел рукой всех присутствующих. — Вы — все! — всё потеряли, и нет вам оправданий. Но здесь, повторюсь, под стеклянными колпаками вы надежно прикрыты от порицания и неодобрения. Смерть все спишет, и списала. Да — списала!
Николаев устал и начал говорить тише и медленнее:
— И не пытайтесь спорить. Ведь какой знак вы бы не получили, вы останетесь здесь, под этим солнцем, с этим вечным чик-чирик и ветром. И редкими гостями, никто из которых не скажет вам и слова упрека.
Николаев стоял перед очередной могилой:
— Встань, Никишин М. К., встань! Встань и иди! Иди, куда ты хочешь!
Николаев опять перешел на истеричный крик.
— Вы все — встаньте и идите! Какой еще знак вам нужен?!
Никто не шелохнулся.
— Видите, ничего вам уже не нужно. И до вас никому нет дела. Все эти цветочки, которые вам приносят, да оградки крашенные — это чтобы подольше с вами не встречаться. Один я к вам по-настоящему прихожу.
Аудитория недовольно бурлила, но никто не смел высказаться вслух.
— При жизни вы все были тыквами. До полуночи — карета, а после тухлый овощ. Не было-то ничего в вас настоящего. А я! — Я! — Не хочу быть тыквой! Я хочу быть фонариком.
На этом признании вокруг замерло. Николаев в последний раз огляделся.
— Есть вопросы? До свиданья.
Выходя с кладбища Николаев выбросил в мусорную урну пустую бутылку. Рядом лежали несколько букетов. «Не донесли? Не нашли?». Он закурил. Уже смеркалось. Следовало скорее попасть домой, пока по городу не поползли тени.



