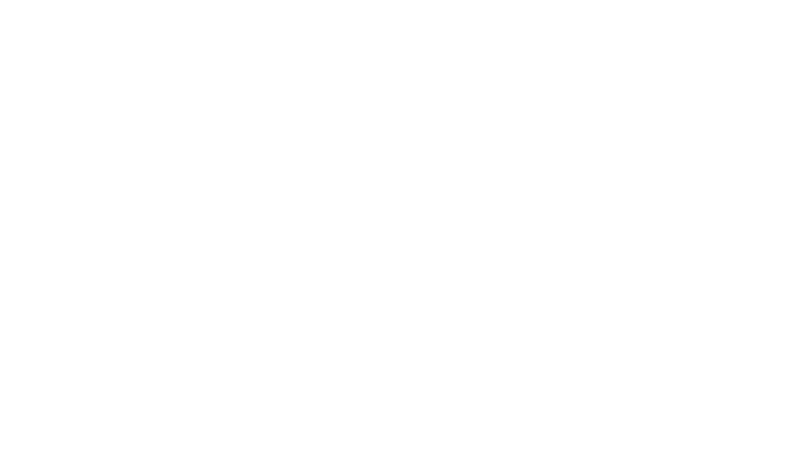
Состав писательской крови
(или Кто ещё живёт в современной литературе, кроме её автора и читателя)
Поэт и критик Алексей Алёхин метко подметил, что в литературе произведения не исчезают, словно съеденный на завтрак хлеб: каждый поэт в момент начала творчества входит в комнату, где уже есть Державин, Пушкин, Мандельштам и другие. Вопросами влияния и наследственности в литературе задавались не только литературоведы и учёные прошлого века – например, Бахтин, который ввёл понятие диалогичности русской литературы – но и наши современники. Мы задали вопрос литературным критикам, видят ли они влияние каких-то поэтов и прозаиков на литературу настоящего времени, и в чём это выражается.
Ольга Балла – заведующая отделом критики и библиографии журнала "Знамя":
На поэзию, пожалуй, повлиял Бродский – настолько, что его влиянию уже приходится сопротивляться. Чтобы аргументированно ответить на вопрос о чертах влияния, обращу внимание на тяготение к воспроизводству его ритмических и интонационных моделей. Впрочем, мне кажется, этап очарованности Бродским (особенно у начинающих поэтов) уже всё дальше. В прозе я не вижу чьего-то одного определяющего влияния.
Елена Пестерева – поэт, переводчик, литературный критик:
Опять об Гоголя, опять об Пушкина
Думаю, ряд линий наследования действительно можно заметить. Но это есть и какой-то устойчивый алгоритм, по которой текущую поэзию принято сортировать, как стирку, на белое, чёрное, цветное и шерстяное.
Всё, что мы прочитали, на нас повлияло. В том числе, разумеется, и на нас, читающих – не только на нас, пишущих.
С той или иной долей условности всё лирическое, задумчивое, описательное, удивлённое, меланхоличное в лирике автоматически записывается Мандельштаму. Всё длиннострокое, синтаксически сложное, энциклопедическое – на счёт Бродскому. Всё животное, природное, ботаническое, языческое складывается в корзину Заболоцкого. Всё райское, библейское, надмирное, тайное – относится к Аронзону (то есть, наверное, Тютчеву, как-то минуя или перепрыгивая, если можно так сказать, Блока). Всё игровое и хоть отчасти остроумное или абсурдное маркируется Хармсом, иногда кажется, что без особенного разбора, а только потому, что с Введенским широкий читатель меньше знаком, а с Олейниковым – ещё меньше. Это поверхностный разбор. В рецензии на свой сборник я однажды прочитала, что в моей лирике много Бродского. Это было удивительно. Но что ж, никакого влияния нельзя исключать. Всё, что мы прочитали, на нас повлияло. В том числе, разумеется, и на нас, читающих – не только на нас, пишущих.
Литература не существует отдельно от остальной реальности. Она – её часть, и испытывает такое же влияние, как прочие составляющие. Я имею в виду, что русскоязычный мир без Мандельштама или без Бродского уже сложно вообразить. И, кажется, он сильно отличался бы от того, который есть сейчас. Потому что поэты, которых я перечислила, - это образы мысли и способы жизни, способы видения реальности и соотнесения себя с ней.
Поэтому, может быть, интереснее искать то, чего нет. Или на первый взгляд нет. Блока почти что нет, тоскливого и жуткого Некрасова нет, парижской ноты нет, но, похоже, лет через десять уже будет. Я совсем не обнаруживаю следов Цветаевой, самой беглой скорописи и длинных составов ассоциаций.
Есть нечто гоголевское в Осокине, есть Хармс и Сологуб в Николаенко, по крайней мере, в "Убить Бобрыкина". Я не слышу никого, хоть отдаленно похожего на Платонова или Белого, или Бунина, или Пильняка, но может быть, и без них неплохо, хоть я их и люблю.
Тот, кого я хотела бы добавить в современную прозу, – это Чехов, снова и ещё немного Чехова, и Лесков, и ещё "Капитанскую дочку" – то есть простую, умную, летящую прозу, написанную живым, ясным, человеческим языком. По возможности, языком XXI века, а не 60-х годов ХХ.
Поэтому, может быть, интереснее искать то, чего нет. Или на первый взгляд нет. Блока почти что нет, тоскливого и жуткого Некрасова нет, парижской ноты нет, но, похоже, лет через десять уже будет. Я совсем не обнаруживаю следов Цветаевой, самой беглой скорописи и длинных составов ассоциаций.
Есть нечто гоголевское в Осокине, есть Хармс и Сологуб в Николаенко, по крайней мере, в "Убить Бобрыкина". Я не слышу никого, хоть отдаленно похожего на Платонова или Белого, или Бунина, или Пильняка, но может быть, и без них неплохо, хоть я их и люблю.
Тот, кого я хотела бы добавить в современную прозу, – это Чехов, снова и ещё немного Чехова, и Лесков, и ещё "Капитанскую дочку" – то есть простую, умную, летящую прозу, написанную живым, ясным, человеческим языком. По возможности, языком XXI века, а не 60-х годов ХХ.
Вадим Муратханов - поэт, прозаик, критик, эссеист, переводчик, соредактор журнала «Интерпоэзия»:
Никто из пишущих не способен в точности определить состав своей поэтической крови. Мы лишь приблизительно можем предположить, каков в ней процент того или иного автора, направления.
Трудно дать односложный ответ на этот вопрос. Не только из-за необъятности темы и огромного количества фигур, оказывающих влияние на современных литераторов, но и потому, что русская литература сегодня разделена на страты, в каждой из которых свои иерархии и системы координат.
На уровне поэтики для меня очевидно влияние, которое оказывают на многих своих собратьев такие современные поэты, как Владимир Гандельсман, Инга Кузнецова, Фёдор Сваровский, Борис Херсонский, Александр Кабанов… При этом, есть целый ряд не менее значительных поэтов, которые прокладывают своим творчеством настолько извилистое русло, что оно не предполагает последователей.
Мне интересней в данном случае коснуться механизма этого влияния.
Классики уровня Мандельштама, Цветаевой или Бродского, как правило, влияют на формирование поэта напрямую. С ними знакомятся и ими заболевают еще в школе.
Менее мощные источники света начинают облучать литератора по мере его взросления, причем нередко отраженным светом. Молодой автор посещает литературную студию, ведёт которую наставник, в свое время сложившийся, например, под влиянием Самойлова, или Тарковского, или Заболоцкого. Наставник приносит за пазухой уголёк из чужого костра, и неофиты простодушно греются возле него, пока не придет для них час отправиться путешествовать в одиночку.
Никто из пишущих не способен в точности определить состав своей поэтической крови. Мы лишь приблизительно можем предположить, каков в ней процент того или иного автора, направления – так же как не можем без лабораторного обследования ответить, какие химические элементы осели на дне наших лёгких к нашему нынешнему возрасту. («Когда б вы знали, из какого сора…»)
Классики уровня Мандельштама, Цветаевой или Бродского, как правило, влияют на формирование поэта напрямую. С ними знакомятся и ими заболевают еще в школе.
Менее мощные источники света начинают облучать литератора по мере его взросления, причем нередко отраженным светом. Молодой автор посещает литературную студию, ведёт которую наставник, в свое время сложившийся, например, под влиянием Самойлова, или Тарковского, или Заболоцкого. Наставник приносит за пазухой уголёк из чужого костра, и неофиты простодушно греются возле него, пока не придет для них час отправиться путешествовать в одиночку.
Никто из пишущих не способен в точности определить состав своей поэтической крови. Мы лишь приблизительно можем предположить, каков в ней процент того или иного автора, направления – так же как не можем без лабораторного обследования ответить, какие химические элементы осели на дне наших лёгких к нашему нынешнему возрасту. («Когда б вы знали, из какого сора…»)
Елена Сафронова - литературный критик-публицист:
В связи с засильем автофикшна и "литературы травмы" в текущей русской прозе, я бы сказала, что на неё точно повлиял Ф. М. Достоевский с "Записками из мертвого дома". И все прочие авторы, которые завели традицию писать о себе и о своих переживаниях, максимально сближая героя с автором. Поэзии это, кстати, тоже касается. Волна литературы травмы длится примерно два последних года. Ярчайший пример - Васякина, написала уже три тома на стыке прозы и поэзии; в поэзии - Рымбу, Малиновская.
Александр Марков - профессор РГГУ, литературный критик:
Блок и Бродский влияют в том же смысле, в каком, например, боевики влияют на поведение “крутого парня” в любой стране: не столько учат приемам, сколько дают начальное принятие крутизны.
Ответ на Ваш вопрос требует знания конфигурации литературного поля. Если брать его широко, то последний поэт, влияние которого однозначно прослеживается — это Блок, усвоенный в оттепельный период. Вокруг Блока была произведена сборка поэтического, условный Луговской или Тихонов были прочитаны как отблески единого поэтического вдохновения, а Маяковский или Багрицкий стали маркированы не как принадлежность поэтического общения вообще, но как часть определенной программы: молодежной, протестной, близкой рок-культуре.
Если говорить о более узком сообществе, определяющем себя как профессиональных игроков литературного поля, то здесь последний поэт — Бродский. Это не значит, что ему подражают. Бродский — это как Мерилин Монро или Элвис Пресли, так что любые другие явления Америки мы будем соотносить с ними, и даже панк-рок будем мыслить как ставший возможным именно в такой Америке.
При этом, конечно, всякий волен ориентироваться на панк-рок, а не на глэм-рок, но влияние и означает, что ориентированию предшествует принятие того, что вообще такие ценности свободной поэзии существуют. Поэтому Блок и Бродский влияют в том же смысле, в каком, например, боевики влияют на поведение “крутого парня” в любой стране: не столько учат приемам, сколько дают начальное принятие крутизны.
А если говорить о влиянии зарубежного, то здесь всё просто: было два канала, условно контркультурный И. Кормильцева, от Берроуза до Паланика, и условно “Иностранной литературы” от Борхеса до Эко. Эти два канона и работают при выборе или образности и энергии поэтической строки, или сюжетного наполнения прозы.
Марина Кудимова - поэт, прозаик, переводчик, эссеист, историк литературы, культуролог, лауреат литературных премий:
Почти каждое тело Солнечной системы продублировано, т.е. ему соответствует другое тело, близкое по массе и диаметру, причём тела, входящие в дубль, как правило, находятся на соседних орбитах. Аналогичная ситуация в нашей литературе: Пушкин – Лермонтов, Толстой – Досто-евский, Тютчев – Фет, Тургенев – Некрасов, Чехов – Бунин, Блок – Маяковский, Пастернак – Есенин, Шолохов – Андрей Платонов, Ахматова – Цветаева, Рубцов – Ю.Кузнецов, Евтушенко – Вознесенский.
Согласно теории пулковского астронома К.П. Бутусова (1929– 2012), Солнечной системе присуще «свойство дублетности». Почти каждое тело Солнечной системы продублировано, т.е. ему соответствует другое тело, близкое по массе и диаметру, причём тела, входящие в дубль, как правило, находятся на соседних орбитах: Юпитер – Сатурн, Нептун – Уран, Земля – Венера, Марс – Меркурий.
Практически аналогичная ситуация в нашей литературе: Пушкин – Лермонтов, Толстой – Достоевский, Тютчев – Фет, Тургенев – Некрасов, Чехов – Бунин, Блок – Маяковский, Пастернак – Есенин, Шолохов – Андрей Платонов, Ахматова – Цветаева, Рубцов – Ю.Кузнецов, Евтушенко – Вознесенский. В этом контексте сентенция «Пушкин – солнце русской поэзии» из пустой и комплиментарной превращается в «научно обоснованную» и хотя бы чуть приоткрывает завесу тайны русской литературы.
Что же до литературных одиночек, то их, не подверженных дублетности, объяснил уже Юрий Михайлович Лотман: «Параллельно бинарной модели в русской литературе… активно действует тернарная модель, включающая мир зла, мир добра и мир, который не имеет однозначной моральной оценки и характеризуется признаком существования. Он оправдан самим фактом своего бытия… В основе тернарной модели лежит совмещение противоречивых структур». Одиночки и «противоречивые структуры» при внимательном анализе органично вписываются в систему по принципу «третьего пути». Так, Гоголь контаминировал классический европеизм Пушкина с радикальным романтизмом и модернизмом Лермонтова (эти понятия неразрывно сольются только в Серебряном веке), щедро сдобрив оба начала южнорусским и раблезианским барочным элементом (Рабле – уроженец Турени, изобильным плодоношением сходной с Полтавщиной).
Бинарная, или парная, модель при относительной закрепленности позиций не является нераздельной и несменяемой. Это отражено, к примеру, в известной полустрофе Вл. Соколова:
Со мной опять Некрасов
И Афанасий Фет,
где остросоциальная «рифмованная проза» Некрасова объединена с безглагольной супрематистской лирикой Фета. Точно так же дело обстоит и в тернарной модели. Например, у Э. Багрицкого:
А в походной сумке -
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...
Если невозможно писать стихи после Освенцима, то после II Мировой в России нельзя копировать бесшовные формы Пушкина, хотя все бессознательно пользуются созданным им поэтическим языком. Лермонтовская метафизика и внутренняя драматургия материали-зовались в творчестве целой плеяды поэтов от Бродского до Гандлевского и от Б. Рыжего до Д. Новикова.
У обеих моделей просматриваются свои периоды активности и затишья и свои особенности взаимодействия. В частности, доминирование одного и рецессивность другого в бинарной оппозиции. Так, в ключевой двоице русской поэзии: Пушкин – Лермонтов безусловно «победил» второй. Это связано с тем, что гармонический строй Пушкина не породил и – в силу совершенства игры – не мог породить поэтической школы. У последних «пушкинианцев» – Давида Самойлова или Беллы Ахмадулиной – гармония все же носила имитационный характер. Если, по Т. Адорно, невозможно писать стихи после Освенцима, то после II Мировой в России нельзя копировать бесшовные формы Пушкина, хотя все бессознательно пользуются созданным им поэтическим языком. Лермонтовская метафизика и внутренняя драматургия, разумеется, при прочих многочисленных вкраплениях и прямых влияниях, что абсолютно неизбежно в культурном контексте конца ХХ – начале XXI вв,, материализовались в творчестве целой плеяды поэтов от Бродского до Гандлевского и от Б. Рыжего до Д. Новикова.
В прозе, на мой взгляд, борьба малых планет продолжается в орбитах Достоевского и Л. Толстого – или, если угодно, наоборот – и исход ее далеко не ясен. Победит идеология или мораль? Многоступенчатый, с обилием придаточных, стиль или невротическая скороговорка? Возобладает, условно говоря, А. Мелихов или В. Пелевин? Не берусь предсказать, тем более что в борьбу постоянно вовлекаются третьи силы – Гоголь, Платонов и др. Поэтому в современной прозе царит эклектика или неразличимая бесстильность.
В прозе, на мой взгляд, борьба малых планет продолжается в орбитах Достоевского и Л. Толстого – или, если угодно, наоборот – и исход ее далеко не ясен. Победит идеология или мораль? Многоступенчатый, с обилием придаточных, стиль или невротическая скороговорка? Возобладает, условно говоря, А. Мелихов или В. Пелевин? Не берусь предсказать, тем более что в борьбу постоянно вовлекаются третьи силы – Гоголь, Платонов и др. Поэтому в современной прозе царит эклектика или неразличимая бесстильность.



